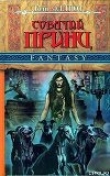Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– Будьте уверены, гражданочка, никакой силой в колхоз не потянем! А вот лично вас, я сомневаюсь даже, примут ли туда с такими кулацкими настроениями…
– Наплевала я на ваш колхоз!
Женщина повернулась, высоко вскинула голову и, плавно покачивая бедрами, пошла глубокой тропкой к новому, обшитому тесом дому.
На улице не осталось больше ни души. Трубников потоптался на месте, оглядываясь кругом, и заметил неподалеку школу, узнав ее по вывеске. Больше-то она ничем не отличалась от других домов. Он пошел туда, надеясь встретить школьников или учителя.
С давно забытым волнением детских лет и смешной робостью поднялся на школьное крылечко и вошел в сени. На двери слева, обитой рыжим войлоком, висел замок, дверь справа была не заперта. Ни ровного голоса учителя, ни детского шума не было слышно за ней. Занятия, должно быть, кончились.
Трубников, волнуясь почему-то, осторожно приоткрыл дверь в класс и увидел пустые парты, изрезанные ребячьими ножами, голубой глобус на окне, а у стены большую черную доску. Крупными буквами на ней записаны были мелом задачи на дом:
1. Из 48 хозяйств нашей деревни вошло в колхоз 45. Какой процент коллективизации в деревне?
2. В нашей деревне 232 жителя, из коих 8 престарелых и 51 дошкольного возраста. Среди остального населения 39 являются неграмотными, но 32 из них учатся в ликбезе. Выразить в процентах количество грамотных, ликбезников и неграмотных.
С большим трудом Трубников решил в уме первую задачу, вторая оказалась непосильной ему. Смущенно закрыв дверь, он вышел на цыпочках опять на крыльцо. Где-то за домом стучал топор. Спустившись с крылечка, Трубников повернул за угол.
Во дворе школы мальчик лет двенадцати, в обтрепанном пальтишке и больших подшитых валенках, колол дрова, а грузная старуха в белом холщовом фартуке, видно сторожиха, собирала их в охапку.
– Не проводишь ли меня, мальчик, к председателю колхоза? – поздоровавшись, спросил Трубников.
– Ступай, Рома! – ласково сказала сторожиха, разгибаясь тяжело с ношей. – И так уж много наколол. Хватит.
Взглянув мельком на Трубникова, мальчик воткнул топор в чурбан и устало поправил съехавшую на лоб заячью ушанку. Темноглазое бледное лицо его не по годам было серьезно, даже хмуро.
– Печку я сам, тетя Таня, затоплю, как вернусь, – грубовато сказал он сторожихе и уже внимательно и смело поглядел на Трубникова.
– Пошли. Тятька в правлении сейчас.
Подражая взрослым, он медленно и вразвалку, заложив руки за спину, зашагал вперед, даже не оглянувшись, идет ли за ним приезжий.
Улыбаясь в усы, Трубников покорно двинулся за ним. Догнав у дороги, пошел рядом и тоже грубовато и деловито спросил:
– Дежуришь, что ли?
– Ага. У нас все старшие дежурят. По череду.
– Это вы правильно.
– А то нет? Она же совсем хворая. Тяжело одной-то.
Как и подобает настоящему мужику, мальчик не торопился с расспросами, выжидая, что же скажет приезжий.
Прошли молча почти половину улицы, когда он, оборотясь к Трубникову, поинтересовался равнодушно:
– Зачем к бате-то?
– По колхозным делам.
– Из райкома, поди?
– От райкома.
– Я уж вижу. Долго у нас будете?
– Долго.
Мальчик помолчал, подумал, оглянулся назад и с дружеской покровительственностью предупредил:
– Тут ходи, да опасайся, смотри!
– А что?
– Тятенька вон третьего дня ночью как загвоздили поленом из-за угла…
– Кто?
– Кто, кто! – сердито передразнил мальчик. – Кулаки да подкулачники, вот кто. Сам понимай, не маленький.
Трубников совсем не обиделся и смолчал. Это сразу расположило к нему сурового провожатого.
– За мной, брат, раз тоже погнались, да я убег, – смущенно признался он, уже доверчиво глядя на Трубникова.
И начал горячо и торопливо оправдываться: – Так ведь их небось трое было! А я один. Да и то кабы наган у меня, ни в жись не убег бы!
Помолчал и вздохнул с завистью:
– У тебя, поди, есть! Ты не бойся, я никому не скажу. Могила.
– Есть, – сам удивляясь своей откровенности, неожиданно признался Трубников.
– Важно. Потом покажешь?
– Покажу. Ты ведь пионер?
– Беспартийный, – грустно признался мальчик. – В нашей деревне пионеров нету. В Степахине – там есть, а у нас нету.
– А комсомольцы у вас есть?
– Один был, Федя Кузин, да и того в Красную Армию забрали.
– А ты почему не комсомолец?
– Батя говорит, по годам не вышел, да потом, говорит, туда активных только принимают…
И, подняв на Трубникова горящие голубой обидой глаза, мальчик гневно и горько пожаловался:
– А, я что, не активный, что ли? Как посылать куда, в сельсовет, али в Степахино с пакетом, так небось сразу ко мне: «Ромка, слетай, да живее!» В Степахино не один раз даже ночью бегал. А лесом-то, знаешь, как страшно! Бедноту когда ежели собрать – опять же я. Тоже и в школе я завсегда за Советскую власть стою и за колхоз, хоть у Анны Степановны спроси. А тут как до комсомола дошло, так не активный…
В голосе мальчика зазвенели слезы.
– За дровами небось в засеку поезжай Ромка один, а как дошло до комсомола, так я маленький. Да я, кабы дали, и пахать стал бы, не глядя, что маленький. Мы лонись с Васькой Гущиным целую полосу Матрене Клюкиной вспахали. У ней лошадь есть, а некому пахать-то: мужик помер. Вот мы и пошли с Васькой на помочь. Жалко ведь: беднота. Пахали за так, а она меду нам чуть не целое блюдо принесла. Я ей говорю, что мы за так, а Васька толкает меня: «Молчи». Мне тоже страсть как меду хотелось. Уж, ладно, думаю. Мигаю Ваське: «Хоть много-то не ешь!» А он безо всякой совести ест и ест. Я гляжу: «Все равно ничего не оставит». Стал и я есть, хоть и совестно. Так все и поели.
Мальчик мечтательно улыбнулся.
– До того, брат, наелись, что на сон поволокло. Как легли в сенник, так до утра нас не могли разбудить.
«Экой мальчишка славный! – дивился про себя Трубников. – Хорошая нам смена из таких будет».
Теплая волна отеческой нежности поднялась у него изнутри, мягко окатило сердце, подступило к горлу, защипало глаза.
Он ласково обнял одной рукой мальчика за плечо.
– Не тужи, Роман! Примут тебя в комсомол. Уж это я тебе верно говорю.
Мальчик сдвинул на затылок шапку и весело подмигнул Трубникову.
– Я тоже думаю, примут. Я ведь толковый. Мне бы только года вышли.
Спустившись с горы, миновали мостик через замерзший ручей и опять стали подниматься в гору. Впереди шел какой-то мужик в кошачьей ушанке и новых желтых рукавицах. Он шел медленно, опустив голову и часто останавливаясь; наверное, был тяжело больной. Один раз мужик даже повернул обратно, раздумав, должно быть, подниматься в гору, но потом все же пошел вперед.
Обгоняя его, Трубников удивился, что это не больной вовсе, а румяный русобородый мужик с открытым лицом и умными светлыми глазами.
– Вон где правление-то! – указал мальчик варежкой на большую старую избу с красным флажком на крыше крыльца. – Видишь?
– Вижу.
– Теперь один иди, а то меня тетя Таня ждет.
– Ну, беги. Спасибо тебе.
– На здоровье.
Уже подходя к правлению, Трубников оглянулся. В гору поднимался обоз с сеном. Мальчик и мужик в кошачьей шапке, свернув с дороги, стояли рядом в снегу, пережидая, когда пройдет обоз. Сидевшие на возах бабы и девки со смехом и криком погоняли лошадей. На переднем возу сидела краснорожая баба в овчинном тулупе и отчаянно лупила пузатую лошаденку кнутом, то и дело дергая вожжи. Лошаденка, хрипя и мотая головой, семенила ногами, но не бежала, выбившись из сил.
– Тетка Дарья, не гони в гору-то! – услышал Трубников сердитый крик мальчика. – Тяжело ведь коням-то.
– Бабоньки! – ахнула на втором возу молодуха в белой шали. – Указчик какой нашелся!
– Ишь ты, сопливик! – зло удивился бородач с третьего воза. – Командир какой! Думаешь, председателев сын, так и кричать на людей можешь?
– Неладно, братцы, делаете! – вступился за Ромку мужик в кошачьей шапке. – Так и лошадей спортить недолго.
– Свою бывшую жалеешь, дядя Тимофей? – засмеялась молодуха в белой шали. – Она теперь не твоя, обчая. Не расстраивайся зря.
Обоз повернул на задворки, должно быть, к скотному двору. Мальчик вышел на дорогу и бегом пустился с горы, а мужик зло плюнул, махнул рукой и, крупно шагая, стал догонять Трубникова.
Не успел Трубников обмести в сенях веничком сапоги, как мужик тоже поднялся на крыльцо правления и быстро вошел в сени. Лицо его было угрюмо и решительно. Но, уже взявшись за скобу, он вдруг увидел чужого человека и, будто желая дать ему дорогу, остановился в нерешительности у двери.
– Проходите вперед, папаша! – вежливо сказал ему Трубников.
В правлении сидело на лавках и просто на полу много людей. За столом рылся в бумагах черноусый костлявый человек в выцветшем пиджаке и полосатой синей рубахе.
Должно быть, это и был Синицын.
Все разом смолкли, увидев Трубникова. Он поздоровался и поискал глазами место, где бы сесть. Краснолицый мужичок с курчавой русой бородкой живо поднялся с лавки:
– Присаживайтесь.
Трубников поблагодарил и сел. Минуты две никто не говорил ни слова. Все настороженно и несколько неприязненно ждали, что скажет приезжий, желая узнать, откуда он и что ему здесь нужно. Но приезжий не торопился разговаривать. Он снял шапку и положил ее на подоконник, потом закурил папиросу, громко щелкнув портсигаром, и сам принялся с интересом оглядывать людей.
– Откуда будете? – начальственно спросил Синицын, устав ждать.
– Командирован сюда.
– Документы есть?
Все молча, любопытно следили за лицом председателя, пока тот читал командировочное удостоверение. Но вот он поднял голову, усы его шевельнулись в улыбке, а глаза приветливо блеснули.
– Данный товарищ послан партией на подмогу нам из города. Трубников Андрей Иванович.
Люди оживленно загалдели, полезли в карманы за кисетами, уже доверчиво взглядывая на приезжего.
– Может, отдохнуть желаете с дороги? – участливо предложил Синицын. – У нас тут заседание правления с активом. Не скоро управимся.
– Не беспокойтесь, – отмахнулся гость, – продолжайте, пожалуйста. Я тоже послушаю.
Синицын перевел посторожевший сразу взгляд на мужика, вошедшего вместе с Трубниковым.
– Тебе чего, Тимофей Ильич? Говори, да скорее. Видишь – некогда нам сейчас.
Мужик достал из-за пазухи какую-то бумажку, положил ее на стол и опять отошел к порогу.
Взглянув на нее, Синицын посуровел еще больше и быстро поднял голову.
– Кто писал тебе это заявление?
– Так ведь сам я грамотный, Иван Михайлович.
– Врешь. Не твоя это рука. Меня не обманешь, я вижу. Кулацкая рука писала тебе данное заявление!
Мужик ничего не ответил, глядя угрюмо в угол. Грозно сверкнув на него глазами, Синицын бросил заявление на край стола.
– Ты поддался злостной кулацкой агитации! Бери сейчас же его обратно. Пока не поздно, одумайся. Иди.
Но мужик не взял заявления, а, держась уже за скобку, сказал решительно:
– Так что, Иван Михайлович, прошу меня из колхоза выключить. А силой держать – нет у вас такого права…
– Значит, по-твоему, силой тебя заставили в колхоз вступить? – уставился на него красными глазами Синицын.
– Силой не силой, а все ж таки…
– Ну, ну, договаривай.
– Понужали, все ж таки.
У Синицына лицо покрылось багровыми пятнами.
– Вас не понужать, так вы до самого коммунизма на своей полосе будете сидеть. А нам ждать некогда. Хватит, пожили в нужде-то!
С трудом уняв дрожь в руках, он сел и глухо спросил мужика:
– Какая же твоя причина? Говори.
– Не могу я, Иван Михайлович, без сыновей на такое дело решиться. А как они будут не согласны? Тогда что?
– Опять врешь. Сыновья у тебя все трое на заводе работают в городе. Нам это известно. Не будут они препятствовать тебе. Бери заявление-то!
– Нет уж, выключайте, – надевая шапку, сказал мужик, но без прежней уверенности.
– Н-ну, смотри, Тимофей Ильич! – постучал пальцем по столу Синицын. – Раз ты на кулацкую сторону подался, то и у нас другой разговор с тобой будет.
Ни на кого не глядя, мужик постоял недвижно у двери в тяжелом раздумье, вздохнул и вышел, медленно закрыв за собою дверь.
Все долго и тягостно молчали, только слышно было, как сердито ворошил Синицын бумаги на столе.
– Саботажники! – исступленно закричал он, хватая со стола в горсть кучу затасканных и мятых листков и потряхивая ими. – Поддались кулацкой агитации! Ведь это что же, товарищи? Развал колхоза! Шесть заявлений о выходе. И все от середняков! Они разваливают, а мы тут слюни распускаем…
Вытерев мокрый лоб рукавом, Синицын сел, тяжело дыша.
– Что будем делать?
Не ожидая ответа, вскочил опять и рубанул по столу ребром ладони, тонко и протяжно крича, словно отдавая команду к атаке:
– Данных злостных саботажников немедленно вызвать всех сюда поодиночке и каждому строго внушить. Ежели который не послушает добром, обложить твердым заданием. Хватит нам нянчиться и с такими, которые уклоняются от колхоза под видом своей малой сознательности. Тоже сюда вызвать.
Красные, воспаленные глаза его остановились на Трубникове, требуя одобрения и поддержки.
– …А приезжий товарищ – Андрей Иванович поможет нам. Что касаемо кулацкой агитации, то ее пресечь в корне. Этим вопросом теперь займется гепеу. Не допустим, чтобы кулаки и поддавшиеся им некоторые середняки разваливали нам колхоз. Пусть привлекут их по всей строгости. Возражения есть?
– Согласны! – выкрикнул торопливо мужичок с курчавой маленькой бородкой, уступивший давеча Трубникову место.
Остальные молчали, глядя в разные стороны.
– Послушать бы, что скажет приезжий товарищ, – словно вслух подумал сидевший у окна большелобый, чисто побритый молодой мужик в старой кожанке и круглой финской шапке, по виду мастеровой.
– Верно, Елизар Никитич, – несмело поддержал его кто-то от порога.
– Ну что ж, послушаем, – разрешил Синицын, вопросительно и одобряюще поглядывая на Трубникова.
Пройдя к столу, Трубников очень уж долго приглаживал рукой смолисто-черный чуб на правую сторону, тяжело хмуря брови.
Краснолицый мужичок с курчавой бородкой, не мигая, уставился ему в лицо, Синицын беспокойно заскрипел сзади стулом, а сидевшие на полу люди торопливо подобрали ноги, устраиваясь поудобнее.
Вскинув голову и обведя всех спокойными рыжими глазами, Трубников сказал тихо и твердо:
– Я не согласен, товарищи.
3
Из правления давно уже ушли все, кроме мужика с курчавой бородкой, а Синицын как сидел за столом, уронив на правую руку серую от проседи голову, так и не ворохнулся ни разу.
– Вот что, товарищ Трубников, – после долгого раздумья заговорил он глухо и спокойно, – хоть вы и на подмогу нам присланы, а в делах наших, как вижу, разбираетесь плохо и партийную линию понимаете неправильно.
Запавшие от усталости и тревог темные глаза его остро сверкнули вдруг, а усы торчком встали на худом, измученном лице.
– Закрой дверь на крюк, Савел Иванович! – понизив голос, приказал он. – Огня зажигать не надо, посумерничаем. Да от окошек-го подальше сядьте, за простенки.
Смахнул со стола шапку, лежавшую перед ним, и, подперев щетинистый подбородок обеими руками, подозрительно и строго спросил Трубникова в упор:
– Вы до сего где работали?
– На фабрике, на кондитерской. А что?
– Рабочим?
– Лет пятнадцать рабочим, а последние два года мастером.
– По сладкому делу, значит? – усмехнулся Синицын.
– По сладкому, выходит.
– Та-ак? – сердито обрадовался Синицын, доставая кисет и швыряя его на стол. – А я, брат, по горькому тут. Всю жизнь. Сладкого-то немного перепадало мне. И вот я теперь спрашиваю вас, товарищ уполномоченный: откуда можете вы знать деревенскую жизнь нашу и как вы об этой жизни правильно судить можете, ежели вы ее в глаза не видывали? Я же с пеленок тут, возрос на этой земле, каждого здесь насквозь вижу и каждого чую, чем он дышит. А вы меня учить взялись, наставляете, как середняка от кулака отличать и как с ним обращаться…
Горько улыбнувшись, Синицын покачал головой.
– Выходит даже, по-вашему, что я левый загибщик и, дескать, кулаки мне за мою линию только спасибо скажут…
– Верно.
Синицын медленно привстал и, перегнувшись через весь стол, уставился гневными немигающими глазами на Трубникова.
– Да я… Кому ты это говоришь? Да знаешь ли ты, уполномоченный, что я тут каждый день под топором хожу? Вот как любят они меня, кулаки-то! А я их, только дай команду, хоть сейчас в распыл пущу самолично. За нашу родную Советскую власть я жизни не жалел и не пожалею. Веришь ты али нет?
– Знаю и верю, – тихо ответил Трубников, не опуская глаз перед негнущимся взглядом Синицына.
Тот медленно опустился на стул и, повернувшись к Трубникову боком, зло прищурил глаз.
– Середняка, значит, жалеешь? Так, так. Походил бы ты вокруг середняка-то, другое бы запел. Все они как есть собственники с кулацким наклоном. Уж я-то их знаю, спытал, какие они есть! Кто нам не дал Бесовых раскулачить? Они. Сколь ни бились мы ня собрании с ними, а переломить не могли. Говорим, говорим, уж, кажется, убедили, а как начнем за раскулачивание голосовать, – не поднимают рук, да и шабаш. Вот те и середняки!
Синицын сжал костлявый кулак и грозно покачал им.
– Пока их вот здесь держишь, они за Советскую власть, а как выпустил – контра! Верно говорю, Боев?
– Сущую правду! – эхом отозвался из угла мужик с курчавой бородкой и вскочил вдруг, быстро поглядывая то на Синицына, то на Трубникова. – Ведь что делают! Тронуть кулака не дают. И все потому, что сами кулацким духом заражены. Позавчера я, как член сельсовета, пошел к Бесовым на мельницу. С обыском. Слух был, что хоронят они на мельнице хлеб свой от государства. Взял я понятых с собой – братьев Гущиных, оба они середняки считаются, да Григория Зорина, ну, этот как есть бедняк. Пришли мы на мельницу – верно: девять мешков пшеницы оказалось лишних. Ясно, что хозяйские это, припрятаны. Однако спрашиваю: «Чьи?» И Назар Гущин говорит вдруг: «Вот эти пять мешков, братцы мои, я их третьеводни Кузьме Матвеичу молоть привез. Истинный бог, не сойти мне с места!»
И Костя, братан его, тоже признал четыре мешка своими, даже метки вроде как свои нашел на них. А Григорий Зорин, видя такое дело, заробел и тоже не стал акта подписывать. Ну что станешь делать? Чужую пшеницу не возьмешь! Так и ушел я ни с чем. А Кузька, тот, стервец, только посмеивается: «Ежели бы, – говорит, – мешки эти не гущинские, а твои, Савел Иванович, были, так мы бы, – говорит, – с большим удовольствием их государству отдали. Нам не жалко…»
– Сколько же у вас в деревне середняков? – сухо перебил его Трубников.
– Да ведь как вам сказать, – опешил Боев, садясь на место и уставясь в пол. – Хозяев тридцать, если не больше…
– А бедняков?
– Тех немного, девять всего.
– Ну, а кулаков?
За него сумрачно ответил Синицын:
– Считаем – двое: Бесовы Яшка с Кузьмой. Мельники эти самые.
– Мда-а! – протянул Трубников, круто завинчивая правый ус, так что верхняя губа приподнялась, обнажив частые белые зубы. – Значит, вас, коммунистов, двое тут в деревне и кулаков тоже двое. За вас вся Советская власть стоит, а кулаки хоть и власти не имеют, хоть и лишены прав, но лупят вас и в хвост, и в гриву: план хлебозаготовок срывают – это раз, колхоз разваливают – это два, а попробовали вы ликвидировать их – они вас по зубам! – это три. Как же так получается, товарищи дорогие, а?
Оба – и Синицын, и Боев – ошеломленно и сердито молчали. А Трубников, не переставая обидно удивляться, развел руками:
– И линия у вас, как говорите, правильная, и проводите вы ее твердо, жизни не щадя, можно сказать, но почему же вас бьют?
Глядя в сторону, Синицын дробно стучал жесткими ногтями по столу, а Боев, облокотившись на колени, еще ниже опустил голову.
– Угощайтесь.
Трубников щедро высыпал перед ними на стол все свои папиросы, но оба молча и враз потянулись за кисетом с махоркой.
– Да потому вас и бьют, – резко щелкнув портсигаром, закричал вдруг он, – что наступать не умеете. В атаку на Бесовых без середняка пошли, без союзника! Да много ли вас тут, одной бедноты-то? Уж ежели наступать, так надо, как на войне, – дружно, всем эскадроном. А вы? Десятком, во весь опор, выскочил вперед: «ур-ря!» Эскадрон за полверсты сзади остался, на рысях идет, еще и в лаву не развернулся, а вы до того зарвались, что чешете без оглядки и уже с противником сближаетесь. Тут он вас, голубчики, одних-то и пор-рубит в капусту да потом и начнет весь эскадрон без командиров-то крошить!
К концу своей горячей речи Трубников уже стоял среди избы, широко расставив кривые ноги и размахивая кулаками.
Опомнившись, сел опять на лавку.
– Я дивлюсь еще, как вам до сих пор голов тут не снесли!
Очевидно, стыдясь своей горячности, заговорил теперь уже совсем тихо и спокойно:
– Вот сегодня к вам приходил мужичок при мне, с заявлением насчет выхода из колхоза. Тимофей Ильич, кажется. Фамилии его не знаю я…
– Зорин, – подсказал Синицын мрачно.
Трубников улыбнулся.
– Он середняк ведь, контра, как вы говорите. Чего же тогда за него держитесь, из колхоза не отпускаете?
– Про Зорина этого не говорим, – поднял голову Боев. – Зорин, верно, из хозяйственных, но мужик лояльный, справедливый. К нему и народ сильно прислушивается. Ну только иной раз Тимофею Ильичу тоже вожжа под хвост попадает…
– Зорина из колхоза нельзя отпускать никак, – вмешался твердо Синицын. – Он за собой многих утянуть может.
– Ага! – вскинулся Трубников. – Поняли, значит, кто ваш союзник-то! Поняли, значит, что без него вам и колхоза на ноги не поставить, и Бесовых не разгромить!
Покачал головой с тяжелым укором и сожалением:
– Только давно уж, Иван Михайлович, сами вы из колхоза-то отпустили его!
– Это как же так? – сердито насторожился тот.
– Да вот так. Взгляни-ка хорошенько на его заявление-то: оно ведь все в дырах! Небось не одну неделю Тимофей Ильич его за пазухой таскал. С месяц уж, видать, как задумал он из колхоза-то уйти, да все не решался, побаивался. А вот почему задумал уйти? Как вы на этот счет полагаете?
Трубников требовательно глядел по очереди на обоих, ожидая ответа, но так и не дождался.
– Обидели вы его! Первый раз обидели, когда в колхоз силой загнали. Да он бы эту обиду пережил, потому что сам не против колхоза, сам в него пришел бы, только вы ему подумать не дали, не убедили толком. Не успел он от первой обиды в себя прийти, как вы его опять обидели.
– Когда? – шевельнул усами Синицын.
– Сегодня. Ведь он пришел к вам на непорядки жаловаться, а заявление-то сгоряча подал. У него сердце болит, что в колхозе порядка нету и никто ни за что не отвечает. Скоро вон сев, а на чем пахать будете? Лошади-то у вас до того худы, что на них только дым возить! «Да в таком колхозе, – думает Тимофей Ильич, – того гляди, без хлеба останешься!» И все же не ушел бы он из колхоза, кабы его выслушали и поняли. А вы не то что выслушать, накричали на него, припугнули да еще на одну доску с кулаком поставили. После этого удержишь разве его в колхозе? А куда он пойдет сейчас? Куда вы толкнули его, туда и пойдет: к Бесову. Больше-то ему сейчас идти некуда. А не пойдет, так Бесов сам за ним явится. Ему союзники нужны, без них он пропал. Он-то это лучше нашего понимает.
Трубников замолчал, и все трое, не глядя друг на друга, долго сидели в суровой тишине.
– Ежели мы и дальше так дело поведем, – первым не выдержал Трубников, – развалится наш колхоз. А нас всех…
И улыбнулся, взглянув на Синицына и Боева, которые сидели, нахохлившись, словно грачи в дождь.
– …нас всех отсюда по шапке да еще снегу в штаны насыпют, как мне тут одна гражданка сегодня посулила.
– Эта какая же гражданка? – впервые оживился несколько Синицын.
– Да я ведь никого не знаю тут. Она меня нарочно у колодца поджидала, чтобы обрадовать. «В колхоз, – спрашивает, – загонять нас приехали?» И пошла чесать! Вы ей тут насолили, а попало-то мне.
– Из себя-то какая она? Пожилая али молодая, – смеясь, допытывался Боев.
– Молодая. Красивая такая, в черной жакетке, носик аккуратный, а глаза вроде как синие…
– По всем приметам, Настька Бесова, – догадался Боев. – Она, вишь, кулацкого роду, и к тому же одна сейчас, без мужа. Зла в ней много должно скопиться.
– Где же у ней муж?
– А вот тот самый, что насупротив вас сидел, в кожанке-то. Кузовлев Елизар. Мы его тут на курсы послали, учился он там на тракториста. А она тем временем вильнула хвостом, взяла да и ушла к своим родителям.
– Почему же!
– Кто их знает, – почесал в затылке Боев. – Надоело, видать, у Елизара в бедности жить, да и сердце не лежало к колхозу. Выключилась тут без него. Нам от нее с Иваном Михайловичем перепало тоже маленько. На язык-то уж больно она бешеная…
Посмеялись, радуясь минутному душевному облегчению, и снова тяжело примолкли.
– Так что же теперь делать-то будем, товарищи дорогие? – со вздохом полез всей пятерней в смоляные волосы Трубников. – Поправлять ведь ошибки-то надо! Давайте-ка народ собирать завтра. Статью товарища Сталина «Головокружение от успехов» обсудим, а также и новый устав колхозный. Признаем все, как есть. Не будем бегать от правды. Али мы не большевики?
Темнея сразу, Синицын покосился на Трубникова.
– Погоди, уполномоченный, не спеши. У нас по этому делу разговор особый с тобой будет.
И повернулся к Боеву.
– Погляди, Савел Иванович, нет ли за дверью кого.
4
Выждав, пока Боев закрыл дверь в сенях и вернулся на место, Синицын поднял на Трубникова тяжелый взгляд.
– А известно ли тебе… товарищ дорогой, что от райкома указание такое имеется – газету со статьей этой придержать пока. До особого разрешения.
– Придержать? – даже привстал Трубников, ошарашенно глядя на Синицына. – Зачем?
– По секрету скажу, – через стол нагнулся к нему Синицын, – месяца полтора тому восстание кулацкое в соседнем районе было. Чуть не поубивали там наших. Ясно тебе? – Не сводя тяжелого взгляда с Трубникова, сказал еще тревожнее: – И у нас тут сейчас у мужиков такое настроение…
– У каких мужиков? – холодно потребовал ответа Трубников.
– А все у тех же, которые живут покрепче да к кулакам припадают, – насмешливо пояснил Синицын. – Про кулаков уж я не говорю.
– У середняков, значит?
– Да уж известно.
– Стало быть, от них вы статью-то прячете?
– А ты как думал?
Синицын отпер ключом стол и вынул оттуда газету. Положив перед собой, придавил тяжелой ладонью.
– Вот она. Третьего дня под личную ответственность дадена. А ты о ней раззвонил тут всем, уполномоченный, и тем самым поставил не только нас, но и всю организацию районную под удар…
Синицын жестко и угрожающе заключил:
– …Так что придется тебе, товарищ дорогой, ответить за это по партийной линии, а может, и не только по партийной. За такие штуки в гепеу сдают. Понятно?
Трубников не вдруг нашел задом стул, потрясенно раздумывая: «А может, и вправду обстановка такая здесь? Может, и вправду директива дана особая из центра в райком? Или же статью эту неправильно я понял?
Но тут же озлился и даже кулаком в мыслях на себя пристукнул: «Сдрейфил, сукин сын? Раком пополз? А что тебе товарищи твои на фабрике наказывали, когда провожали? Не теряй чутья пролетарского, Андрюха, не трусь, держись партийной линии неуклонно. По тебе колхозники судить будут, какой есть наш рабочий класс и какая есть наша партия!»
Вспомнилось, как в вагоне читал он вслух статью в «Правде» своим попутчикам-мужикам, едущим с заработков домой. Один из них, кривой, степенный старик, чуть не со слезами стал просить у него газету: «Дай ты нам ее, голубчик, не дойдет ведь она до нас, не допустят ее, истинный бог! А нам до зарезу она сейчас нужна!» Трубников отдал газету старику, хоть и посмеялся над его наивным опасением. Но посмеялся-то, выходит, зря!
И в райкоме, по приезде, не слышал он разговора настоящего об этой статье. Направлявший его в Курьевку заворг Щеглов чертыхался тихо и сердито:
– Такие дела, брат, тут, а никого, сам видишь, из районного начальства нету. Одни в кабинетах заперлись, отсиживаются, другие заболели вдруг, третьи… – Но, опамятовавшись, добавил уже начальственно: – Поезжай пока на место, знакомься с людьми и обстановкой. Вернется из окружкома секретарь, вызовем всех на инструктаж…
И сам, торопясь куда-то, протянул, не глядя, холодную, как у покойника, руку…
«Да неужели и вправду запрещено даже говорить об этой статье?» – толкнуло Трубникова горячо в сердце.
Кровь бросилась ему в лицо пятнами, в рыжих глазах полыхнул гнев. Еле-еле сдерживая себя, он сказал глухо:
– Я перед партией не побоюсь ответить. А вот вы наломали тут дров с вашим райкомом вместе, а как до ответа дошло – в штаны сразу наделали…
– Насчет райкома полегче, товарищ дорогой, – пригрозил Синицын, приподнимаясь со стула.
– Кто вам дал право запрещать эту статью? – уже закричал, белея, Трубников. – Правды испугались?
Синицын, тоже белый, трясущимися руками то складывал газету вчетверо, то расправлял ее.
– Ты не горячись, уполномоченный, – растерянно сказал вдруг он, глядя в сторону. – Давай рассуждать хладнокровно.
Сел и, охватив голову обеими руками, закрыл глаза.
Помолчали оба, переводя дыхание.
– Сомнение тут нас берет, – хмурясь и избегая глядеть Трубникову в лицо, заговорил первым Синицын. – Коли разговор этот дальше нас не пойдет, могут сказать…
– Говори прямо и откровенно, Иван Михайлович, – с трудом остывая, хрипло попросил Трубников и, вспомнив почему-то Ромкину клятву, твердо пообещал: – Дальше этих стен не пойдет. Могила!
Покосившись на окна, Синицын спросил испуганным шепотом:
– Не случилось ли, думаем, чего с товарищем Сталиным?
– А что?
– Ну, проще сказать, не повредился ли он головой? Может, напоили по злобе лекарством каким-нибудь вредным?
– Да откуда вы взяли? – во все глаза уставился на Синицына Трубников.
Тот поглядел на него с каким-то горьким сожалением, даже с жалостью.
– По статье же этой самой и видно. Как же можно писать такое… в здравом уме?
Растерянно почесывая лоб, весь в жалобных морщинах, Боев зашептал громко и горестно:
– Ведь что же получается-то? Кровью мы колхоз тут сколачивали, а теперь, выходит, – насмарку все? Не можно поверить этому никак, товарищ Трубников, и понять этого нельзя.
Потрясенный, Трубников долго глядел на обоих, не говоря ни слова, и вдруг рассмеялся громко, весело, откинув голову и сверкая частыми зубами.
– Головой повредился, говорите? – и опять так и закатился смехом. Но, заметив сквозь слезы, что Синицын и Боев глядят на него с сердитым недоумением, умолк разом.
Вытирая глаза, уверил спокойно и серьезно:
– Статью свою товарищ Сталин в полном здравии писал, и ее, перед тем как печатать, утверждал в цека, так что статья эта целиком правильная. Она против дутых колхозов направлена…
– Может, она и правильная, – не сдаваясь, упрямо возразил Синицын, – а как только прочитают ее наши колхозники, так и побегут из колхоза вон… Кабы он статью подобную раньше написал, упредил бы нас тогда…
– Бегут уж! – подхватил с отчаянием Боев, вскакивая с места. – Заявления-то нонеча почему сыплют? Да потому, что пронюхали о статье этой. Вчерась, сказывают, в Степахино гонял Тимофей Зорин за этой газеткой, на базаре купил из-под полы за червонец, да и привез сюда. Вот оно откуда все пошло-то!