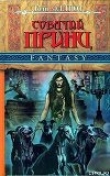Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Приглядываясь ревниво ко всему, что творилось в колхозе, Тимофей с тревожной завистью думал все чаще и чаще: «А вдруг пойдет у них дело-то!»
И совсем лишился покоя, когда в колхоз вернулось пять семей.
Зашел раз в кузницу, по делу будто бы, а самому страсть узнать хотелось, как чинят колхозники плуги да бороны к пашне. Поглядел, похвалил про себя Степашку Рогова: на совесть отковал тот новые лемехи и отрезы для плугов.
Побывал и на конном дворе Тимофей. Вроде бы покурить к артельному конюху Егорушке Кузину зашел, а самому так и не терпелось на лошадей взглянуть, справны ли.
«Нашли кому коней доверять! – ругался он про себя, слушая сердито болтовню Егорушки. – Ленивее-то мужика не было во всей деревне!»
Но заглянул в стойки и подивился: лошади входили в тело. Правда, почищены были плохо.
А Егорушка, сморщив маленькое большеносое личико, жаловался с обидой и гордостью:
– У нас, Тимофей Ильич, насчет порядка шибко строго. Андрей Иванович до лошадей большую любовь имеет и требует правильного обихода. И кормлю, и пою их по часам. Овес даю по весу, как в аптеке. Вон и безмен висит на стене. Упаси бог, ежели какое упущение сделаешь! Онамедь жеребец, прах его побери, ногу увязил в загородке, между жердей, да мало не сломал. И случись тут на грех Синицын с Трубниковым. Синицын, тот сейчас же ко мне: «Для чего же ты, – говорит, – поставлен тут, сморчок, а? Почему ты загодя не поправил загородку в стойле?» Да за вилы! Убил бы меня, истинный Христос, кабы не Андрей Иванович! Спасибо тому, добрая душа, заступился за меня.
Понравилось и это Тимофею. Глядя, как ползет нехотя но красному носу Егорушки мутная слеза, думал: «Тебя, дурака, не учить – так ты всех коней загубишь».
На скотный двор не в час попал Тимофей. Только зашел в ворота, а навстречу – Трубников с Кузовлевым. Хотел уж вернуться поживее, да увидел его Трубников.
– Здорово, Тимофей Ильич! Хозяйством нашим интересуешься? Милости просим.
Глаза рыжие на Тимофея уставил, усы в кольца закручивает, смеется не обидно:
– К нам-то скоро ли надумаешь? Несговорчив уж ты больно, как девица! Придется, видно, к тебе сватов посылать!
Присели все трое на бревнышко, у нового колодца. Елизар спросил:
– Когда пахать-то ладишься, дядя Тимофей?
– Недельки через две…
– Что поздно так? Мы послезавтра зачинать думаем.
Крякнул Тимофей, насупился сразу.
– Кабы не отняли вы у меня полоску на бугре, Елизар Никитич, выехал бы и я денька через три-четыре. А вы меня загнали ноне в самую что ни на есть низину. И посейчас вода там на полосе стоит…
У Елизара почужел голос:
– Землю, Тимофей Ильич, не отнимали мы у тебя, а по закону взяли. Сам знаешь, Советская власть колхозам самолучшую землю дает.
Тимофей с насмешливой покорностью согласился.
– Верно. По закону отняли!
Уже вскинув сердито голову, чтобы ответить ему, Кузовлев настороженно вытянул вдруг шею, прислушиваясь к спору доярок во дворе.
– Хоть бы ты, Марья, соломки под ноги коровам-то кинула! – упрекала одна другую. – А то и глядеть-то жалко на них, все грязью обросли.
– За своими-то лучше глядела бы! – как опаленная, заверещала вдруг Марья. – Приняли тебя в колхоз опять, так выслуживаешься теперь. Больше всех тебе надо, что ли? Навязалась на нашу голову! Как была ты кулацкой породы, такая и осталась…
– Ах ты, подлюка! – зло удивилась та. – Я хоть и кулацкой породы, а коров колхозных не допущу до такой страмоты. Ужо я тебя, шалавая, устыжу при всем собрании, дождешься ты у меня!
Счастливо улыбаясь, Кузовлев повернул сияющее лицо к Трубникову и качнул головой в сторону двора:
– Чуешь? Баба моя. За колхоз ругается!
Но тут обе доярки принялись уже честить друг у друга мужей, бесстыдно добираясь до таких подробностей, что у Кузовлева сначала докрасна накалились уши, а потом и все лицо заполыхало густым румянцем. Обеспокоенно вставая, он заторопил Трубникова:
– Пойдем в поле, Андрей Иванович, еще раз поглядим, какое место пахать-то будем послезавтра.
Мигая Тимофею рыжим глазом, Трубников продолжал сидеть, намереваясь закуривать еще раз и с безжалостным равнодушием говоря:
– Успеем. За два-то дня много еще земли подсохнет…
Тимофей не выдержал, поднялся, закрывая смеющийся рот.
– А при чем тут Андрей-то Иванович! – отчетливо донесся Настин голос. – Он мне ни сват, ни брат.
– Знаем, голубушка! – на весь двор закричала Марья. – Не зря ты перед ним хвостом крутишь. Да и он не мерин небось!
Трубников так и подскочил на месте, дико озираясь и стыдясь поднять на Кузовлева глаза. По худому лицу его пошли бело-розовые пятна.
Тоже не глядя на Трубникова, Елизар с сердцем плюнул под ноги себе и начал вдруг заикаться.
– Го-говорил я те-тебе.
Жалея обоих, Тимофей махнул рукой и заспешил к дому.
«Пойдет ведь у них дело-то, пожалуй! – неотвязно думал он. – Городской-то, по слухам, правильный мужик. Зря никого не обижает. Умеет народом руководствовать. И Синицына, сказывают, частенько осаживает, не дает ему много воли-то».
За чаем сидел хмурый, не глядя на жену и без толку передвигая на столе то соль, то хлеб, то сковородку с жареной картошкой.
Сухонькая востроглазая Соломонида, положив одну руку на живот, а другою подперев щеку, испытующе уставилась на мужа. Еще только на порог он ступил, а уж почуяла она сразу: задумал что-то старик, оттого и серчает.
Но виду не подала ему и выпытывать у него ничего не стала. Не любил Тимофей Ильич о важных делах загодя с бабой говорить. Пока не решит все сам, лучше к нему и не подступайся. А и решит, так не сразу скажет, боится, как бы с толку его баба не сбила.
Да знала Соломонида, что не больно хитер муж-то у ней. И не заметит, как жена у него по одному словечку все вытянет. Тимофей только диву давался, бывало, до чего баба ему попалась умная: про то знает даже, о чем он и подумать еще не успел.
Отодвигая пустую сковородку, начал осторожно, издалека:
– Поди стосковалась, Соломонида, о ребятах-то! Который уж месяц писем, стервецы, не пишут. Опять же и о внучонке ничего не известно, как он там, здоров ли…
Не успела подумать Соломонида, к чему ведет муж эту речь, как прошел мимо окон тихонечко, крадучись будто, Яков Бесов.
«И чего ему, псу корявому, нужно от меня» – встревожился Тимофей, завозившись на лавке. Знал он, что шагу зря не ступит Яков Матвеич.
Скрипнули половицы в сенях, жалобно пропела несмазанная дверь. Яков как вошел, так и остановился смиренно у порога, подняв круглые сычиные брови и овечьи глаза на икону. Истово закрестился, низко кланяясь.
– Хлеб да соль, хозяева.
– Проходи, гостем будешь.
Усаживаясь, Яков цокнул языком, понурился.
– Не больно рады ноне таким гостям. Я уж и то поменьше на люди-то выходить стараюсь. Иной раз и побеседовал бы с человеком, да боюсь, оговорят его: «С кулаком, дескать, дружбу водит». И к тебе вот задами сейчас шел, чтобы не увидел кто, храни бог.
Заморгал часто глазами и, смахнув с тонкого носа слезу, взвыл пронзительно:
– Вот до чего дожил, Тимофей Ильич! Людей сторонюсь, как собака бездомная. Кто хошь ногой пнуть может.
Утонули сразу в острой жалости все обиды Тимофея на своего бывшего хозяина: забыл сейчас и тяжкую свою работу на кожевенном заводе у Бесовых до революции и про то забыл, как обсчитал и выгнал его Яков хворого, и как после ссоры с хозяином попал он, Тимофей, на месяц в тюрьму.
Дергая в смущении бороду, сказал участливо:
– Подвигайся, Яков Матвеич, хоть чашку чаю выпьешь.
– В горло ничего не идет, благодетель мой, – печально отмахнулся Яков.
Соломонида молча и жалостно глядела на рваный холщовый пиджак Якова и на худые опорки на его ногах.
Увидев на лавке газеты, Яков взял одну, повертел задумчиво в руках, усмехнулся.
– М-мда. Назначил меня Сталин к ликвидации. Колхозов, говорит, у нас много стало, и хлеба теперь, говорит, хватит. Так что кулака, говорит, и по боку можно. Это меня, стало быть!
– Не читал я еще про это, – стараясь не глядеть на Якова, виновато ответил Тимофей.
– А ты почитай. Доклад евонный на шешнадцатом съезде. Непременно почитай. Тут и про тебя сказано. Меня ликвидируют, а середняков загонят в колхоз всех. Их сначала-то припугнули, а как видят, что дело-то не идет, умасливать начали. Дескать, середняка нельзя обижать! А сами землю, какую получше, колхозу отдали. И налог с колхозников скосили, и взаймы им денег дают. А середняку – ничего. Он и на кочке проживет.
Облизнул сухие губы языком.
– Крепостное право опять заводят, к тому дело идет. Раньше Валдаев, помещик, над нами командовал, а теперь Ванька Синицын с Савелкой Боевым. Вся и разница.
– Уж и не знаем, Яков Матвеич, писаться ли в колхоз али погодить еще, – вступила в разговор Соломонида.
– Да ведь как вам сказать, – почесал за ухом Яков, – конечно, мое дело сторона, только что выхода-то другого нету у вас. Загонят. Все равно загонят! Так уж лучше покориться. Ненадолго ведь все это. Как с голоду начнуть пухнуть в колхозе этом, так и разбегутся. Потому и советую, по старой дружбе: хлебец пуще всего берегите. А коровенку одну да пару овечек – на мясо. Пошто вам Кузина Ефимку да Синицына Ваньку в колхозе кормить? Они по корове да по паре овец привели в колхоз-то, а ты коня, двух коров, пять овец да построек сколько отдашь туда. Ты наживал, а они попользуются твоим добром, да еще понукать тебя будут.
Скребнуло у Тимофея сердце от этих слов: «Правду Яков-то говорит!»
– А может, Яков Матвеич, и столкуются мужики-то, – раздумывала Соломонида. – Кабы ладом, так артелью-то сколь хлеба можно бы напахать! Из городу вон фабричный какой-то приехал сюда, для порядку…
– А что им не ехать на даровые-то харчи! – засмеялся Яков. – Им за все плотят. Рабочему – што? Хлеб из мужика выжать. Они тут с Ванькой Синицыным живо столкуются…
– Ох, батюшки! – кинулась вдруг Соломонида к окну. – К нам ведь идет председатель-то.
Тимофей, беспокойно оглядываясь, тоже потянулся к окну.
– Чего боитесь-то? – насмешливо и спокойно сказал Яков. – Не таких видывали. Не губернатор!
Синицын, как только дверь открыл, сразу глазами сверкнул на Якова. Поздоровался, прошел смело, как дома, сразу к столу, сел у окна.
– Я к тебе за дугой, Тимофей Ильич. Вечор сломал Ромка дугу, а запасных в колхозе нету. Пока новые делаем – время упустим. За удобрением на станцию посылать надо. Так ежели есть у тебя в запасе, выручи. А мы тебе либо новую дадим, либо заплатим.
– Возьми, коли потом отдадите, – сказал Тимофей. – Жалко, что ли!
Яков улыбнулся тонко, не глядя на Синицына.
– Дивлюсь я, Иван Михайлович, сколько ты гнешь дуг, а все тебе не хватает.
– Это как понять? – сердито насторожился Синицын.
– Как есть, так и понимай. Ты ведь нас всех уж в дугу согнул.
– Вон ты куда! – мотнул головой Синицын. – Ну, ну. А еще что скажешь?
– То и скажу, что не паривши гнешь-то! Мотри, как бы не треснуло по середке-то!
Синицын засмеялся хрипло.
– Кого же это я согнул? Тебя, что ли?
– Да и меня тоже.
Весело и зло оскалив зубы, Синицын повернулся к нему:
– Из такой жерди, как ты, дуги для хозяйства не выйдет, хоть парь, хоть не парь. А и треснет, дак не жалко.
Яков прикрыл блеснувшие глаза длинными ресницами, сказал покорно:
– Твоя власть. Что хочешь, то и делаешь.
– То-то, что моя. А была бы твоя, ты веревки из нас вил бы.
Что-то булькнуло у Якова в горле, словно он подавился. Надевая картуз и поднимаясь с лавки, вздохнул миролюбиво:
– Зря мы друг на дружку зубы точим, Иван Михайлович. Али нам нельзя с тобой в мире жить? Мне ведь от тебя ничего не надо, а вот что тебе от меня надо, в толк я не возьму никак. Разве я тебе добра не делал? Когда детишки у тебя совсем были маленькие, приходил ты за мукой ко мне. Отказывал ли я тебе? Вижу, что маешься ты, с голоду пухнешь. Дай, думаю, поддержу детишек, не буду зла твоего ко мне помнить. А ты чем за доброту мою платишь мне теперь? Бог тебе судья!
Пока Яков говорил, Синицын все гладил усы задрожавшей рукой, глухо покашливая.
– Все помню, Яков Матвеевич, – тихо и горько заговорил он, выпрямляясь на лавке. – Верно, выручил ты раз меня, спасибо. Ну только за пуд муки этой баба моя все лето на покос да на жнитво к тебе ходила. Я и этого не забыл. Опять же отдавал я вам с Кузьмой землю в аренду…
– Это, Иван Михайлович, дело полюбовное и Советской властью было дозволено. Никто тебя к тому не понужал…
Синицын, царапая стол скрюченными пальцами, стал подниматься с места, не сводя с Якова глаз и вытягивая вперед жилистую шею.
– Дозволено? Ты с моей земли пудов сто пшеницы доброй снял, а со мной как рассчитался? Знал, что весной хлебом я бедствую, так овса мне гнилого всунул за аренду. Пожалел, вишь, ребятишек моих!
И поднялся во весь рост, сверкнув глазами и шаря что-то рукой на столе.
– Ежели Советская власть дозволила землю арендовать, так рази ж она дозволяла тебе кровь из нас пить? А?
У Якова часто запрыгала борода. Уставившись на Синицына белыми от гнева глазами, он, как слепой, шел мелкими шажками от двери к столу.
– Господи, твоя воля! – попятилась в испуге Соломонида.
Тимофей вскочил и, загораживая Синицына, уперся ладонью в грудь Якову.
– Не пущу, Яков Матвеич! Уйди от греха.
Яков перекрестился, отступая к порогу.
– Тебе, Иван Михайлович, вовек добра людям столь не сделать, сколь я сделал! Вот и Тимофей Ильич скажет, он помощь мою знает, не один год около меня кормился.
– Уж не поминал бы лучше про это, Яков Матвеич! – сухо молвила Соломонида, поджимая губы и часто заморгав покрасневшими глазами.
Тимофей, хмурясь, стоял около стола и молча теребил руками холщовую скатерть.
Будто не слыша и не видя ничего, Яков тряхнул головой с видимым сожалением.
– Видать, не сговоримся мы с тобой полюбовно, Иван Михайлович.
Синицын, медленно оседая на лавку, отрезал:
– Нет. И сюда больше не ходи. Не мути зря людей.
– Али мне говорить с ними запрещено? – поднял сычиные брови Яков. – Вроде и закона такого нет. Да и не хозяин ты в этом доме.
Синицын стукнул ребром ладони по столу.
– Добром упреждаю тебя: ежели узнаю, что агитируешь супротив колхоза – пеняй на себя! Понял? А в сию минуту поди вон отсюда.
Уже шагнув через порог, Яков оглянулся.
– Не забудет господь ничего, Иван Михайлович. Коли ты людям петлю на шею накидываешь, покарает он и тебя, не обойдет судом и гневом своим.
Закрыл неслышно дверь и прошел сенями, не скрипнув, не брякнув.
Синицын припал к окну, тихо и злобно говоря:
– К Назару Гущину пошел, собака! Одномышленников себе ищет.
И, обернувшись, подозрительно уставился на Тимофея.
– Чего посулил тебе? Ничего? Ну, не успел, значит.
Сел опять к столу, задумался.
– Две дороги у тебя, Тимофей Ильич: одна к нам, в колхоз, другая – к Яшке Богородице. Выбирай!
И прямо взглянул Тимофею в лицо.
– Ну только помяни мое слово, подведет он тебя под обух!
– Погожу я пока, Иван Михайлович, – опустил глаза Тимофей.
– В обиде ты на меня, знаю, – негромко, виновато заговорил Синицын. – Круто я с тобой обошелся тогда, неладно. Верно это, винюсь. Но ты, Тимофей Ильич, на меня и обижайся, а не на колхоз…
Ничего не отвечая, Тимофей вздыхал только. А Синицын, низко уронив серую голову, жаловался угрюмо:
– Озлобили меня противу людей с издетства. Возрос я сиротой, в нужде да в побоях у дяди, сам ты его знаешь. И переменить себя не умею. Тебе вот собственность проклятая мешает в коммунизм идти, а мне – характер мой…
Голос у него перехватило, глаза вспыхнули острой болью.
– Эх, Тимофей Ильич! Ведь время-то какое: сами супротив себя восстаем! Рази ж я не понимаю, как тебе трудно свое, нажитое отдать да себя переламывать! А мне-то, думаешь, легко было перед всем собранием грехи свои сознавать? А виниться к тебе идти было легко? А райкому, думаешь, легко теперь ошибку свою поправлять? Это понимать надо, Тимофей Ильич.
Поднялся и стал застегивать пиджак, не находя руками пуговиц.
– Дуга-то под навесом, Иван Михайлович, – мягко напомнил ему Тимофей. – В углу там стоит, увидишь сам. Бери хошь насовсем, у меня еще запасная где-то есть.
Синицын махнул, не оборачиваясь, рукой.
– Не за дугой приходил. Для разговору.
И, тяжело ступая, вышел.
8
На завалинке у Назара Гущина собрались как-то выходцы из колхоза покурить, побеседовать. Да не ладилась что-то беседа. Сидели все под старыми березами недвижно, понуро, как сычи днем в чащобе. Всяк свое про себя думал, выжидая, что другие скажут.
А дума одна была у всех, тяжелая, неотвязная: «Чего делать, как дальше жить?»
Один только Илья Негожев, запаливая подряд третью цигарку, шутил по привычке:
– Осталися мы теперь, братцы, как зайцы в половодье на островке. Того гляди, унесет всех. Которые из нас посмелее – те сигают прямо в воду и ладят к берегу, пока не поздно. Вон Гущин Костя, к примеру, тот уж окончательно к тому берегу прибился, сейчас в колхозе обсыхает. Другие, половчее, вроде Васьки Левушкина, те глядят, не проплывет ли мимо какая-нибудь коряга, чтобы за нее ухватиться: может, она и вынесет на сухое местечко. Приглядел себе Левушкин такую корягу – куманька своего, что в городе служит. Через него прибился к пекарне сторожем. Землю бросил, дом и скот продал, сам радехонек: как стал уходить совсем из деревни, пьяный напился и начал за околицей из ружья вверх палить. «Это я, – говорит, – прощальный салют себе устраиваю, потому как расстаюся с Курьевкой навеки». Ну, а мы тут, которые ни туда ни сюда, осталися на островочке одни. К берегу плыть боязно, и коряги никакой под рукой нету. Вода-то уж подмывать начинает, а мы только ушами стрижем да с лапки на лапку переступаем…
И засмеялся одиноко, невесело, заломив прямую бороду и прикрыв ею большой щербатый рот.
Мужикам не до шуток было. Начали расходиться уж по одному, да тот же Илья растравил всех:
– Пахать, братцы, время! Колхозники вон который день уж сеют. Выезжают, слышь, в поле, как на свадьбу: у Синицына в облучке на телеге красный флаг приделан. Лошадям и тем девки красные ленты в гривы повплетали…
Тут мужиков все равно что прорвало, зашумели сразу, заспорили:
– Рано, куда торопиться-то!
– Успеем и после праздника.
– Глядите, братцы, как бы не пересохла земля-то!
Тимофей перекричал всех:
– А пошто ждать-то? Упустим время, как раз без хлеба останемся. Богу молись, а в делах не плошись!
Назар Гущин, слушая спор, пристально разглядывал под ногами зеленый хохолок травы, пробившийся из утоптанной земли. Сковырнул его сердито сапогом.
– Неладно, мужики, думаете. И прежде бывало, что Христов день в оккурат на сев приходился, но старики наши веру блюли, большим грехом считали пахать в светлый праздник. А не оставлял их господь без хлеба, милостив был. На колхозников же указывать неча: те из веры выходят. Слыхать, и в пасху сеять будут, нехристи…
Зло выкатил ястребиные глаза на Тимофея:
– Сколь я знаю тебя, Тимоха, всю жизнь ты поперешничаешь. Хоть и сейчас взять: подбиваешь ты нас сеять раньше сроку, супротив божьей веры и обычаев. А к чему? По приметам, весна должна быть ноне затяжная, потому как лягушка не вовремя кричать бросила, опять же кукушка, сказывают, на сухом дереве куковала – это к морозу, стало быть… А ты – сеять! Совести у тебя нет, вот что я тебе скажу.
Хоть и не считал Назара умным хозяином Тимофей, а тут послушал его, решил, как и все, пахать с праздника: «Осудят люди, ежели Христова дня не признать!»
После-то уж каялись не раз мужики, что прображничали в самый сев четыре дня, а Тимофей, тот, на всходы глядя, только о полы руками хлопал с великой досады: «У колхозников-то яровые в рост уж пошли, а у мужиков едва проклюнулись из земли красной щетинкой».
И весна взялась, не по приметам Назара, дружная, теплая. Не успели оглянуться после пахоты, а уж и травы цветут.
Как прослышал только Тимофей, что уехали колхозники в Никитины пожни, дня через два засобирался тоже на покос.
– Не рано ли, мотри, старик! – пробовала отговорить его Соломонида. – Пускай бы подросла маленько трава-то. Ни разу прежде не кашивали мужики до иванова дня. И ноне, кроме колхозников, никто еще в деревне косой не брякнул.
– Тебя да Назара Гущина послушать, так без хлеба и без сена останешься, – рассердился Тимофей. – Ежели траву сейчас не скосить, какое же из нее сено будет! Думать надо.
Утром, задолго до петухов, Тимофей запряг старого Бурку, уложил в широкую телегу вилы, грабли, косы, бруски. Вышла из дому Соломонида, перекрестилась, поставила на телегу корзину с едой и посудой, уселась сама.
– Ну, с богом, старик!
Телега одиноко загрохотала по сонной улице: на стук ее не открылось ни одно окошко в избах, не закряхтели ни одни ворота, не всполошился, не закричал ни один петух. Словно испугавшись собственного шума, за околицей умолкли разом колеса, густо облепившись влажным от росы песком; перестали стучать и звенеть в задке друг о друга косы и грабли; даже Бурка ступал копытами неслышно по мягкой дороге, как в валенках.
Над лесом уже плавились в заре, дрожа и переливаясь, крупные бледно-зеленые звезды, но в низинах еще лежал плотный ночной туман. За полем, в болоте, мягко поскрипывал коростель и озабоченно свистел, перебегая с места на место, кулик. Редкие березы по обочинам дороги чутко дремали в розовых сумерках, пошевеливая листьями от каждого дыхания предрассветного ветерка.
Слушая ровный шорох колес и всхлипы дегтя в ступицах, Тимофей опустил вожжи, задумался.
Любил он, как праздник, трудную сенокосную пору, а нынче вот пришлось встречать ее без ребят, одному, невесело. Раньше, бывало, выезжали в Никитины пожни на целую неделю всей деревней. Зорины ставили тогда здесь по три, а то и по четыре больших стога. Выхваляясь перед соседскими девками, ребята косили задорно, играючи. Молодел, глядя на ребят, и сам Тимофей. Любо ему поспорить было с ними в работе, потягаться в силе и выносливости! До того, бывало, уморит их, что у Алешки на ладонях пузыри кровавые взбухнут и коса из рук валится. Пожалеет его Тимофей, крикнет весело:
– Ну-ну, ребята, айдате купаться!
Васька с Мишкой хоть и постарше, подюжее Алешки, а не меньше его рады отдыху. Побросают косы и бегом, с криком и хохотом, – к омуту. На ходу снимая рубаху, Тимофей прямо в портках плюхается в воду к великой потехе ребят.
Алешка не умеет плавать. Отец силой тащит его на середину омута и выпускает из рук, сердито крича:
– Плыви, а то утонешь!
Тараща испуганно глаза, Алешка надувает щеки и хлещет в отчаянии по воде руками и ногами. Васька с Мишкой хохочут над ним, счастливо смеется и Тимофей. После купания работается бодрее, но к вечеру ребята опять киснут. Видя, что Мишка с Алешкой от усталости ходят как сонные, Тимофей объявляет:
– Скопним, ребятушки, сено и – за рыбой.
Те оживают сразу, где только сила у них берется. И часу не проходит – ставят последнюю копну.
Большое розовое солнце висит уже над самой землей.
– Берите сеть! – командует Тимофей. – Ты, Алешка, захватишь кошелку для рыбы.
Долго идут по густой некошеной осоке. Не поспевая за братьями, Алешка то и дело падает, спотыкаясь о корни. Но вот светлеет впереди узкий плес, заросший по берегам густым ольшаником. Вода в плесе темная, как пиво, и он кажется бездонным, жутким.
– Стой, – негромко приказывает Тимофей. – Заходить будем вон из-за того куста. Да не шумите, а то рыбу распугаете. Спит она на закате-то…
Васька с Мишкой расправляют сеть, привязанную к двум деревянным клюшкам, прилаживают к хвосту сети колышек. Взявшись за одну клюшку, первым заходит в воду Васька и тащит за собой к тому берегу правый конец сети. Тимофей, щупая по дну плеса колышком, выходит на середину, а за ним спускается в воду, держась левого берега, Мишка.
– Пошли, – громко шепчет Тимофей.
Бредут осторожно, чтобы не упасть и не напугать плеском воды сонную рыбу. Когда вода доходит Тимофею до бороды, а ноги перестают касаться дна, он машет Ваське рукой.
– Своди!
Тот быстро бредет поперек плеса, таща за собой конец сети к левому берегу, где уже остановился и ждет его Мишка. Тимофей ведет колышком хвост сети по дну. Начинает сводить клюшки, отчего образуется внизу из сети мешок. Вода бурлит в нем. Едва только Мишка подхватывает край сети, как из нее прыгает через Васькину клюшку большая рыба.
– Черти косорукие! – шепотом ругается Тимофей. – Раззявили рты-то. Всю рыбу упустите!
Толкаясь и переругиваясь, выволакивают сеть на берег. В ней среди тины и травы бьются белобрюхие щуки, зевают круглыми ртами караси, вьются ужами коричнево-рябые пескари. Васька с Мишкой хищно кидаются к щукам и надламывают им хребты.
Заходят с сетью в плес еще не один раз, пока не начинают у всех стучать от холода зубы. По всему плесу уже расползается серый туман.
– Кончай! – устало машет рукой Тимофей.
Долго идут обратно по росяной осоке, шурша мокрыми штанами. В теплых сумерках уже горят под кустами зеленые светляки. Тонкий комариный стон стоит в воздухе. От хриплого хохота куропатки сонный Алешка подпрыгивает на месте, вызывая у братьев веселый смех.
Соломонида встречает рыбаков радостным удивлением, ахает над рыбой и тут же принимается варить уху. Алешка, умаявшись, растягивается на траве около костра. Потом его никак не могут добудиться. Спросонья он хлебает две-три ложки и опять валится на бок. Братья весело волокут его в шалаш. Соломонида забирается на ночь в копну. Тимофей стелет около костра старый армяк и ложится подремать часика три, чтобы утром встать пораньше и отбить косы. Намахавшись за день, он и во сне шевелит натруженными руками, и во сне колышется у него перед глазами нескошенная трава…
– Не туда едешь-то, старик! – вспугнула его думы Соломонида. – Просекой бы надо, там ближе будет…
И нарочно стал забирать влево, чтобы проехать через все пожни: очень уж хотелось ему поглядеть, как сенокосят колхозом.
«Спят еще! – недовольно думал он, вслушиваясь в утреннюю тишь. – Кабы свое косили – до свету небось поднялись бы!»
Но тут почудился ему впереди людской говор и смех. Не веря себе, Тимофей встал в телеге во весь рост, настороженно вытянул шею.
«Да нет, где им! – успокоенно подумал опять. – Кабы они хозяева настоящие были, а то…»
И вдруг совсем близко и совсем явственно кто-то начал точить косу, а погодя немного от чирканья брусков зазвенел и зашумел кругом весь лес.
«Экую рань всполошились! – уже с сердитым одобрением выругал про себя колхозников Тимофей. – Нахватали покосу-то, а теперь жадничают, торопятся, как бы успеть все убрать…»
Впереди размерно засвистели косы:
– Чу-фить! Чу-фить!
Березняк поредел, начались пожни. Вся большая низина цвела бабьими кофтами, сарафанами, густо белела рубахами мужиков.
– Гляди-ко ты! – с завистью охнул Тимофей. – За два дня половину скосили.
А как окинул глазами всю пожню, так и зашлось у него сразу от волнения сердце: на целую версту темно-зелеными шапками стояли на ровной глади высокие копны.
Бросив Соломониде вожжи, Тимофей торопливо слез с телеги.
– Поезжай-ка одна, а я забегу взглянуть, какова у них ноне трава-то.
9
У костра, под ракитой, мать Елизара, Ульяна, с Ефросиньей Гущиной готовили косарям завтрак.
Обе, сидя на скошенной траве, чистили свежую рыбу.
– Вечор Елизарка с Савелом наловили! – хвастала Тимофею Ульяна, поднимая на него доброе круглое лицо. – На часок всего и сходили-то, а глянь-ко, целое ведро принесли!
– За один раз варить будете? – дивился Тимофей.
– Еще не хватит! – зло ответила веснушчатая, болезненная Ефросинья, вытаскивая из ведра за хвост аршинную щуку, такую же зубастую, как и сама. – Косарей-то – мужиков одних двенадцать да баб около десятка наберется…
– Семья у нас большая! – похвалилась опять Ульяна, сияя горделивой улыбкой. – Как сядут завтракать, не успеваешь поворачиваться.
– На работу бы такие лютые все были! – выдохнула насмешливо Ефросинья, с ожесточением отрубая щуке топором голову на березовой плахе. – А то вон Семка Даренов: и того не намолотит, что проглотит!
– Да уж будет тебе, Ефросинья!
– Неправду, что ли, говорю? – вскинулась та. – Сравнишь разве его с моим мужиком али с Елизаром? Костя-то у меня вдвое больше Семкиного скосит, а в еде никак ему за Семкой не угнаться.
– Что станешь делать! – согласилась, вздохнув, Ульяна. – В одно перо и птица не уродится, разве что сорока только.
Ефросинья кинула в котел щучью голову и принялась яростно чистить песком посуду.
– А то и делать, что хорошему работнику отличка должна быть. Неча разводить лодырей-то!
«Верно! – с облегчением думал Тимофей, присаживаясь на корточки и вынимая кисет. – Вступишь в колхоз-то да и будешь там всю жизнь на чужого хребтить».
А бабы, пока выкурил он цигарку, успели перемыть не только посуду, но и обсудить все колхозные новости: решили, кого кладовщиком в колхозе поставить, посчитали, скоро ли приедет к Андрею Ивановичу жена в гости из города и какая она из себя, рассудили, принять ли обратно в колхоз Степана Шилова, который подал на прошлой неделе заявление Синицыну…
«Не зашел, небось, ко мне посоветоваться, – обиделся в мыслях на свата Тимофей, – а ведь родня все ж таки! – И гадал про себя: – С чего бы его в колхоз потянуло опять? Уж какой был противник колхоза, а тут… Нет, не зря он туда подался. Хоть и богомольная душа, а расчет свой имеет. От налога хочет убежать…»
– Молодые-то у Дареновых, слышь, и двух месяцев еще не прожили вместе, а уж бранятся каждый день, – зло ликовала Ефросинья. – И то сказать, разве Семка пара ей? Только потому и вышла за него Парашка, что в девках засиделась. А из-за чего ссорятся? Все из-за колхоза. Не хотел Семка в колхоз идти, так она силком его затащила. Сама-то в работе – огонь, а он ни к какому делу не льнет, глядит – как бы из колхоза вон. Ей с ним и на людях-то совестно: дикой уж больно, будто в подпечке вырос…
– И не говори, Ефросиньюшка, что только кругом деется! Вон у Ереминых тоже…
Шмыгая истрепанными лаптями, к костру подошла старуха Рогова И устало присела на пенек. За спиной у ней висела на полотенце через плечо корзинка с едой, из корзинки торчало зеленое горлышко бутылки, заткнутое бумагой.
У Роговой жил на квартире Трубников. Заботясь, видно, о своем постояльце, старуха принесла ему обед. Отдышалась и, заправив под платок мокрые седые волосы, улыбнулась беззубым ртом.
– Где тут мужик-то мой?
– Прах его знает! – беззлобно выругалась Ефросинья. – Около девок где-нибудь ищи…
– Я гляжу, Матрена, хозяин-то винца тебе заказывал? – пошутил Тимофей.
– Бог с тобой! – отмахнулась Матрена. – Он у меня – что теленок, окромя молока ничего не пьет. А на баб-то и не глядит вовсе…
– Так пошто же ты, дура, тащилась в такую даль? – зубоскалила Ефросинья. – Раз толку от него нет никакого, нечего и сметану зря переводить. Мы его тут, как святого монаха, на одной рыбе продержим…
– И то правда, Ефросиньюшка, – не отставала от нее в шутках Матрена. – Кабы приказу не было, нешто понесла бы я ему сметану да яйца? А то ведь Михайлович, как привел его ко мне зимой на квартиру, строго-настрого наказывал: «Отдаю, – говорит, – Матрена Арефьевна, товарища Трубникова в твое распоряжение. Дело твое, – говорит, – вдовье, всей и заботы у тебя – корова да кошка. Гляди, – говорит, – у меня: чтобы постоялец не отощал, обмыт и обстиран был вовремя, не обовшивел бы. Харч ему из кладовой за наличный расчет выписывать будем, а сколько за квартиру платить – сами уговаривайтесь, обоюдно…»