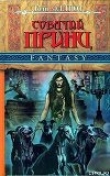Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Роман Иванович сказал что-то шоферу, и тот стал вдруг заворачивать вправо, к молодому березнячку на краю поля, где белели две палатки и курился синим дымком полевой вагончик.
– А мясо почему не сдаешь? – требовал Додонов. – Район полтора плана сдать обязался, а ты еле-еле в план укладываешься. Есть в городе мясо, товарищ капитан?
– Пока еще не хватает, – ответил Трубников. – Но за молоком очередей нет.
– Еще годик-два, и мы завалим город мясом! – хвастливо уверил его Додонов, а Роману Ивановичу приказал:
– Сдавай два плана, не меньше.
– Невыгодно, Аркадий Филиппович, сдавать сейчас, – начал тот неуверенно обороняться, – пускай поотгуляется скот. Осенью сдадим побольше…
– Ты это обкому попробуй сказать, а не мне. Взяли обязательство – выполнять надо.
Роман Иванович прикусил язык, но ненадолго:
– Если подрежем скот нынче, прирост поголовья трудно будет обеспечить…
– Стране нужно мясо! – оборвал сухо Додонов. – Где хочешь, бери, а сдавай. Я вообще замечаю – сдерживаешь ты в колхозе развитие животноводства. Почему?
– Убыточно. Не под силу пока такой прирост, какого требуешь… Да и кормов еще не хватает.
– Убыточно? – сощурился сердито Додонов. – Жмотом ты стал! Откуда же тогда деньги у тебя? Ссуду брал небольшую, а строишь коровники, телятник, картофелехранилище…
– Это на доходы от конопли, за которую вы мне выговор влепили! – усмехнулся невесело Роман Иванович и объяснил Трубникову:
– Меня Бесов Кузьма научил деньги зарабатывать. «Посей, говорит, Ромка, в Пригорском поле коноплю, – озолотишь колхоз». Я послушался, распахал клеверище, посеял. Такая, брат, конопля вымахала, насилу убрали. Выговор за нее получил и триста тысяч…
– Разве Кузьма Матвеич здесь?! – изумился Трубников.
– Здесь. Забыл я тебе о нем сказать. Да сам его сейчас увидишь, сторожем он тут, на полевом стане…
– Представьте, – обратился к Додонову Трубников. – Раскулачивал я его в свое время, а сейчас вот встретимся…
– Любопытно, – недовольный чем-то, отозвался Додонов рассеянно.
На истоптанной лужайке, неподалеку от вагончика, стоял обшарпанный ходок, к нему привязана была за повод рыжая с проседью лошадь с измызганным хвостом. Она дремала, закрыв глаза и отвесив дряблую губу.
– Сейчас узнаю, где жатка лафетная у нас работает, – сказал Роман Иванович, вылезая из машины.
Все трое пошли в вагончик. Там около чугунной печки сидел на полу остроносый лысый старик в ватнике и подшитых валенках. Обняв колени, он задумчиво глядел в огонь припухлыми бесцветными глазами.
«Узнаешь своего старого приятеля?» – тихонько толкнул в бок Трубникова Роман Иванович и громко закричал:
– Здорово, Кузьма Матвеич!
Старик встрепенулся и поднял голову. Серые растрепанные усы шевельнулись от улыбки, обнажив два желтых зуба.
– Здравствуй, Рома, – просипел, вставая.
– Где жатка сейчас?
– Сашка-то? С утра уехал.
– Не слышит, старый пень, – вполголоса добродушно выругался Роман Иванович и снова закричал:
– Да я не про учетчика спрашиваю, а про Бурова. Где он жнет, говорю?
– Ладился в пятое поле ехать.
Додонов, потянув носом, с досадой поскреб в затылке.
– Мотаешься, мотаешься, поесть даже некогда. Ты бы хоть покормил, Роман Иванович…
– Проверить хотите, как механизаторов кормим? – засмеялся Роман Иванович. – Сейчас.
В вагончике было уютно, домовито: чисто выметенный пол, марлевые занавески на окнах, горшок с цветами на столе. Нагоняя дрему, шлепали мягко ходики на стене. Чья-то новая гармонь стояла на нарах.
Пока старик подавал на стол щи с бараниной и гречневую кашу, Андрей Иванович громко спрашивал его:
– Как живете тут?
– Спасибо, не жалуюсь.
– Работа не в тягость?
– Ну, какая это работа?! – усмехнулся старик. – Санатория, а не работа.
А Роман Иванович объяснял Додонову:
– Яшки Богородицы брат… Года три, как из высылки приехал. Сказывает, хорошо там обжился, нужды не видел. Сыновья у него вернулись в орденах с войны, женились и разъехались кто куда. А его потянуло в родные края. Продал дом, скотину, да сюда вот и приехал. Поклонился собранию в ноги: «Примите, дорогие граждане, в колхоз!»
– Приняли? – счастливо засмеялся Трубников.
– А чего же не принять? Да и куда его денешь? Работал сначала конюхом, потом, вижу я, тяжело старику. Пристроили вот сюда сторожем. Ребята им довольны, не обижают.
– Старые замашки у него не проявляются?
– Нет. Работает честно, старается. Но иной раз, видно, скребет у него на сердце. Зашел как-то в свой бывший дом, где сейчас магазин сельпо, и говорит Косте Гущину, заведующему: «Худо хозяйствуешь, Константин». – «А что?» – «Я этот дом на сто лет строил, а вы его в двадцать сгубили. Нижние-то венцы вон сгнили, да и крыша дырявая. Давно бы я на месте Советской власти такого хозяина, как ты, в шею отсюда выгнал».
Додонов, приглядываясь к старику, проворно работал ложкой, а Роман Иванович продолжал:
– Костя от этих слов побелел весь даже. «Тебе, говорит, Кузьма Матвеич, все еще своего добра жалко? Мечтаешь, поди, обратно его получить?» А тот ему отвечает: «Свой-то дом у тебя, Константин, целехонек, как я погляжу. А ведь мы с тобой одного году строились. Вот и сообрази теперь, о чьем ты добре больше печешься, о своем или о казенном!»
Думая, что старик не узнал его и будет откровеннее с чужим человеком, Трубников не утерпел, спросил:
– Как свою жизнь теперь понимаете, Кузьма Матвеевич?
Старик подсел к столу, закурил трубку. Серые кустики его бровей поднялись, в сонных глазах что-то блеснуло.
Он долго вглядывался в Трубникова, но, казалось, не узнал, потому что спросил безучастно:
– Это вы насчет чего?
– Да вот, говорю, потерпели вы в свое время от Советской власти. Обиду, поди, имеете?
Старик молчал, разглядывая на руках обломанные ногти. Должно быть, не слышал или не понял, о чем спрашивают. Но вдруг он поднял голову и подмигнул Трубникову загоревшимся глазом.
– Перехитрил ты меня тогда, успел-таки подрезать под корень вовремя. Умен!
И пожалел насмешливо:
– А себя вот перехитрить не мог. М-мда. Где отбывал-то, родненький?!
– Напрасно радуешься, Кузьма Матвеич: не сидел я.
– Да рази ж я радуюсь, господь с тобой! – всхлопнул старик руками. – Слух был, потому и говорю. А ждал я тебя там, это верно. Как взялись вы сами себя сажать, затосковал, помню, даже. Гляжу, едут к нам ваши, а тебя все нету и нету…
– Жалеешь, что не дождался? – засмеялся Трубников уже весело. – А я вот тебя дождался! И не жалею, что вернулся ты, а радуюсь…
Старик выпрямился.
– Это верно, гражданин Трубников, не к чему нам старые обиды вспоминать, коли новых нету.
Подумал и сказал вдруг твердо и неожиданно:
– Я на себя, уважаемый гражданин Трубников, как со стороны гляжу сейчас. Кабы не освободил ты меня от собственности тогда, многих бы я по миру пустил. Хошь верь, хошь не верь, а считаю – не могла поступить со мной иначе Советская власть. Все это после понял я. В высылке. А сначала-то, каюсь, зубами скоблил. Виноват был, конечно, перед людьми, что там говорить. Тяжким трудом искупляться пришлось. К тому же своих ребят шибко жалел, им дороги не было из-за меня в настоящую жизнь. Но Советская власть, спасибо ей, не злопамятная. И меня вот призрели, не оттолкнули…
Вернулся Роман Иванович.
– Бурову скажи, Кузьма Матвеич, что завтра с утра приеду, пусть подождет.
– Скажу.
Старик вышел проводить их, бросил охапку свежей травы лошаденке и, не оглядываясь, пошел обратно.
– А к убийству Ивана Михайловича непричастен он? – спросил Додонов, когда выехали на дорогу.
– Думаю, нет, – уверенно ответил Роман Иванович. – Кабы причастен был, не вернулся бы сюда. Совесть не пустила бы.
И высунулся вдруг в окно, то ли увидев что, то ли к чему прислушиваясь. Все тоже потянулись к окнам. Даже безмолвный шофер сбавил ход и опустил стекло. Два голоса – мужской и женский – крепко обнявшись, словно кружились в танце над полем в застывшем знойном воздухе.
– Петь начали в колхозе-то у нас! – радостно удивился Роман Иванович и вздохнул: – Давно я песен здесь не слыхал.
Все посветлели, приумолкли, призадумались.
– Примечайте, товарищ лектор! – напомнил Трубникову Додонов.
– Я все примечаю! – серьезно ответил тот.
9
Покружив полевыми дорогами, выбрались на большой пустырь, откуда рукой подать было до МТС. В конце пустыря одиноко белела в густом бурьяне заброшенная церковушка, зияя черными глазницами окон и вызывающе скалясь колоннами. Даже на крыше ее вырос бурьян, словно поднялись от злости дыбом зеленые волосы.
Вспоминая, с каким воодушевлением закрывали в тридцатом году эту церковушку и как наивно радовались тогда, что религии пришел конец, Трубников спросил:
– Много у вас верующих в районе?
– Нет, немного… – замялся Додонов, – хотя, конечно, есть! Церковь действует в Белухе.
– Стало быть, не знаете сколько. А праздники религиозные соблюдают еще кое-где?
– Кое-где! – фыркнула Зоя Петровна, обволакиваясь дымом. – В самый сенокос по три дня гуляли в некоторых бригадах, а в Белухе – всем колхозом…
– Ну, зачем же преувеличивать?! – недовольно поморщился Додонов. – Все время антирелигиозную пропаганду ведем, доклады, лекции проводим. А зимой даже бывший поп к нам приезжал из области. Разоблачительную лекцию для районного актива читал. Очень полезная лекция.
Въехали в пустой двор МТС. На местах, где стояли комбайны, успела уже вырасти крапива. Посчитав крапивные островки, Трубников позавидовал обрадованно: «Широко живут! На каждый колхоз комбайнов десять да тракторов, поди, штук пятнадцать! А мы тут до войны что имели?»
Пока Додонов с Романом Ивановичем искали зачем-то директора, Трубников заглянул в диспетчерскую.
Красноглазый парень, взлохмаченный и озабоченный, кричал по рации:
– Иван Егорович, сколько вчера убрали комбайнами?
Невидимый Иван Егорович отвечал издалека задорно:
– Шестьдесят три!
– А кто у вас впереди идет?
– Впереди? Рыжиков. Вчера 20 гектар убрал на самоходном.
– А за декаду сколько?
– Сто восемьдесят пять.
– Передай ему, что Власов убрал за декаду сто девяносто семь.
Иван Егорович ошарашенно помолчал и вдруг всполошился испуганно:
– Этого не может быть! Нашего Рыжикова никто еще не обгонял пока…
– Раз говорю, значит, может.
На столе зазвенел без передышки телефон. Вася схватил трубку и, не отрывая ее от уха, кинулся к большой карте полей, густо поросшей красными флажками. Каждый флажок здесь обозначал, видно, комбайн. Вася переставил один красный флажок: значит, комбайн переехал на новый массив. Заменив другой желтым, он тут же схватил вторую телефонную трубку.
– Алло! Прошу механика! Николай Петрович, выезжайте сейчас же с дежурной аварийной в пятое поле. Стоит комбайн. Поломка.
А по рации кричал кто-то взахлеб сквозь железный стрекот и ликующий гул моторов:
– Вася, мы на четвертом, принимай скорее сводку!
Шум и жар трудового сражения все нарастал, все накатывался и накатывался оттуда могучим прибоем…
Простоял бы, поди, Трубников завороженно целый час тут, кабы Роман Иванович не позвал его.
Идя за ним к машине, гость восхищенно ахал и ругался:
– Ну как не стыдно вам, имея такую технику, хвастаться своими урожаями! Да мы перед войной здесь по двадцать пять центнеров пшеницы получали…
Ни Роман Иванович, ни Додонов не ответили ему. В машину сели все, не глядя друг на друга.
Долго ехали, сердито слушая тяжелый стук колосьев по кузову.
– Стой! – закричал вдруг Додонов, на ходу открывая дверцу – Почему у тебя, Роман Иванович, пшеница нынче такая чахлая на этом массиве?
– Дождя весной мало было, сгорела… – виновато принялся объяснять Роман Иванович и шутливо укорил агронома:
– Это, Зоя Петровна, твое дело – дождь вовремя обеспечивать. Ты представитель МТС, у тебя вся наука и техника в руках. Не могу же я молебен от засухи заказывать!
Зоя Петровна не осталась в долгу, показала из угла зубки.
– Я вас, Роман Иванович, с осени предупреждала, что поле это высокое, засухи боится, его без отвала пахать надо, по Мальцеву. А вы послушались? Ну и не хоронитесь за мою спину.
Она все больше и больше нравилась Трубникову. У нее сейчас и нос вдруг обнаружился на пропеченном лице, вздернутый такой, дерзкий нос, и рот проступил явственно при улыбке, большой, зубастый, а глаза хоть и вылиняли на солнце, но так и стригли под корень. Одного не мог угадать Трубников, сколько ей лет: под загаром не видно было ни одной морщинки.
В стороне забелел зонт комбайна. Мелькнула в пшенице синяя кепка Кузовлева. Бригадир шел по меже, заложив одну руку за ремень, а другой держа колос. Высокая пшеница провожала и встречала его, кланяясь чуть не до земли.
– Елизар Никитич! – закричал в окно Роман Иванович. – Лафетную пробовали?
Кузовлев поглядел из-под ладони на приезжих и вышел к ним неторопливо на дорогу. Поздоровался со всеми, вытер платком лобастую голову.
– Пробуем.
Додонов как только вышел из машины, так и вонзился глазами в большую желтую заплату среди поля.
– В чем дело? Откуда здесь столько сорняков? – налетел он с ходу на Кузовлева. – Как же вы семена проверяли? Что за безответственность? Кто виновник?
Кузовлев кашлянул в кулак, неуверенно глянул на Додонова исподлобья.
– Если скажу правду, Аркадий Филиппович, не обижайтесь…
– Ну, что за чушь?! – Расправил плечи Додонов, чем-то, однако ж, обеспокоенный. – Говори смело.
– Это я по вашему указанию весной сеял… – стыдливо надвинул кепку на глаза Кузовлев. – Вы тогда приехали и взбучку мне дали за то, что кругом сеют все, а я выжидаю. Струхнул я, откровенно сказать. Взял да и посеял в тот же день гектаров восемь, раз вы мне велели. А больше не стал. Думаю, может, вы другой обратно поедете. Так оно и вышло. Ну, я обождал после этого еще два дня, пробороновал, а потом уже и стал сеять, по-настоящему…
Начав слушать Кузовлева с плохо скрытой тревогой, Додонов дослушал его уже совсем румяный. Но не потерял, видно, надежды вывернуться.
– Не в этом суть, товарищ Кузовлев, – заговорил он внушительно, – сроки сева тут ни при чем. Верно, агроном?
– Нет, не верно, – без жалости дорезала его Зоя Петровна. Она уже вылезла из машины и оказалась не по характеру маленькой, мягкой и круглой, как уточка. Одернув платье, принялась отряхиваться и торопливо расправлять на себе помятый плащ, словно перышки чистила. Не подошла, а подплыла к Додонову, держа прямо голову и не качаясь.
– Раз посеяли пшеницу в непрогретую землю, долго не взойдет, – услышал Трубников ее резкий, отрывистый голос, – а сорнякам холодная земля нипочем, они опередят пшеницу в росте и заглушат ее. Надо было обождать, пока сорняки взойдут, да землю прокультивировать, а потом уж пшеницу сеять.
Казалось, не лицо багровеет у секретаря райкома, а седеют волосы.
Все замолчали напряженно, ожидая грозы. Она разразилась тут же. Теребя побелевший хохол на макушке, Додонов грозно рыкнул на… Кузовлева:
– Так зачем же ты поддался мне?!
И улыбнулся вдруг такой широкой, обезоруживающей улыбкой, что все рассмеялись весело, с облегчением.
– Ну уж сегодня, Аркадий Филиппович, я вам не поддамся… – решительно покрутил головой Кузовлев.
– В чем? – так и вскинулся Додонов. – Напрасно вы заключили из этого случая, будто я мякиш…
– А в том, что не буду раздельную уборку делать по-вашему, – упрямо досказал Кузовлев, – не хочу хлеб гноить.
– Не забывайтесь, товарищ Кузовлев, – суровея сразу, предупредил Додонов. – Вот уж за это своевольство отвечать вам придется. Понятно?
– И отвечу! – поднял голову Кузовлев. На крутой лоб его крупной росой выпал вдруг пот. – Вы приказываете косить пшеницу на низком срезе. Зачем?
– По опыту колхоза «Пламя».
– Ездил я вчера туда, – облизнул сухие губы Кузовлев. – И скажу вам, Аркадий Филиппович, не разобрались вы толком в этом новом деле, потому что не посоветовались со знающими людьми. Участок для опыта выбрали неудачный, рожь на нем редкая, да еще низкорослая. Такую рожь вообще раздельно убирать нельзя, А вы скосили-то ее на низком срезе. Да разве будет она держаться на такой низкой и редкой стерне? Вся, конечно, провалилась на землю. А тут еще дождики пошли, стебли у ней почернели, зерно прорастать начало. Колхозники граблями убирают ее сейчас да ругаются вовсю. То же и с пшеницей нынешней получится, ежели подвалите на низком срезе…
– А ну покажите, как сами жнете! – ринулся к жатке Додонов.
Увидев там незнакомого человека в шляпе и дымчатых очках, спросил недовольно:
– Это кто?
– Тимофея Ильича покойного сын, инженер, – сказал Роман Иванович, – отца хоронить приезжал да остался вот погостить. Интересуется, как машины ихнего завода работают…
– Ну, ну… – сразу громко и сердито заговорил Додонов. – Давно пора бы.
Здороваясь с Михаилом, оглядел его, прищурясь.
– Поломка, что ли?
За него ответил густым басом высокий усач с гаечным ключом в руке:
– Сейчас поедем, товарищ Додонов.
– А почему стояли?
Усач замялся, взглянув на Михаила.
– Прилаживали тут ребята приспособление одно…
И бодро заключил:
– Теперь пойдет!
– У вас пойдет, а вот как у других механизаторов, это мне пока неизвестно… – взглянул опять недоверчиво на Михаила Додонов. – Вы учтите, товарищ инженер, что нам во время уборки некогда ошибки конструкторов исправлять.
Михаил насупился, покраснел, но сказал вежливо:
– Учтем.
Кузовлев махнул рукой трактористу, чтобы ехал.
– Вот глядите! – присел он на корточки, когда агрегат тронулся. – Весь валок лежит на стерне.
Додонов тоже присел, кряхтя.
– А если пшеница будет реже? – сердито спросил он.
– Надо жать ее не на полный хедер, тогда валок будет меньше и удержится.
– А если начнутся дожди? – придирчиво допытывался Додонов.
Зоя Петровна тоже присела рядом с ним, усиленно мигая Кузовлеву.
– Нам с Елизаром Никитичем дождь не страшен! Пусть льет хоть неделю. Валок-то, видите, на стерне лежит, как крыша. Сверху солнце будет его сушить, а снизу – ветер. Через два дня после дождя молотить можно будет.
Додонов сумрачно поднялся и пошел к машине. Все нерешительно потянулись за ним.
Усталый шофер сладко спал на баранке, забыв выключить радио.
Спокойно и бесстрастно диктор сообщал, что правительство Чехословацкой Республики серьезно обеспокоено плохими видами на урожай в нынешнем году и что в среднем по Республике ожидается сбор не больше восемнадцати центнеров пшеницы с гектара вместо обычных двадцати пяти.
Все переглянулись, не говоря ни слова. Додонов ошеломленно и тонко крякнул, Роман Иванович принялся озадаченно скрести ногтями небритую щеку, напустив густые брови на глаза, а Кузовлев низко нагнул крутолобую голову, словно бодать кого собрался.
Поняв, что не место и не время сейчас итожить спор свой с лектором, Додонов заторопился:
– Теперь мы в Белуху, а оттуда – в райком. Ты, Роман Иванович, поедешь с нами, а вы, Елизар Никитич, проверьте тут с Зоей Петровной способ ваш хорошенько, и к пяти – оба на экстренное бюро…
– Аркаша! – с удивлением услышал Трубников зазвеневший вдруг заботой и участием голос Зои Петровны. – Обедать приезжай домой. Ровно в три.
Додонов грохнул дверцей, будто выстрелил.
10
– Ну, Васька, пора домой собираться! – объявил неожиданно брату Михаил, сбегая по ступенькам крыльца в сад, где Василий с Алексеем чистили рыбу.
– Успеем! – лениво поднял Василий белую голову. – Поживем еще хоть недельку у матери.
Михаил фыркнул на него:
– Тебе все лето можно тут брюхо греть, ты на пенсии, а я через пять дней на заводе быть должен.
За три недели Михаил отоспался, посвежел, немного даже округлился на материнских блинах и на парном молоке, но добрее не стал. Ко всем прицеплялся, над всеми посмеивался, всех задирал. Ероша мелкие серые кудри, подошел к берестяной кошелке с рыбой, небрежно ткнул ее узконосым туфлем, заглянул внутрь.
– Где ловили?
– В Иваньевском… – нехотя ответил Василий, ожидая какой-нибудь каверзы от брата.
– Одни щурята, гляжу я, да пескари… – разочарованно отвернулся Михаил. – В Иваньевский плес не только ведь щуки, а и осетры заходят с паводком…
– Взял бы да поймал, – огрызнулся Василий, – чего же ты моих щурят одних ешь?
– От нужды и кошка траву жует! – грустно вздохнул Михаил. – Уж я, кабы время было, поймал да угостил бы тебя свежей осетриной. А ты вот, бездельник, пичкаешь меня заморенными пескарями…
– У тебя, Мишка, я это давно замечаю, с печенкой что-то неладно, – обеспокоенно сказал Василий. – Или, может, желчь в тебе разлилась. Больно ты злой стал! Самая первая примета: если человек на всех кидается, значит, печенка у него болит. Как приедем домой, валяй сразу в поликлинику. Такую болезнь запускать нельзя.
Михаил бережно поддернув брюки в коленях, присел на траву.
– Я ведь, Васька, всерьез тебе говорю: пойдем собираться, а то я один уеду.
Потряхивая рябого пескаря на ладони, Василий сказал с укором, после долгого раздумья:
– Приехали мы в родное гнездо, Мишка, отца похоронили… У нас горе, у матери – вдвое. А ты… бежать торопишься!
– Кабы я в отпуск приехал сюда! – взъелся обиженно Михаил. – А меня и всего-то на две недели отпустили, включая дорогу. Хорошо еще, что начальство задание попутно дало – новые машины в эксплуатации проверить…
– Ну и проверяй, не спеши! – посоветовал Василий, ловко вспарывая живот пескарю.
– Я проверил. Чего же еще?!
– Он проверил! – усмехнулся Василий презрительно. – Видел я, как ты проверял. В новых брючках да в штиблетах заграничных покатался неделю с трактористами в поле, даже рук не замарал ни разу. Он проверил! Нет, ты на машине своей все лето поработай, да матюков за нее от механизаторов послушай, да перемонтируй ее сам, вот и будешь знать тогда, где напортачил. Конструктор липовый! Тебя в машину надо, как котенка, носом тыкать всякий раз, а то лепишь их, абы поскорее только: сбил, сколотил – вот колесо! Сел да поехал – ах, хорошо! Оглянулся назад: одни спицы лежат. Верно, Алешка?
Не ввязываясь в спор, Алексей хохотал только. Сколько он помнил, братья хоть и неразлучны были, а ссорились и подзуживали друг друга всю жизнь.
– Что ж я, по-твоему, на каждой своей машине по полгода ездить должен? – щурил на Василия насмешливые глаза Михаил. – Это слишком накладно государству будет. Во всяком деле головой работать побольше надо, а не тем местом, которым сидишь. Мудрость, купленная опытом, говорят, дорого обходится…
– Не дороже дурости! – свирепел сразу Василий. – Думаешь, ты государству дешево обошелся? Да ты металла зря извел больше, чем я выплавил. И мне обидно, что на такого дурака всю жизнь я работал.
Отвернувшись, Василий надулся и побагровел:
– Уйди с глаз долой, и говорить с тобой не хочу…
– Да будет вам, петухи старые! – пристыдил братьев Алексей, чуя, что в горячке они и поцапаться могут. Бывало это у них не раз.
Притворно зевнув, Михаил поднялся, спросил Василия мирным голосом:
– Так не поедешь, стало быть, сегодня?
Василий ополоснул руки в ведерке.
– Ну поедем, черт с тобой! Матери-то говорил?
– Нет еще.
Узнав, что сыновья решили уезжать, мать молча и спокойно принялась сама готовить им подорожники, но, когда Василий с Михаилом стали укладывать чемоданы, затосковала вдруг. Присела на лавку и, уронив руки на колени, отрешенно уставилась в угол.
Стараясь отвлечь мать от тяжелых мыслей, сыновья держались дружно, разговаривая без умолку. Василий то и дело советовался с ней, что и куда положить. Алексей, помогавший братьям собираться, просил у матери то нитку, то газету. Даже Михаил посветлел, поласковел, расшутился, как раньше бывало.
– Хватит, Васька! – говорил он испуганно брату, наблюдая, как тот укладывает в чемодан пятый пирог. – Ты бы еще картошки полмешка с собой взял!
– Дорога дальняя, съедим! – успокоил Василий, бережно завертывая в белье десятка полтора вареных яиц.
Подмигнув матери и Алексею, Михаил горячо пожалел брата:
– Не бережешь ты себя нисколько. Тяжело ведь до станции нести тебе будет!
– Почему же мне? – вскинулся Василий сердито.
– А как же! – спокойно удивился Михаил. – Для меня и одного пирога много. Дай-ка, между прочим, его сюда, я в карман себе положу.
И пригрозил, видя, что Василий втискивает в чемодан еще две бутылки молока:
– Имей в виду, Васька: несу чемодан только полдороги!
Мать даже не улыбнулась на эту шутливую перебранку. Поэтому братья обрадовались, когда в распахнутом окне появилось большеносое личико Егорушки Кузина.
– Здорово, хозяева! – прокричал тонко Егорушка. – Письмецо вам, Алексей Тимофеевич.
Порывшись в сумке, он достал большой пакет.
– Получайте. И газетки сейчас дам. Раньше я их завсегда в собственные руки Тимофею Ильичу вручал. Идешь, бывало, а он уж дожидается у окошечка. Любил, покойная головушка, газетки читать…
Алексей взял письмо, убежал с ним в горницу, а Василий разговорился со стариком.
– Давно ли почтальонишь, Егор Алексеевич?
– Двадцать второй годик топаю.
– А как здоровьишко?
– Пока в колхозе работал, недужилось часто, а как письмоносцем стал – никакая хворь меня не берет! – похвалился Егорушка весело. – А почему? В ходьбе живу потому что. Скажу тебе, Василий Тимофеевич, самая это наилучшая физкультура для тела. Ну и опять же расстройства нервного нет в моей должности. Как я служу честно, то завсегда у начальства в почете и уважении.
– Вроде бы на отдых тебе пора, а ты все еще бегаешь!
– Потому и остановиться не могу, что разбежался больно шибко…
Мать зазвенела посудой в шкафу, протянула через голову Василия рюмку водки.
– Помяни, Егор Алексеевич, старика моего. Да зашел бы! Студня вот закусишь…
– Не могу заходить, Соломонида, на службе я. А рюмочку на ходу выпью за помин души дорогого Тимофея Ильича.
Когда Егорушка выпил вторую, Василий сказал шутливо:
– Гляди, как бы старуха твоя не заметила, что ты под хмельком!
– Эх, милай! – крякая и вытирая жидкие усики, засмеялся Егорушка. – Да я коего году корову пропил, и то не заметила, пока сам не сказал.
Тут даже Михаил изумился:
– Да как же это?
– Хоть и совестно, а расскажу. Года за три до войны дело было. Попала моя корова в степахинское поле. Она-таки блудня большая была, это верно. Ну переняли ее там, в колхозном овсе, акт составили. А чья корова, это им неизвестно. Стали хозяина искать, чтобы за потраву с него получить. Объявили в газетке, какой масти эта самая корова, и даже обозначили, что один рог у ей сломан. Ну, по всем сказкам, моя корова. Идти надо выручать, хоть и неохота мне за потраву платить. А баба покою не дает, каждый день понужает: «Иди, мужик, за коровой». Дура, говорю, она же у нас в запуске, молока сейчас не дает, спешить за ней нечего, пусть в чужом колхозе покормится.
Через недельку опять в газетке объявление о той же самой корове. Но я не иду за ней, вроде она и не моя. Потом слышу по радио объявление сделали. А я опять не тороплюсь. Никуда она, думаю, не денется. Прошло долгое время, встретил меня как-то пастух степахинский, Афоня Бурлаков. «Ты что же, говорит, Егор, за коровой не идешь? Ведь твоя, кажется, у нас корова-то»! Вижу, дальше тянуть нельзя. «Господи, говорю, а я ее третью неделю ищу, с ног сбился. Да как она попала к вам?» Ну пошли мы с ним в Степахино. Поглядел я на свою корову, а она хромает. Зашибли ногу ей, когда из поля выгоняли. «Нет, говорю, порченую я ее не возьму. А если, говорю, вы мне другую взамен не дадите, в суд подам». Они, конечно, не желают, на своем стоят. Пришлось подавать в суд. А как присудили мне деньги за корову, обидно им очень стало, передали дело в областной суд. Тот не разобрался толком, да и решил в их пользу. Ну тут уж меня за живое взяло. Подал я в Верховный Суд. И, веришь ли, быстренько там порешили – уплатить мне сполна деньги. Тот же Афоня Бурлаков и принес их под расписку. На радостях выпили мы с ним, конечно. И так это понравилось нам, что, веришь ли, целый месяц гуляли. Старуха моя забывать уж стала о корове, тем боле нетель я взял в колхозе. Только раз меня спрашивает: «Что же ты, Егор, деньги-то за корову не хлопочешь?» А того не знает, что у меня их нет давно. «Дура ты, говорю. Газеты читать надо. Видишь, чего сейчас в правительстве-то делается! До коровы ли им там до нашей: то одного судят, то другого. А Бухарина вон даже расстреляли совсем…»
Устыдил я ее таким образом, замолчала. Потом и забыла помаленьку. Да не узнала бы и до сей поры, кабы тот же Афоня Бурлаков не проговорился. Вышло так. Взяли меня на войну. До сей войны доктора браковали меня, потому что у меня сердце не на том месте, где полагается. А в эту войну оно оказалось на своем месте, Но повоевать мне так и не удалось. В стройбате дров попилил часа два, а тут как раз и война кончилась. Иду я домой. Только подхожу к дому, встречается мне Афоня. Ну ради встречи зашли ко мне. И старуха мне рада, ног под софой не чует. Поставила нам вина на стол. Афоня думал, что давно ей все известно. Подвыпили, он взял да и ляпнул: «А помнишь, говорит, Егор Алексеевич, как мы с тобой корову прогуляли!»
Как услышала это старуха, сразу у ней и сковорода с яичницей из рук выпала. Ну на радостях, что живой я с войны пришел, ничего мне плохого она на сказала…
Мать впервые после смерти отца оживилась, посмеялась неуверенно, тихонько.
– Сколько помню я тебя, Егор Алексеевич, всю жизнь ты веселый!
Егорушка подмигнул ей слезящимся глазом.
– Меня и в гроб положат, так я ногой лягну для смеху! – И спохватился вдруг озабоченно: – Заболтался я тут с вами, а дело-то стоит. До свиданьица!
Видя, как тускнеет снова лицо у матери, Михаил, толкнув локтем в бок вошедшего Алексея, спросил ее:
– Мать, а тебе отец не сказывал, как Васька молоко у Егорушки Кузина воровал?
– Да уж молчал бы! – вскинулся на него недовольно Василий. – Ведь сам же и втравил меня тогда в это дело.
– Кто? Я? – задрался сразу Михаил. – Ты брось, Васька, на меня клепать!
– Чего клепать? Припомни-ка! С гулянья тогда мы шли все трое, ну и, конечно, есть захотели, страсть как! А ты нам с Алешкой и говоришь: «Давай, робя, молоко тяпнем у Авдотьи Кузиной! Я еще с вечера, говоришь нам, приметил, как она три кринки на крыльцо выносила и на полицу ставила. Как раз, говоришь, по кринке на брата».
– Так я же тогда шутя это сказал! – горячо возразил Михаил. – А ты сразу обрадовался: «Давайте!» И нас обоих потащил с Алешкой: «Пошли тяпнем!»
– Я? Вас? Потащил? – возмущенно поднялся с пола Василий, бросив даже укладывать чемодан. – Ну-ка, давай спросим у Алешки сейчас, кто кого потащил. Он врать не будет!
И братья, смеясь и полушутливо переругиваясь, принялись вспоминать свое ребячье озорство. Да и как было забыть его?
…Тихо ступая босыми ногами, все трое поднимаются по скрипучим ступенькам Егорушкина крыльца. В деревне даже петухи спят, но над крышами уже светлеет весенняя заря.
– Давай, Васька, я на тебя встану! – шепотом командует Мишка. Взобравшись на согнутую спину брата, он шарит руками на полице, снимает кринку с молоком и сначала пьет сам. Вторую кринку подает Алешке. Васька, согнувшись, покорно и терпеливо ждет своей очереди. Наконец Мишка и ему подает кринку, а сам спрыгивает на пол. И в это время все трое слышат, как проснувшийся хозяин тихонько вынимает в сенях из двери запор.