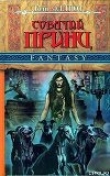Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
– Ну не контра ли! – так и взвился Синицын, зло и торжествующе глядя на Трубникова. – Вот он, твой середняк-то!
– За правдой и на край света съездить не грех! – усмехнулся тот в усы. – Народ правду разыщет, куда ее ни прячь. А в колхоз люди вернутся, и Тимофей Ильич вернется, только его у Бесовых отнять надо.
– Ну, хватит, посумерничали! – тяжело полез из-за стола Синицын. – С утра уж решать будем, как нам теперь быть… – Запирая правление на замок, уже дружелюбно сказал: – Заночуешь сегодня у меня, товарищ Трубников. А на квартиру завтра уже определим…
Кто-то шел быстро к правлению по дороге, закуривая на ходу, но спички гасли одна за другой, хоть ветра и не было.
– Кузовлев это, – вглядевшись, обеспокоенно сказал Боев. – Не случилось ли чего?
– Ко мне, что ли, Елизар Никитич? – закричал Синицын с крыльца.
Кузовлев сбавил шаг и неуверенно подошел ближе. Сдвинув на лоб финскую шапку, замялся, оглядывая всех.
– Да я, Иван Михайлович, ко всем вам, поскольку вы члены Коммунистической партии. Желал бы я всей душой к вам, в партию. Вот и хотел спросить, могу ли я, и как мне теперь быть…
Спускаясь с крыльца, Синицын потеплевшим сразу, дрогнувшим голосом ответил:
– Правильно ты надумал, Елизар Никитич, ужо в правление заходи ко мне. Побеседуем, как и что…
Глядя куда-то вбок, Боев спросил недоверчиво и сухо:
– А с бабой у тебя как, Елизар Никитич? Неудобно, гляди, получается-то: вроде ты с ней не разводился, а живет она с родителями, которые есть всем известные кулаки. Отсюда и она теперь, выходит, чуждый элемент.
– С бабой у меня, верно, товарищи, неладно, – потупился Елизар. – И сам еще не знаю, как оно дальше будет!
Стали выходить на дорогу. Глядя себе под ноги, Боев резко сказал, словно ударил:
– Баб много, а партия одна, Елизар Никитич!
– Оно, конешно, так, Савел Иванович, – виновато заговорил Кузовлев, идя сзади, – да ведь сынишка у нас, вот какое дело-то. Жалко!
– Тут уж сам выбирай: партия или баба! – отрезал холодно Боев.
Кузовлев долго еще шел молча за ними, потом шаги его стали помаленьку затихать и, наконец, умолкли совсем. Оглянувшись, Трубников увидел, как он свернул с дороги прямо в снег и идет, ничего не видя, согнувшись, будто несет на плечах что-то невидимое, но тяжелое.
– Зря, пожалуй, отпугнул ты его, Савел Иванович, – упрекнул Боева Трубников. – Хоть человек этот и незнакомый мне…
– Мужик для партии подходящий, – поддержал впервые Трубникова Синицын, – а что с бабой толку дать не может, дак с ней сам черт не совладает…
– А долго ли она замужем-то была? – поинтересовался Трубников.
Боев свернул с дороги к утонувшей в сугробе избе, нехотя ворча:
– Годов семь, поди.
– Ну какой же она после этого чуждый элемент?
– Кто ж она, по-вашему? – сразу останавливаясь, огрызнулся Боев. – На кулацком иждивении состоит, да и агитацию ведет антисоветскую. Будь я на месте Елизара, на порог бы ее, суку, не пустил к себе, а он все еще колеблется, разводиться с ней али нет. От любви страдает, вишь, забыть никак не может!..
Тоскливо и протяжно высморкался, повалял варежкой с боку на бок утиный нос.
– До свиданьица.
«Такую, брат, бабу не вдруг забудешь!» – улыбнулся Трубников про себя, вспоминая синеглазое, чернобровое и румяное лицо Насти.
Повернули куда-то на задворки. Избенка Синицына, непомерно высокая, с двумя узкими окнами, имела какой-то скорбный вид. И стояла-то она, как обиженная, на самом отшибе. Не только «хозяйства» какого-либо, даже поленницы дров не заметил во дворе около нее Трубников. Чернел лишь у крылечка толстый чурбан с воткнутым в него топором, да валялась рядом в снегу старая жердь, снятая, видно, с изгороди.
В избе было тесно и темно. Маленькая коптилка, поставленная на перевернутое кверху дном блюдо, освещала только передний угол избы, оклеенный газетами. Из божницы весело щурился с портрета сквозь очки Михаил Иванович Калинин, а под ним, на полочке для Евангелия, лежал красный томик Ленина.
Трубников сел на лавку и оглянулся, заметил на полатях три встрепанные черные головы с блестящими глазами и зубами. Среди них он увидел знакомую – Ромкину. Подперев щеки руками, Ромка внимательно глядел вниз на отца и гостя.
С горьким сожалением вспомнил тут Трубников о своем чемодане, который оставил в сельсовете, не желая ждать подводы. А в чемодане нашлось бы сейчас ребятам хорошее угощение: товарищи на фабрике выписали и насовали Трубникову в дорогу конфет, петифура, шоколада.
Жена Синицына, широкоплечая невысокая женщина с усталым лицом и покорно-равнодушными глазами, молча стала собирать на стол.
– Садитесь, поужинаем, – смущенно пригласил гостя Синицын, подвигая ему на край стола блюдо квашеной капусты и ломоть хлеба.
Трубников поел немного и потянулся за чаем.
– Сахару-то нет, извините уж, – опять засмущался Синицын. – Не привозят что-то в лавку к нам…
– У Назара, что ли, муки-то попросить? – безучастно спросила жена, стоя посреди пола со сложенными на животе руками. – Хлебы ставить надо, а мука-то вышла вся…
Синицын промолчал, отодвинул прочь пустое блюдо и залпом выпил остывший чай.
– За сеном бы тоже съездить надо, – не двигаясь с места, напомнила ему жена.
– Заняты все лошади сейчас в колхозе, – ответил Синицын. Вытер мокрые усы и стал снимать валенки.
– Стели нам, Авдотья.
– А я, тятя, на санках сам за сеном съезжу, – сказал с полатей Ромка.
– Спи, – поднял на него посветлевшее лицо Синицын. – Много ли ты на санках привезешь!
– Так я два раза съезжу, – не унимался Ромка.
Постелив на пол две старые овчинные шубы, Авдотья залезла на печь и притихла. Заснули скоро и дети, только Ромка внимательно слушал, что говорят взрослые.
Синицын долго сидел босиком на постели, охватив острые колени руками и низко опустив голову.
– Не могу я, все ж таки, поверить этой статье, товарищ Трубников, – грустно сказал он.
Охваченный жалостью к нему, Трубников спросил:
– А ты Ленину… веришь?
– Как же можно товарищу Ленину не верить! – тихо и горячо воскликнул Синицын.
– Я вон у тебя на божнице книжку Ленина вижу. Возьми да почитай, что он о середняке пишет, я тебе сам завтра найду и покажу…
Синицын потянулся в угол и взял с божницы красный томик с черным профилем Ильича. Бережно лаская книгу ладонью, задумчиво сказал:
– Я дорогого Владимира Ильича самолично видел и слышал, товарищ Трубников…
Глубоко вздохнул и, стыдясь, признался:
– А что до чтения, то памяти нет у меня. Возьму книгу эту иной раз, читаю, читаю, а как закрою – ничего не помню. Газом я травленный на фронте, да и контужен притом же.
И дунул на коптилку.
Спать было душно и жестко. Трубников не однажды просыпался среди ночи и всякий раз слышал рядом глухой кашель Синицына и видел красный огонек его цигарки.
Уже рассвело, когда он снова открыл глаза. Синицын все еще сидел неподвижно на постели, с посеревшим за ночь лицом. Заметив, что гость не спит, он взглянул на него воспаленными глазами и качнул головой, зло и горько шепча:
– Эх, темнота наша! Из-за этого пропадаем.
Встал, сходил напиться и начал обувать валенки.
– Давай народ собирать, уполномоченный.
5
Придавила бы совсем Елизара тоска чугунная, кабы горевать было время! А то поставили его в колхозе полеводом и все равно как в огонь кинули. Шутка ли: скоро сеять, а семена не готовы, плуги и бороны не починены, во всем колхозе ни одной целой телеги нет, лошадей же хоть на веревки подвешивай – до того истощали от плохого ухода. Тут не только про семью – сам про себя забудешь!
Насти Елизар, как приехал, не видел ни разу. Должно быть, стыдилась она показываться часто на люди, сам же он нарочно избегал встречи с ней. Да и жили Бесовы за ручьем, куда не доводилось ему ходить по делу: все хозяйство колхоза – и общественные амбары, и конный двор, и ферма, и кузница – было на горе.
Но как ни крепился Елизар, как ни топил в колхозных тревогах домашнюю беду, а напомнила она о себе, да так, что повернула в нем все разом.
После обеда как-то собрался он сходить к амбарам, где сортировали семенное зерно. Уже спустившись с крыльца, заметил случайно чьего-то парнишку во дворе у поленницы. В думах прошел бы мимо, да толкнуло что-то в сердце, остановился. То и дело вытирая рукавом нос, парнишка стоял и неотрывно глядел на окна Кузовлевых. Одна штанина у него вылезла из валенка, шапка сползла на лоб, руки он, согнув в локтях, держал кверху, чтобы с них не свалились варежки. Увидев Елизара, робко попятился и прижался спиной к поленнице.
«Должно быть, Степы Рогова мальчонка! – подумал Елизар. – Завсегда один гуляет, будто нелюдим какой!»
И хотел уже свернуть на задворки, как увидел вдруг такой знакомый, до боли родной розовый носишко, жалобно торчащий из-под шапки, и испуганно-радостные ярко-синие Настины глаза на побелевшем от холода личике.
У Елизара остановилось дыхание. Присев на корточки, он охватил сына руками и, часто мигая, закричал шепотом:
– Васютка! Откуда ты взялся-то? Сам пришел?
– Шам, – сипло ответил мальчик.
И улыбнулся несмело щербатым ртом: в нем не хватало трех зубов. Может, сами выпали, а может, упал где-то и вышиб.
Елизара пронзила догадка, что мальчонка ждал его на улице больше часу, не смея войти в избу. Схватив сына в охапку, он взбежал с ним в сени и загрохотал ногой в дверь.
Старики переполошились, заохали над внучонком и, раздев его, посадили на печку. Когда он отогрелся, бабка налила ему блюдо горячих щей.
Елизар молча сидел рядом, гладя дрожащей рукой встрепанную голову сына. Тот ел чинно, как в гостях, кладя часто ложку на стол и не торопясь. Осмелев немного, заговорил:
– А у того дедушки шобака есть. Жлющая-прежлющая! Раз как цапнет меня жа ногу, так валенок и прокусила. Дедушка осердился да кнутом ее. А мне говорит: «Ты ей каждый день хлеба давай, она к тебе и привыкнет». Уж я давал ей, давал хлеба, а она все жубы на меня шкалит. Потом перештала. А теперь я когда хошь к ней подхожу…
– Мы с тобой свою заведем! – пообещал сыну Елизар. – У Егорки Кузина сука ощенилась, так я ужо за щенком схожу к нему. Какого лучше взять-то – черного али белого?
– Черный-то красивше. Ты мне домой его дашь?
Елизар, не ответив, отвернулся.
– Ну как живешь там?
– Хорошо. Мне дедушка надысь пальто новое привез да валенки, а еще, говорит, балалайку настоящую к лету куплю…
Ревниво оглядывая сына, одетого во все новое и чужое, Елизар спросил тихонько:
– А мамка твоя как живет?
Мальчик шмыгнул носом, подумал о чем-то, опустив глаза, и неохотно пожаловался:
– Ругаются они…
– Кто ругается?
– Да мамка с бабушкой и дедушкой. Каждый день только и жнают, что ругаются…
– Чего им не хватает?
– Не жнаю, – грустно ответил мальчик.
Елизар со вздохом встал с лавки, обнял сына рукой.
– Идти мне надо, Васютка. А ты меня дождись тут, я вернусь скоро. Ладно.
Мальчик вдруг крепко прижался горячим телом к его ноге, так что Елизар почувствовал его тонкие ребрышки и частое биение маленького сердчишка.
– К мамке хочу! – заплакал он, прижимаясь к отцу еще крепче. – А то жаругает она меня. Где моя шапка?
– Не заругает. Скажешь, что я не отпустил, – ласково принялся уговаривать его Елизар. – Сиди тут, играй. А то вон попроси дедку лыжи сделать. Возьмите во дворе две доски, а у бабки обечайку от старого решета попросите – и будете мастерить.
Дождался, когда дед с внуком занялись лыжами, и тихонько вышел из избы. Брел задворками, как потерянный, все еще видя встрепанную голову сына на тонкой шее, слыша его шепелявый разговор и ощущая тепло родного тела. Уже у самых амбаров он поднял голову и тут же забыл обо всем, опаленный гневом. Подсевальщицы с решетками, сбившись в кружок, судачили о чем-то, забросив работу. Сортировка тоже стояла без дела. На половики, где лежало чистое зерно, ногами наношено было много грязного снегу.
Елизар уже хотел пугнуть баб ядреным матом, но удержался и неслышно подошел ближе.
– Хватит, бабы, языки-то чесать! – услышал он чей-то сердитый голос, как показалось ему, Парашки Солдаткиной. Но бабы не шелохнулись, увлеченные разговором. Елизар увидел в середине бабку Секлетею Гущину. Всплескивая руками и часто тараща бесцветные глаза, отчего коричневая бородавка ходила у ней по лбу ходуном, Секлетея басом рассказывала:
– …Как он глянул, родные мои, на небо-то, а по нему кужель огненный летит, да всю деревню так и осветил, как днем. Тут Егорша без памяти так и пал…
– Не к добру это, бабы! – охнула в страхе высокая молодуха.
«Ты у меня поагитируешь еще, старая квашня!» – с сердцем подумал Елизар. Пробравшись незаметно к Секлетее, он присел рядом с ней на корточки и притворился, что слушает ее рассказ, даже рот нарочно раскрыл, будто от удивления.
Смешавшись вначале, бабы опять уставились на Секлетею, думая, что Елизару и самому страх как интересно послушать ее. Елизар терпеливо дождался, когда Секлетея остановилась перевести дух.
– А мне-то, бабка, прошлой ночью диво какое приснилось, – вступил он в разговор. – Лег я спать, и вот снится мне, что у Кости Гущина овин отелился. Ей-богу! Так ведь не то дивно, что отелился, а то дивно, что яловым был. К чему бы это?
Бабы смущенно засмеялись, а Елизар, с удивлением и страхом оглядывая всех, заговорил уже чуть не шепотом:
– Только этот сон кончился, сделалось видение мне. Едет на колеснице Илья Пророк, он по колхозам нонеча ездит, проверяет, готовы ли к севу. «Ну, – спрашивает, – раб божий Елизар, есть ли семена у вас?» – «Как же, – говорю, – готовы! Завтра сортировать заканчиваем». – «Врешь, – говорит. – Мне сверху все видно. Если так будете сортировать, вам и в неделю не управиться. Погляди, – говорит, – к примеру, на рабу божью Секлетею. Ведь она только языком сортирует да других от дела отбивает. Я вот, – говорит, – ужо обратно поеду – прихвачу ее с собой. У нас, – говорит, – на том свете с такими грешниками разговор короткий: в котел – и на мыло!»
С визгом и хохотом бабы разбежались по местам, а Секлетея, оставшись одна, долго не могла опомниться, растерянно оглядываясь вокруг. Потом плюнула, перекрестилась и стала искать свое решето.
– Вот что, бабоньки! – уже строго сказал Елизар. – Надо вам тут старшего для порядка выбрать. Кого хотите, того и выбирайте.
– Парашку.
– Кого же больше-то!
– Она всех справедливее.
И бабы со смехом вытолкнули вперед Парашку Солдаткину.
– Ну вас, бабы! – застыдилась та. – Меня и слушать-то никто не будет.
– Будем!
– А ты с ними посурьезнее! – наставлял Елизар. – Которые ленивые да языком треплют много, бери сразу на заметку. Я и карандаш тебе сейчас дам…
Бабы сердито притихли.
Давно не видел Парашки Елизар. Так выровнялась да расцвела девка, что и узнать нельзя. Все тоненькая была, как вица, да голенастая, а тут словно соком налилась. И к народу подхожая, видать, и характером веселая.
«Кабы Настя у меня такая была!» – позавидовал про себя Елизар, а вслух подивился:
– Совсем ты, Парашка, невестой стала! На свадьбу-то когда позовешь?
– Жениха нету, Елизар Никитич! – бойко ответила она. – Хоть бы ты поискал.
– Куда же он девался-то?
Вздохнула Парашка не то шутя, не то всерьез, и глаза бедовые погрустнели сразу.
– Моего жениха, Елизар Никитич, на льду громом убило!
– Вечная ему память! – снял шапку и перекрестился истово Елизар под бабий смех. – Хороший парень был! Но уж коли ты овдовела, может, за меня пойдешь? Я теперь тоже вдовый.
– Ой, что ты такое говоришь-то, Елизар Никитич! – смутилась Парашка. – Да ведь мне Настя глаза выцарапает.
И потянула его в сторону за рукав.
– Словечко тебе сказать надо.
– Какое?
– Чего уж, Елизар Никитич, не зайдешь-то к ней? – горячим шепотом принялась она пенять ему. – Третью неделю как приехал, а и глаз не кажешь. Совсем уж загордел. А то небось не знаешь, ей-то каково!
Обозлился было Елизар на Парашку: девчонка еще, а в чужое семейное дело свой нос сует! Хотел уж отругать ее и прочь идти, да не пускают цыганские Парашкины глаза, на самом дне сердца шарят.
– Неужто, Елизар Никитич, у тебя и любви к ней не осталось нисколечко?
И в уме не держал Елизар отвечать на это Парашке, да само как-то сказалось:
– Я ее не гнал от себя. А раз другого себе нашла, ну и пусть живет с кем ей любится!
– Вот уж и неправда, Елизар Никитич! – так и вскинулась Парашка. – Зря это про Настю болтают. Подкатывался к ней, верно. Степка Худорожков, так это все Лизавета подстроила. А сама Настя живо ему от ворот поворот указала. Из-за этого у ней с матерью, с Лизаветой-то, и ругань сейчас идет…
У Парашки даже глаза сверкнули слезой.
– Хоть бы, говорит, мимо окошек когда прошел! Поглядеть бы на него в остатный разок.
Оглянулась и чуть слышно, как ветер, дохнула:
– Уезжают ведь они в Сибирь скоро, хозяйство-то бросать хотят! Здесь, говорят, житья не стало, бежать надо, пока не сошлют. Ну и пусть Кузьма с Лизаветой едут, а Настя-то с Васюткой за какую провинку страдать будут? Не зря она каждый день слезами уливается. Сколько раз уж пытала про тебя.
– Когда? – вздрогнул Елизар.
– Да и вечор пытала: не зайдет ли, мол, для разговора, али, может, из дому вызовет к тетке Анисье.
Ничего не сказал Парашке Елизар, повернулся, пошел.
«Брешет, поди, по бабьей жалости! – думал он, все еще не веря ей. – Да и с чего она за Настю стараться так будет? Никогда у них дружбы между собой не было!»
И тут припомнил вдруг: прошел как-то слушок по деревне, что очень уж любовь большая была у Парашки с Зориным Алешкой, пока тот в город не уехал. И письма он ей оттуда писал сперва, к себе все звал, а потом, как отказалась она ехать от больной матери, отстал Алешка от нее совсем, женился на городской, видно. Сказывали, что горевала Парашка сильно, да и сейчас еще будто бы тоску по нем в сердце носит. Может, по несчастью сдружились они с Настей-то?
– Становись к сортировке, Марья! – слышал он сзади громкий голос Парашки. – А ты, Люба, мешки с Василисой будешь насыпать. Да поживее, бабы, поворачивайтесь! Кончать сегодня надо.
А Елизар шел, уже не замечая ничего кругом.
«Правду, видно, Парашка о Насте-то сказала! – колотилось у него в радости сердце. – Кабы не любила, не звала бы, не плакала бы…»
Сзади заскрипели полозья. Елизар оглянулся. Впрягшись в оглобли, Тимофей Зорин тащил из колхоза домой дровни, на дровнях лежала зубьями кверху борона, а на ней плуг.
Поздоровался Елизар, остановился.
– Что уж торопишься больно из колхоза-то, Тимофей Ильич! Али времени было мало Бурку запрячь?
– Под гору-то легко, – избегая глядеть Елизару в лицо, угрюмо ответил Тимофей. – Довезу и сам.
– Зато в гору трудновато будет, – усмехнулся Елизар.
Ничего не ответил Тимофей, вытер пот со лба рукавицей, поехал дальше.
Не успел Елизар и пяти шагов ступить – навстречу Константин Гущин. Тот на лошади едет, к дровням две коровы привязаны.
– К нам? – обрадовался Елизар.
Поднял голову Константин – лица на нем нет, посерел весь, борода встрепана, в ястребиных глазах тоска. Только рукой махнул.
– Второй раз в эту гору поднимаюсь, Елизар Никитич. Крута больно!
Надвинул шапку на лоб, почесал затылок.
– Ноне всю зиму только и знаем, что ездим в гору да под гору.
Дернул сердито вожжи.
– Н-но, холера!
Тронулся с места и Елизар со своими думами, а как опамятовался, увидел, что и сам спешит под гору, за Тимофеем Зориным следом. И тут понял и почувствовал вдруг, что не может без Насти жить. Дивясь на себя, как он выдержал эти три недели, не видев ее. Елизар прибавил шагу.
Отчаянный страх потерять жену и сына напал вдруг на него и погнал под гору бегом.
«Не отдадут – уведу силой!» – решил он.
6
В доме тестя во всех окнах горел яркий свет. Елизар крутнул холодное кольцо щеколды и ступил во двор. Черный пес, лязгая цепью, молча рванулся из конуры и прыгнул на него со всего разбегу. Но, опрокинутый натянувшейся цепью, захлебнулся в бессильной ярости хриплым лаем. Елизар пнул его ногой в бок, взбежал на крыльцо и заколотил в дверь.
На стук вышел сам хозяин, спросил осторожно:
– Кто?
Охрипшим голосом Елизар потребовал:
– Отопри, Кузьма Матвеич!
Хозяин, помешкав, открыл дверь и впустил его, мирно говоря:
– Милости просим, дорогой зятек!
Темными сенями Елизар быстро пошел вперед, и первое, что увидел, широко распахнув дверь в избу, – белое, растерянное лицо Насти, вскочившей из-за стола. Опустив руки и не шевелясь, она испуганно и виновато глядела на него. Потом, нагнув голову, чтобы скрыть слезы боли и радости, кинулась в горницу.
– Уж не знаю, как тебя и привечать, – говорил сзади Кузьма. – Впервые ты у меня в гостях-то!
Озадаченный радушием тестя, Елизар медленно прошел к столу и сел на широкую крашеную лавку. Отсвета пузатой двадцатилинейной лампы, висящей под потолком, в просторной избе все сияло и сверкало кругом: оклады икон в углу, толстое зеркало, занимающее целый простенок, колесо швейной машины, большие никелевые шары кровати, труба граммофона, стоящего на краю длинного стола.
Сыновей хозяина – Петрухи и Фомки – не было: задержались, должно быть, на мельнице.
Кузьма сел наискосок от Елизара. Недовольно повел острой бородкой и длинным носом в сторону горницы.
– Лизавета! Не видишь, гость пришел! Где ты там?
Из горницы черной тенью неслышно вышла жена Кузьмы, прямая, как доска, с худым суровым лицом, с гладко причесанными, блестящими от масла волосами. По голосу мужа поняла, видно, что гостя надо привечать. Поклонилась молча Елизару, крепко сжав губы и съедая его яростным взглядом. Елизар глянул на нее исподлобья, сказал сквозь зубы:
– Здорово… теща!
Сбросив со стола на лавку какое-то шитье, оставленное Настей, Кузьма скомандовал:
– Собери закусить. Да вина поставь! – и взглянул на Елизара с тонкой улыбкой. – Без этого у нас разговору с зятем не получится.
Елизар выпрямился на лавке и надел снятую было шапку.
– Я и трезвый могу сказать. За Настей пришел. За своей женой!
Кузьма улыбнулся ласково:
– Вижу. Другой причины нет у тебя ко мне заходить.
И крикнул на жену:
– Скоро ты там?
Елизавета безмолвно поставила на стол нарезанное ломтиками розовое сало, тарелку соленых рыжиков с луком и графин с водкой.
Наливая большие тонконогие рюмки, Кузьма засмеялся и подмигнул зятю.
– Ловко же ты, Елизар Никитич, дочку у меня тогда самоходкой уволок! Прямо как цыган лошадь с чужого двора…
Подвинул осторожно рюмку Елизару.
– Я хоть и в обиде на тебя по первости был, ну только это сгоряча. Уважаю, брат, за хватку! Завидую даже таким людям, вот как!
«Да уж такого хвата, как ты, поискать! – думал Елизар, поднимая рюмку. – Только не пойму я никак, с чего ты вдруг нынче такой ласковый стал?»
Сложив на груди сухие белые руки и поджав губы, Елизавета безмолвно стояла у косяка двери в горницу. Вся в черном, с глубоко ввалившимися глазами на восковом лице, она похожа была на старую монахиню.
«От злости да от жадности, что ли, ты высохла!» – ругал про себя тещу Елизар, искоса на нее взглядывая. Его оскорбляло сходство Насти с матерью. У тещи был такой же прямой и тонкий нос, как у Насти, и такие же, как у Насти, плотные черные ресницы, даже голову держала она высоко и прямо, как Настя. Вспоминая, что и характером Настя во многом похожа была на мать, Елизар все больше наливался ненавистью к теще.
– Из-за чего с бабой-то не поладили? – участливо добирался Кузьма, наливая зятю вторую рюмку.
Елизавета вздохнула с набожной кротостью:
– Кабы венчаны были да с родительского благословения, и сейчас вместе жили бы да радовались только.
– Много ты понимаешь! – грозно повел на нее носом Кузьма. – Нас вот и венчали с тобой, и благословляли, да что толку-то? Не больно я с тобой радовался.
Елизавета перекрестилась, подняв глаза к потолку.
– Бог тебе судья, Кузьма.
Чокнувшись с Елизаром, он выпил, налил себе еще рюмку и мотнул головой на графин.
– Убери вино. Зятю нельзя пить больше: на должности он, всем виден. Осудить люди могут.
Морщась от вина, Елизар признался тестю:
– Думаем мы с Настей разно, потому и не ладим…
– Бабе думать не полагается! – перебил его Кузьма. – Лизавета, позови Настю! Муж пришел, а она хоронится. Кому сказано? Глядите у меня, едят вас мухи!
Когда Елизавета ушла в горницу, задумался, быстро хмелея и тоскливо мигая мокрыми глазами.
– Эх, жизнь наша! Одно неудовольство.
Потянулся к граммофону, щелкнул чем-то.
– Повеселим душу, зятек! Вроде как на свадьбе.
Ткнул иголку в черный круг и полез из-за стола, расправляя широкие костлявые плечи.
В зеленой трубе граммофона зашипел кто-то по-змеиному, потом беззаботно развел гармонию, будто лады пробовал, и вдруг хватил с перебором «Камаринского».
Кузьма тонко ухнул и пошел по кругу петухом, склонив набок большую круглую голову и далеко откинув правую руку, а левую прижимая к груди.
Дверь горницы скрипнула. Держась за косяк, Елизавета уставилась на мужа холодными, ненавидящими глазами. А он, вызывающе топнув перед Елизаром, отступил к столу, часто дыша.
– Вот как жить-то надо, зятек!
Сел на лавку, зажмурился, подоил острую бороду, грустно усмехаясь.
– А и пожито было! Есть что вспомнить и есть за что муку принять.
Сменил пластинку и сунул голову чуть не в самую трубу, подняв палец.
Словно издалека мужской голос пропел-спросил:
Соловей, соловьюшек,
Что ты невеселый?
Повесил головушку
И зерна не клюешь?
Подождал, подумал, видно, пока играла музыка, и ответил жалостно:
Клевал бы я зернушки —
Да волюшки нет.
Запел бы я песенку —
Да голосу нет.
Соловья маленького,
Хотят его уловить,
В золотую клеточку
Хотят посадить…
Упершись бородой в грудь, Кузьма дослушал песню до конца, вытер глаза кулаком.
– Чуешь, зятек, долю мою?
Елизар, нахмурясь, отодвинулся прочь от стола.
– Насчет политики, Кузьма Матвеич, не будем толковать. Не сойдемся мы тут с тобой!
Кузьма улыбнулся горестно.
– Оно конешно: какой с кулаком разговор может быть! Кулак, он – кровопивец, Советской власти – враг!
Ласково гладя сияющую лысину, попенял отечески, с мягким укором:
– Горячки в тебе много, зятек. И гордости тоже. Может, бабе и любо это, а в жизни мешает. М-м-да. И легковерен ты очень. Вот и обо мне судишь неправильно, по наветам худых людей…
Откачнулся в тень абажура и приложил руки к груди.
– Да разве я Советской власти враг? Разве я законов советских не сполняю? Разве вор я какой али убивец? Сохрани меня бог! Может, завидуют люди, что живу богато? Так что же теперь мне богатство-то свое, трудом нажитое, людям отдать? Могу! Но только не лодырям, а чтобы в хорошие руки. Пущай Советская власть у нас, мужиков, берет и землю, и скот, и разную там хозяйскую надобность, а нас, как рабочих, на жалованье посадит. Вот тогда уж все будут равны, никому не обидно. Работай, мужик, на чужой земле чужим орудием и получай деньги, сколько выработаешь. А от колхозов толку не будет! Передерутся там все. Помяни мое слово.
Елизар вспотел сразу, не зная, что ответить, и тяжко раздумывая.
– Круто больно берешь, Кузьма Матвеич, – вытирая лоб шапкой, сказал он погодя. – Ежели мужика сейчас вовсе земли и скота лишить, интересу в работе у него не будет без привычки-то. На это не пойдет он! А в артели мужику гораздо способнее: кроме общего, у него и свое хозяйство будет, хошь и маленькое. Рыску меньше.
– Не пойдет, говоришь? – сверкнул глазами Кузьма. – А я пойду! У меня хоть сейчас до нитки забирайте все. Не жалко. Я за жалованье работать согласный, по справедливости. Вот те и кулак! Вот те и жадный!
«Придет время – отдашь! – думал весело Елизар. – Чуешь, видно, собака, что все равно возьмут, оттого и раздобрился так».
– Эх, зятек! – вздохнул хвастливо Кузьма, выдвигая из-под лавки зеленый сундучок, окованный железом. – Я и не такого капиталу лишался, да и то не жалею!
Открыл сундучок, набитый доверху николаевскими деньгами, и, вороша дрожащей рукой радужные пачки сотенных, закричал сердито:
– Гляди! Я тогда на них всю Курьевку с потрохами мог бы купить. А теперь на что они? Ушла из них сила-то? И куда ушла – неизвестно.
Примял деньги сапогом, захлопнул крышку и пнул ногой сундучок под лавку.
– Для интересу берег. Горницу думаю оклеить.
Сторожко взглянул на Елизара, щуря один глаз.
– Я тебе, зятек, верю. Потому и дочку отдаю. Знаю – не пропадет она за тобой. Только вижу – трудно тебе.
Подумал, покосился на дверь, постучал пальцами по столу.
– Уеду я скоро. В Сибирь. Съели меня тут. Брошу все. Дом вам с Настей оставлю. Корову дам. Ежели мало – бери две. Вам жить.
Елизар потемнел, не сразу ответил:
– Чужого добра не возьму, Кузьма Матвеич. Не надо мне. Свое наживать будем.
Выпрямившись на лавке, Кузьма согласно качнул головой.
– Понимаю: взял бы, да нельзя! Стало быть, и разговора этого вроде не было у нас…
Дверь в горницу скрипнула опять. Елизар так и встрепенулся весь, метнув туда быстрый взгляд.
Вошла Настя, как всегда высоко неся непокорную голову, словно оттягивал ее назад большой черный узел волос на затылке. Не поднимая отяжелевших ресниц, сказала Елизару чуть слышно:
– Здравствуй.
Как чужая, села на край лавки, подобрав широкий синий сарафан. Сложила руки на коленях и застыла, плотно сжав губы и ни на кого не глядя. Только высокая грудь ее чуть приметно поднимала и опускала красную кофту да, вздрагивая, покачивалась на розовом ухе маленькая сережка, похожая на тонкий серебряный месяц.
Не глядя на дочь, Кузьма приказал:
– Собирайся.
Она не пошевелилась, не подняла глаз, часто роняя на кофту крупные слезы.
Елизар подошел к ней, взял за локоть и поднял с лавки, ласково говоря:
– Пойдем домой, Настя. Подурила и хватит.
Елизавета, окаменев у косяка от ярости и горя, проводила их до порога немигающими глазами.
Не попадая руками в рукава, Настя стала одеваться. Впервые почувствовал Елизар нечто вроде благодарности к тестю, который, сам того в душе не желая, помог ему вернуть Настю. Уже взявшись за скобку, поклонился:
– Спасибо, Кузьма Матвеич, за привет. До свиданьица!
– Прощай, – холодно и сухо ответил Кузьма, низко опуская лысину. – Сундуки Петруха завтра привезет…
На крыльце Елизар с тревожной радостью спросил Настю:
– Волей али неволей идешь?
Настя метнулась на грудь ему, крепко хватаясь руками за плечи.
– Елизарушка!
В дверях глухо стукнул за ними запор.
7
В первое время, как ушел Тимофей из колхоза, полегчало у него на душе: и сердце перестало болеть за свое добро, и голову от тяжелых дум надвое не разламывало. А кабы распался в Курьевке колхоз, еще спокойнее стало бы. Не точило бы тогда сомнение, ладно ли сделал, не ошибся ли, что ушел.
Но колхоз в Курьевке не, распадался никак. Хоть и мало оставалось людей в нем, да ухватились они, видать, за артельное хозяйство цепко. С утра до вечера звенела на всю деревню колхозная кузница, около амбаров неугомонно тарахтела сортировка, а за гумнами, где колхозники строили из старой риги конюшню, празднично благовестили топоры.