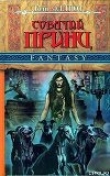Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
И велел Кузовлеву:
– Шоферов накорми тут поскорее и ночевать устрой, Елизар Никитич. Перезябли, поди…
Откуда-то из темноты лесник проворчал:
– Я сейчас бабе своей скажу, чтобы самовар ставила. У меня и заночуют, места хватит…
Путаясь ногами в тулупе, Роман Иванович заторопился на конный двор. С дороги услышал за спиной неуверенный голос Ефима:
– Вернешься? Не обманешь?
Правленцы все еще стояли у крыльца плотной кучкой, глядя вслед ему с надеждой и страхом.
– Да я же дела сдавать еду! – счастливо засмеялся Роман Иванович.
На конном дворе кинулась от ворот навстречу ему белая баранья шуба с поднятым воротником.
– Конюх? – обрадовалась шуба, но, узнав Романа Ивановича, разочарованно удивилась:
– Ах, это вы, сударь! Все еще здесь? Вторую неделю? Впрочем, это полезно для вас! И для дела тоже.
– Да вот уезжаю, Петр Поликарпович!
– В Степахино? – обрадовался Зобов. – Прихватите и меня, голубчик. Мне с утра завтра все дела в Степахине закончить надо, чтобы к полудню в Белуху попасть. А я целый час тут конюха жду. Ушел, говорят, на собрание. Я и по фермам пробежаться успел, проверил, чего по акту нашему делается… Так возьмете меня с собой?
– Ну, конечно, Петр Поликарпович!
Застоявшаяся Найда в пять минут вынесла их за деревню, но полем пошла тише, часто прядая ушами. В зеленовато-бледном лунном сумраке ни жилья, ни леса, ни огней не видно было. Дорогу замело, и только по пению телеграфных столбов справа да по редким черным вешкам слева, и догадывался Роман Иванович, что едет правильно.
Все крепче задувал сиверко, даже звезды, казалось, озябли, дрожали и ежились в темной небесной глубине от холода.
Роман Иванович опустил уши у шапки, а Зобов достал из кармана шубы и надел на голову белый башлык, став сразу в белой шубе и башлыке забавно похожим на крупного поросенка.
– Похвально, похвально, сударь! – поднял он острое поросячье рыло башлыка на Романа Ивановича. – Хорошо вы помогли мне, спасибо. Вникали, видать, во все сами, целую неделю, поди-ка, торчали на фермах! Ну зато и результаты есть: и в помещениях чище стало, и скотину кормят лучше теперь, и надои увеличились весьма заметно. Вот что значит, сударь, конкретная помощь специалиста! А от собраний да заседаний, от агитации вашей, извините, молока не прибавится. Теперь, надеюсь, и вы это поняли!
Глубоко обиженный за свою партийную работу в колхозе, Роман Иванович не пощадил в этот раз своего бывшего учителя.
– На фермах я, Петр Поликарпович, – нарочито виноватым голосом признавался он, – с того дня, помните, ни разу больше и не бывал. Времени, к сожалению, не хватило. Кормовой рацион только пересоставил, когда сена и картошки колхозники на фермы привезли. А так все больше партийной работой увлекался: то руководителям помогал к собраниям готовиться, то агитаторов мы с Зориным подбирали да инструктировали, то соревнование в колхозе организовывали… А тут еще с Левушкиным сколько возились: на партийном собрании его слушали да из партии исключали. Когда мне было о надоях думать! Так что никакой моей заслуги в росте надоев нету. Ваша это с ветеринарами заслуга! Главное ведь – мероприятия разработать…
Зобов не ответил ничего, только кашлянул неопределенно, словно хрюкнул.
Нарочно выждав, Роман Иванович позавидовал со вздохом:
– Уж вы-то, наверное, успели за эти дни!
– Все успел! – поднял еще выше воображаемый пятачок Зобов. – В трех колхозах побывал. Обследовал, указания дал и даже проверить успел на обратном пути, что сделано…
Погодя немного Роман Иванович спросил с коварным простодушием:
– Ну и как?
– Плохо, брат! – не чуя ловушки, признался Зобов и пожаловался возмущенно: – Не занимаются руководители животноводством. Не хотят понимать его значения. М-м-да! Колхозники, те больше о деле пекутся. Такие, скажу вам, чудесные люди на фермах, и такой у них подъем сейчас, а помощи настоящей они от руководителей колхозов не получают…
– Ну, теперь после вашей проверки и руководители наверняка расшевелятся!
– Некому их там расшевелить! – уныло пожаловался Зобов. – В колхозе «Победа», например, и зоотехник есть, а что из того? Больно он смирный, инертный! Вот вас бы туда послать!
– Какой я зоотехник! – отмахнулся Роман Иванович. – Я ведь партийный работник. От меня толку мало. Мое дело, как вы говорите, собрания да совещания разные проводить, агитировать. А ведь от всего этого молока не прибавится.
– Что вы хотите, собственно, сказать, этим, сударь? – поняв иронию, сердито всполошился Зобов.
– Да ничего особенного. То, что сказал.
– М-м-да! Любопытно, – проворчал Зобов и умолк. Обиделся ли на Романа Ивановича, задумался ли над его словами, кто его знает.
А Роман Иванович уже не видел перед собой ни дуги, ни остроухой головы Найды, ни снежного поля, убегающего вдаль. Все глубже и глубже забирал его радостный страх перед новой жизнью, что распахивалась перед ним. Виделось многоликое, многоокое и многорукое колхозное собрание, что вверило ему сегодня безотменно судьбу родного колхоза. И еще виделось милое насмешливое лицо в золотых струях кос и синие-пресиние глаза, которые теперь будут рядом, навсегда…
– Заблудились ведь! – обеспокоенно привстал в санях Зобов.
Ни дороги, ни огней впереди, ни вешек слева, ни телеграфных столбов справа! Одна светло-зеленая муть.
– Что за черт! – выругался Роман Иванович, уже собираясь вылезать из санок.
И вдруг впереди, совсем близко, проколол эту муть яркий свет автомобильных фар.
– Не заблудимся! – сказал уверенно Роман Иванович, догадываясь, что это лесник выводит на дорогу застрявшие машины.
Найда обрадованно рванула санки и пошла вперед ходкой рысью. В одном месте она приостановилась и прянула в сторону, испугавшись глубоких лосиных следов, пересекавших дорогу. Но Роман Иванович в этот раз даже не заметил их. Долго еще, видать, суждено было его сохатому гулять безмятежно и счастливо по курьевским лесам и пожням!
РАЗГОН
1
Второй месяц Тимофей Зорин со своей старухой Соломонидой жил, по постановлению общего колхозного собрания, в «коммунизме». Жил беспокойно, хлопотно, трудно, не зная, как ему быть и что делать дальше.
А попал он в коммунизм из-за председателя. Ну до чего же упрям да горяч Романко: весь в отца! Покойному Ивану Михайловичу Синицыну тоже, бывало, если уж втемяшилась в голову какая мысль, ничем ее оттуда не выбьешь.
Ведь как получилось?!
Собрались колхозники незадолго до первомайского праздника строительные планы утвердить. Обсудили, решили и стали уже расходиться, как вдруг поднял руку Тимофей Ильич, попросил слова. Никогда старик зря не выступал на собраниях, поэтому задержались, притихли все. А Тимофей Ильич прошел, постукивая об пол клюшкой, к самому столу, где президиум сидел, снял шапку и поклонился собранию седой головой в пояс.
– Дорогие товарищи колхозники! – начал он свою речь. – Не думал я, что приведется мне на старости лет просьбой такой вас обеспокоить, да вот пришлось.
Заплакал и показал собранию темные клешнястые руки с расколотой на ладонях кожей.
– Отказываются они совсем у меня служить, руки-то. Ломота одолела. И сам стал плохой. Ноне всю зиму прихварывал, так что и трудодней у меня совсем даже мало. А у старухи моей и вовсе нету. Как жить будем дальше, не знаю. Оно, конечно, с голоду мы не умрем. У меня вон два сына в городе, а третий с женой при мне. Не откажут они мне в помощи, это верно. А только не хочу я помощи ихней. Обидно мне сыновний хлеб есть. Али я сам за двадцать пять годов не заработал себе в колхозе кусок хлеба на старость? Да и не про себя только заботу я имею. Себя в пример привел, а есть у нас в колхозе и другие старики, которые из годов уже вышли, работать совсем не могут, да и от детей поддержки не имеют. Ужели мы их оставим? Ужели труды ихние многолетние во внимание не возьмем? Читал я в газете, что есть такие колхозы, которые старым колхозникам пенсию дают… Вот и рассудите сами теперь, как с нами, стариками, быть…
Надел Тимофей Ильич шапку, пошел на свое место.
И тут началось снова собрание. Зашумели все, заспорили, закричали. Одни правление ругают, что, дескать, давно бы надо о стариках подумать, другие говорят, что надо инвалидный дом районный для стариков построить, третьи сомневаются, не рано ли колхозу на себя стариков брать. Кончилось тем, что переписали тут же всех престарелых и назначили им пенсию. А потом вдруг Роман Иванович встал и говорит:
– Это хорошо, что надоумил нас Тимофей Ильич. Ошибка была, конечно, со стороны правления, что не подумали мы раньше о стариках. Но я, товарищи, особо должен сказать о самом Тимофее Ильиче. Он у нас – старейший в колхозе человек. И все знают про его заслуги. Без малого три десятка лет честно и беспорочно трудился Тимофей Ильич на благо колхоза. Пожилые люди помнят, что в первые годы колхоза Тимофей Ильич спас лошадей, когда пожар на конном дворе случился. В пожар, известно, кони со двора от страха не идут, хоть на месте их убей. Но Тимофей Ильич сумел-таки всех их вывести из огня и сам чуть не сгорел. А что было бы, товарищи, в то время с колхозом, кабы кони погибли? Это вы сами понимаете. Лошадь была тогда главной тягловой силой. Второе дело: совсем захирел бы наш колхоз во время войны, кабы не Тимофей Ильич. Кто приучал в войну к работе ребят-подростков? Тимофей Ильич. Кто стадо колхозное уберег в ту тяжелую пору? Тимофей Ильич. Я тогда на фронте был, но мне сказывали, как он тут с ребятишками и бабами по ночам покосы и выгоны расчищал, чтобы кормом скот обеспечить. И сейчас Тимофей Ильич болеет за свой родной колхоз, пример другим в работе показывает, несмотря на преклонный возраст. Так вот я и предлагаю – перевести досрочно Тимофея Ильича с супругой в коммунизм. Пусть хоть на склоне лет поживет, как ему мечталось. Думаю, дорогие товарищи, что ни у кого не поднимется рука против такого предложения, против Тимофея Ильича…
И так настойчиво, так убедительно Роман Иванович доказал все это, что собрание дружно постановило: «За большие заслуги перед колхозом перевести Тимофея Ильича Зорина вместе с супругой его Соломонидой Дормидонтовной на коммунистический образ жизни».
А когда проголосовали, Роман Иванович сказал Тимофею Ильичу при всех:
– С завтрашнего дня будешь, Тимофей Ильич, получать все от колхоза по потребности, бесплатно, у кладовщика. То же самое и у заведующего сельпо. Специальный счет на тебя откроем. В чем нужда будет – расписывайся и бери. Захочешь дом строить – строй за счет колхоза; захочешь мясо и сметану кушать каждый день – кушай на здоровье. А работать больше не будешь, отдыхай спокойно, ни о чем не заботься, ни о чем не думай.
Тимофей Ильич до того потрясен был, что не помнил, как домой пришел. Старухе своей он не сказал ничего. Надо самому было одуматься сначала, как теперь жить, потом уж ей докладывать. А то заберет себе в голову невесть что.
Ночью он не спал в думах, только под утро подремал маленько, пока не разбудила его Соломонида завтракать.
– Хотел ты, старик, за кольями в засеку с утра ехать, а сам прохлаждаешься, – попеняла она, гремя ухватами. – Люди-то вон давно уж на работе!..
Тимофей, спавший на голбце, встал, торопливо надел штаны и начал обуваться, да вспомнил вдруг, что ему с сегодняшнего дня не велено работать. Посидел, посидел с сапогами в руках, подумал, подумал, потом легонько поставил их под лавку и достал с печки валенки.
– Али недужится опять? – встревожилась сразу Соломонида. – Сейчас я тебе малины заварю. Выпей да полезай на печь. Пропотеешь – как рукой снимет.
Тимофей насупился, не сказал ничего, сел к столу. Подавая ему блины, Соломонида вздохнула невесело.
– Зажились мы с тобой, старик. Работать не можем, а кормиться надо. Хоть бы прибрал нас господь поскорее, а то и себе, и людям в тягость стали…
– Мелешь невесть что! – обругал ее Тимофей. – Туда не опоздаем, не на поезд. И без господа, как придет время, приберемся. Мне вон внука младшего к делу приспособить надо. А прокормиться – прокормимся, не старое время…
И, будто бы к слову пришлось, стал рассказывать, о чем вчера люди на собрании толковали и что порешили. Сначала Соломонида слушала его путаный рассказ с интересом, потом недоуменно уставилась на мужа, а под конец даже ухват выронила.
«Вроде с утра-то в рассудке был!» – испуганно вглядываясь в мужа, думала она. Но видя, как спокойно принялся Тимофей Ильич за блины, ничем не проявляя больше своего безумия, успокоилась и поняла, что говорил он истинную правду.
Подняла с пола, как во сне, ухват, сунула его в подпечек и растерянно застыла на месте с опущенными руками. Потом уж опамятовалась. Сказала сердито:
– Дураки!
Тимофей только было рот открыл, как Соломонида села против него на лавку и, подперев щеки руками, спросила тихонечко:
– И кто же все это у вас там придумал?
Опуская голову под ее гневным взглядом, Тимофей сказал невнятно:
– Кто, кто? Не я же! Сам председатель…
– Ну, ну! А у тебя где язык был? И как же ты, бессовестный, мог такое допустить?
Тут Соломонида не выдержала, заплакала:
– Господи, и за что мне такое наказание!
Тимофей уронил на сковородку недоеденный блин, вышел молча из-за стола.
– Да как же я теперь на люди покажусь, – горевала Соломонида. – Сроду чужого ничего не брала, а тут, выходит, на чужое позарилась! Да что мы, нищие, что ли?
Вконец расстроенный, Тимофей плюнул в сердцах и полез на печь. До обеда он и голоса не подавал, кляня себя, что напросился сам на колхозные хлеба. Не встал бы Тимофей и обедать, наверное, кабы встревоженная Соломонида не позвала его:
– Вставай-ко, старик, не выливать же мне щи-то! Да не расстраивайся шибко. И не то переживали. Бог милостив, переживем и эту беду.
Первая неделя «в коммунизме» показалась Тимофею за год. От скуки подшил он старухе валенки, сделал новую ручку для сковородника, запаял прохудившийся подойник. Надо было бы, конечно, сходить в лес, вырубить оглобли для двух телег. Давно просил его об этом бригадир. Да как теперь пойдешь? Неловко. Увидит вдруг председатель, скажет: «Ты что же, Тимофей Ильич, постановление нарушаешь? Тебе отдых даден, а ты томошишься. Нехорошо. Уважение надо к народу иметь». Так и не ходил Тимофей не только в лес, а даже на улицу.
Прошло еще две недели – одна другой тоскливее. И тут Соломонида сказала ему:
– Сходил бы в лавку, старик. Сахар весь вышел, да и чаю осталось немного.
Обрадовался Тимофей. Стал надевать стеганку, а у ней пуговицы нет, да и вата из локтя в дыру лезет.
– Хоть бы зашила, старуха, – осерчал он. – На люди ведь иду!
Взяла у него Соломонида стеганку, потрясла, потрясла в руках, бросила на голбец.
– Надевай пиджак новый! Куда его бережешь? А стеганку не носи больше, вся в заплатах. Срам один. И ушивать не буду.
Привык Тимофей к стеганке, да и пиджак жалко: такой хороший пиджак, совсем новый, Василием подаренный, только по праздникам и надевал его Тимофей.
– В одной рубахе пойду. Не мороз.
Народу в магазине оказалось немного. Отпустил ему продавец Гущин Костя сахар и чай, спросил:
– Еще чего требуется, Тимофей Ильич?
Тут и увидел как раз Тимофей на полке новую зеленую стеганку.
– Ну-ка покажь!
Повертел, повертел в руках. Хорошая стеганка!
– Взять, что ли, Константин?
– Бери, Тимофей Ильич.
Надел ее Тимофей. Таково ладно сидит, красиво.
– Возьму, пожалуй. В ней можно и на люди выйти.
– А на люди у меня еще лучше есть, – оживился Костя. – Из черного сатину. Все равно что фрак. Вот, гляди!
И снял с полки другую стеганку. Оглядел и эту Тимофей, помял в руках, примерил. Уж больно хороша!
– Бери обе! – настаивал Костя. – Зеленую в будни будешь носить, по хозяйству. А в черной хошь в Москву поезжай. На нее уж тут сегодня Ефим Кузин зарился, да денег у него с собой не случилось, а то бы взял.
И до того заговорил Тимофея, что тот сдался:
– Давай обе. На всю жизнь теперь одет буду.
Сунул ему Костя книжку какую-то:
– Распишись.
Тимофей расписался, дивясь новому порядку в сельпо, взял квиток, полез в штаны за деньгами. А Костя и руками замахал:
– Ни-ни, денег с тебя не возьму, Тимофей Ильич! Приказ есть от председателя – отпускать бесплатно. Расписываться только будешь для отчета моего, и все дело. Да, может, еще что приглядел? Бери за одно уж! Вон ситец есть темненький с мелким узором, старушечий. Туфли можешь также Соломониде приобрести. Модельные ей ни к чему, а парусиновые для лета как раз. Могу вот велосипед предложить, ежели желаешь. А что? В городе, вон глядишь, иной старик, подобный тебе, столь ходко на велосипеде шпарит – и борода набок…
До этого думал Тимофей, что шутил Роман Иванович на собрании насчет бесплатного товара, а выходит – правда!
– Да возьми хоть на платье старухе! – не отставал от него Костя. – Не нравится темный ситчик, могу предложить цветастый, повеселее.
Тимофей отговорился хмуро:
– Куда ей такой? Не девка ведь. Да сказать тебе правду, два новых сарафана в сундуке у ней лежат. Снохи коего году подарили. Ты бы лучше газетку дал стеганки завернуть, а то неловко по улице нести. Дорвался, скажут, до дарового, вон сколько хапнул!
А Костя смеется и так сердечно говорит:
– Не сомневайся, Тимофей Ильич. Тебе по приказу положено. Роман Иванович заходил уж ко мне. При всем народе интересовался, почему в магазине ничего не берешь которую неделю. Поругал меня даже: «Ты, говорит, Константин, гляди у меня. Чтобы, говорит, Тимофею Ильичу ни в чем отказу не было…»
Не успел Тимофей порог дома переступить, Соломонида с расспросами, чего в лавке есть, все ли купил, что было наказано.
Как увидела стеганки и руками всплеснула:
– Деньги ты не жалеешь, старый! Куда тебе две, солить, что ли?
А когда узнала, что даром принес, и слова не дала выговорить.
– Сейчас же неси одну обратно. Из ума ты выжил! Что люди-то скажут? Совести, скажут, у тебя нет, пожадился на чужое добро. Да ступай в лавку задворками, чтобы, не дай бог, не увидел кто… Экой срам-то, господи!
Хлопнул Тимофей дверью, выскочил на крыльцо. Огляделся, как вор, не видит ли кто. Задами вышел за деревню, а когда поравнялся с магазином, перелез изгородь на усадьбе Елизара Кузовлева и картофельной межой вышел к магазину. Костя уже запирал магазин на обед и немало удивился, увидев Тимофея. Вынул из пробоя замок, собираясь вернуться в магазин.
– Али забыл еще что взять?
Не глядя на Костю и путаясь в словах, Тимофей объяснил ему, зачем пришел.
– Не могу, Тимофей Ильич, обратно принять! – уже решительно запирая замок, сказал Костя. – Рази ж могу я корешок квитка из книжки вырвать? Он же под номером! А ежели у тебя квитанцию обратно взять, опять же не приклеишь к корешку. Да тут, не приведи бог, ревизионная комиссия увидит, что корешок вырван, так ведь суда не избежишь. Нет, Тимофей Ильич, ты под обух меня не подводи…
Потоптавшись один около магазина, Тимофей опять задами пробрался к дому. Никто не попался ему навстречу. Несколько успокоенный, он перелез изгородь, прошел садом, но перелезая вторую изгородь, похолодел. На крыльце сидел и курил, ожидая его, Назар Гущин. Бросив стеганку в крапиву, Тимофей подошел к крыльцу, поздоровался.
– Я гляжу, Тимофей Ильич, крепок ты еще! – дивился Назар. – Сигаешь через изгородь, как молодой. И дверцы тебе не нужны. Куда мне до тебя!
Тимофей растерянно присел рядом с Назаром на ступеньку, а Назар, доставая кисет и неторопливо закуривая, говорил:
– Три дня собирался к тебе, Тимофей Ильич, да поясницу все ломило. Сегодня вот отпустило немного. Дай, думаю, соседа проведаю, узнаю, как он там, в коммунизме, живет. Плотников не звал еще?
– Зачем?
– Так ежели задумал ты новый дом ставить, чего же откладываешь! Пусть ставит колхоз без промедления…
– Не собирался я ставить, Назар. И в старом доживу. А ежели Алешке новый нужен, так сам пусть и ставит.
– Дивно дело! – уставился на Тимофея Назар. – Пока не одумались – ставь. Благо и лес у колхоза заготовленный есть.
Тимофей нахмурился, не ответил ничего.
– Оно, Тимофей Ильич, раз тебе подфартило, нельзя упускать. Дают – бери, бьют – беги.
– Ты, Назар, неладно судишь, – осердился вдруг Тимофей. – Мне даже слушать тебя обидно. Никогда я на добро колхозное рот не разевал. И хоть дано мне право, а крошки колхозной не возьму больше…
Поднявшись, Тимофей стукнул дверью.
– Отнес ли, старик? – недоверчиво уставилась на него Соломонида.
– Я и эту сдать хотел, да не взяли… – с сердцем снял он и бросил на голбец зеленую стеганку. Опустившись на лавку, долго и обеспокоенно думал, что же ему делать со второй. Отдать кому-нибудь? Скажу, что для других бесплатно взял. Себе взять? Старуха загрызет.
Поднялся, надел кепку.
– Где у нас лопата? Яблоню окопать надо.
Назара на крыльце уже не было. Тимофей взял лопату и вышел в сад. Нашел в крапиве стеганку и хотел зарыть ее в землю. Но стало жалко: изопреет и пропадет зря. Больше всего боясь, как бы не увидела его старуха, пробрался к крыльцу, через сени прошел со стеганкой во двор и зарыл ее поглубже в сено.
Вернувшись, застал старуху свою в думах.
Сидела на лавке, сложив руки на коленях и тоскливо глядя в пол.
– Хотела, старик, пособить колхозникам лен полоть, да как пойдешь! Вот, скажут, до чего Зорина Соломонида жадная: уж и так ей все дают, чего только захочет, а она еще за трудоднями гонится…
Тимофей промолчал, лишь бы не растравлять еще больше жену, да, видно, не зря завела нынче эти речи Соломонида.
– Вот что, старик, – решительно выпрямилась вдруг она, – иди сейчас же в правление, к Роману Ивановичу. Мысленно ли дело: ни на люди показаться, ни в колхозе поработать. Ешь с оглядкой, ходи с оглядкой, слова не скажи лишнего, как бы худого люди не подумали чего… Да какая же это жизнь?
– Был я третьеводни у Романа Ивановича… – нерешительно начал Тимофей, почесывая спину.
– Ну и что он? – впилась в мужа глазами Соломонида.
– Это дело не твоего ума! – важно поднял палец Тимофей. – Дело это большой политической сугубости.
Знал Тимофей, что отставала у него старуха по части политики – газет не читала, на собрания ходила редко, а по радио только частушки слушала. Чего с ней говорить? Разве может она понять такой тонкий политический вопрос?
И верно. Встала Соломонида с лавки и слова больше не дала мужу сказать.
– Иди в правление, пока Роман Иванович обедать не ушел. Так ему и скажи: «Жили, мол, двадцать пять годов в колхозе, как все люди, и помирать будем, как все…»
2
– Па-ап, и я с тобой… – толчется около отца и канючит Васютка. В голосе его отчаянный страх: «А вдруг отец не возьмет?»
«Учуял-таки, постреленок, что на машине собираюсь ехать!» – дивится Кузовлев на сына. – Ведь и дома-то его не было, а стоило мне только инструментом брякнуть – он тут как тут!»
– Возьми меня, па-ап…
– Не знаешь, куда еду, а просишься! – твердо отбивается от сына Кузовлев, идя под навес к «Москвичу».
– Куда, куда… – хвостом тянется за ним Васютка. – Знаю небось. В Степахино, вот куда!
Отец лезет под машину, кряхтит и тихонько ругается там, постукивая гаечным ключом.
– Зачем же мне в Степахино?! – говорит он оттуда, и в голосе его Васютка слышит непреклонную решимость. – Я нынче по полям поеду! На весь день. С председателем и агрономом. Так что никак мне тебя взять невозможно. Массивы нам посмотреть надо. На буграх вон скоро пшеница поспеет. Не проворонить бы…
– А Роман Иванович в райком тебе велел ехать за лектором! – сообщает, ликуя, Васютка.
Отец сразу перестает стучать ключом.
– Когда?
– Чтобы, говорит, сейчас же ехал. Думаешь, вру, ага? Вон и записку тебе сторожиха несет…
Отец встревоженно вылезает из-под машины. К дому, действительно, спешит переулком сторожиха с бумажкой в руке.
– Ну, прямо хоть машину продавай! – сердито ворчит отец. – Только на свое дело соберешься, обязательно куда-нибудь ехать просят… Иди возьми у ней записку-то. У меня руки в масле.
Прямо через огород Васютка кидается навстречу сторожихе и перехватывает ее в переулке. Через минуту он стоит с запиской около отца.
– Читай мне вслух, очки я забыл дома…
Теперь Васютка почти уверен, что отец возьмет его с собой: ведь до Степахино недалеко. Поворчит, поворчит – и возьмет. Только отходить от него сейчас нельзя, а то еще передумает, пожалуй.
И Васютка, не давая опомниться, вьется около него, то подавая инструмент ему, то тряпку…
– Пишут тоже! – говорит отец недовольно. – Хоть бы фамилию лектора указали, а то как я буду искать там.
– Па-ап, я найду! – ободряет отца Васютка. – Ты в машине посидишь, а я в райком сбегаю спрошу, где, мол, тут дяденька лектор…
– Подай канистру! – прерывает его отец хмуро.
Васютка мигом приносит канистру с бензином. Но делать после этого нечего. А отец не любит, когда стоишь около него без дела. Если не помогаешь ему, хоть обревись, все равно не возьмет с собой нипочем. Схватив щетку, Васютка начинает с рвением обмахивать запыленные бока «Москвича».
– Надо было вчера это сделать, а ты небось как приехали мы, убежал сразу! – строго выговаривает ему отец.
– Я не убежал бы, да меня мама в магазин послала! – горячо оправдывается Васютка. Голос его дрожит от обиды.
Отец перебирает инструмент, ища что-то. Он уже изнемог от неослабевающего напора сына и почти не сопротивляется, слабо и неуверенно убеждая его:
– Шел бы лучше к ребятам, а то трешься около машины целыми днями. Гуляй, пока нет учения!
– С кем гулять? – плачущим голосом спрашивает Васютка. – Ребята уехали все, кто в лагерь, кто куда.
– И ты бы ехал, кто тебя держал!
Васютка молчит. Как же, поедет он в лагерь! Ему и здесь хорошо. Чего он не видел в лагере? Бывал, знает. Там, небось, и днем спать заставляют, и гулять одного ни в жизнь не пустят. То ли дело дома: хочешь – купайся, хочешь – по рыбу иди, хочешь – обедай, а не хочешь – гуляй. И на машине можно покататься, и с пастухом в лес сходишь. А завтра вон дедко Зорин поведет их с Ленькой клад искать. Только об этом говорить сейчас нельзя.
– Вы у меня с Ленькой нынче весь велосипед измозолили! – не унимается отец, открывая капот и копаясь в моторе. – И по грязи и по песку его гоняли, а ни разу не протерли, не смазали. Разве с машиной так обращаются? Подай-ка отвертку!
Закрыв капот и вытирая руки, предупреждает:
– К «Москвичу» не лезь у меня, понял? А то ишь что выдумал: ключ к нему сам вырубил! До этой машины тебе, брат, долго еще расти придется…
Васютка тоскливо вздыхает и отворачивается, чтобы скрыть слезы. Отец искоса глядит на его исцарапанные руки, черные от неистребимой грязи и загара, на тонкую шею и выбеленные солнцем волосы. Сын похож чем-то на цыпленка. И стоит он нахохлившись, как цыпленок, на одной ноге. Другая у него давно уже дежурит на подножке машины.
Вспоминая свою страсть к технике в молодости, отец смягчается:
– Выводи машину из-под навеса. Потом развернешься во дворе. За ворога не выезжать… А я пойду пиджак надену.
Отец еще не договорил, а Васютка уже сидит в кабине. Просигналив, тихонько выезжает из-под навеса, разворачивается, ловко маневрируя на тесном дворе, и останавливает машину прямо под окнами. Начинает поминутно сигналить, вызывая нетерпеливо отца.
Наконец тот выходит и молча садится в кабину.
– Папа, давай я поведу! – умоляет Васютка.
– Сиди знай! – отбирает у него руль отец.
Васютка огорчен отказом, но тут же вознаграждает себя отчасти тем, что прежде отца нажимает стартер. Разгоняя кур, машина тихонько едет вдоль улицы.
– Ты вот суешься машину вести, – говорит Васютке отец, – в моторе не смыслишь ничего. Нажать стартер да кнопку – это всякий может. А случись что с машиной – и засядешь.
Васютка шмыгает носом.
– Так ведь и ты мотора не знал, когда маленький был…
– Сказал тоже! – не на шутку сердится отец. – Когда я таким, как ты, был, у нас тут за сто верст, наверное, ни одной автомашины не видел никто.
– Куда же они девались? – не верит Васютка.
– Куда! Совсем их тогда в деревне не было.
Васютке это непонятно. Он замолкает.
А отец вдруг оживляется, вспоминая:
– Я впервые за руль сел, когда мне двадцать семь лет стукнуло. Как в колхоз вступил, сразу на курсы трактористов попросился. Помню, и трактора были больше всего иностранные – «фордзоны» да «хейсы». Я их до этого не видывал даже, заробел.
– А я не заробел бы! – хорохорился Васютка. – Я бы…
– Были и у нас такие хвастуны, – обрывает его отец. – Из-за пустяка трактор остановится, а они и сидят около него, как мокрые курицы, пока механик не подойдет. На-ко, веди машину, я покурю!
Лицо у Васютки сразу одушевляется сознанием ответственности, становится суровым, а взгляд острым. Сидит Васютка теперь прямо и неподвижно, как заправский шофер.
– Сбавь газ! – говорит отец, а сам глядит в окно.
За задворками, прямо в пшенице, дремлют высокие комбайны. Серо-зеленые пшеничные волны ласково лижут им красные бока, тихо набегают на зеленый берег придорожной травы…
Давно уже кончив курить, отец задумывается, вздыхает.
– Вот видишь, из-за тебя забыл я к агрономше заехать, – корит он сына.
Грубовато, как взрослый, Васютка успокаивает его:
– Ну и ладно. Все равно ее дома сейчас нету. Я сам видел, как она в Круглое поле поехала на таратайке с зоотехником кукурузу глядеть. Пока мы ездим, она и вернется.
– Как же она вернется? – горячо возражает отец. – Кукуруза в самом конце поля, туда езды два часа. Дай бог, если к обеду вернется! Молчал бы уж. Соображать надо.
Васютка не обижается на отца, терпит. Пусть что хошь говорит, руль бы только не брал. Но впереди, в голубом небе, уже белеет степахинская колокольня, растут над пшеницей верхушки тополей, прорезываются зеленые крыши… Жалко, что доехали так быстро!
И тут Васютке повезло.
– Стой! – кричит вдруг ему отец и выскакивает из машины навстречу какому-то высокому военному дядьке.
– Андрей Иванович! – слышит Васютка радостный голос отца. И видит, как военный обнимается и целуется с отцом, потом оба идут к машине. С досадой отец говорит:
– За лектором, понимаешь, надо мне заскочить в райком. Ты садись, Андрей Иванович, мы в одну минуту…
– Так это я и есть лектор! – смеется военный, с трудом влезая в машину.
– Да ну?! – все еще не может прийти в себя отец. – И как ты надумал к нам приехать? Надолго ли? Где был все это время? Ну прямо как снег на голову!
Уже не спрашивая разрешения, Васютка разворачивает машину.
– А я нарочно, как ревизор, без предупреждения, – опять смеется военный, – дай, думаю, врасплох вас застану.
По звездочкам на погонах Васютка сразу узнает, что это капитан, чувствует у себя на голове его легкую руку, слышит удивленный добрый голос:
– Это у тебя, Елизар Никитич, послевоенный сын? Гляди-ка ты, машину сам водит, а?
– Парень боевой, образца 1945 года! – непонятно и неожиданно для Васютки хвалит его отец.
Капитан треплет опять Васютке волосы. Потом кладет вдруг ему руку на плечо.