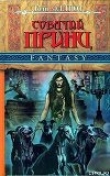Текст книги "Черная кровь ноября"
Автор книги: Ашира Хаан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
По лесенке взбежал Михаил, хлопнул дверью и стал торопливо раздеваться.
– Не спишь, Алешка? Вот что: будешь играть у нас роль Тригорина в пьесе «Чайка»? Ладно?
– Я не артист. Да и зачем ты выбрал такую пьесу? Не поймут же ее. Ставил бы Неверова, что ли…
– Что значит не поймут? Надо нести культуру в массы.
Мне захотелось позлить его:
– Да ведь ты для учителки этой стараешься, а не для массы: развлечь хочешь, да и самому приятно повертеться около нее. Я вот Кате напишу, а то Василию скажу. Он тебе прижмет хвост-то…
– Ты это, Алешка, брось… – встревоженно поднялся на постели Михаил и начал оправдываться:
– Девке скучно одной, народу культурного здесь мало, почему же мне с ней не поиграть?
– Нашел тоже игрушки!
Михаил сердито лег, зевнул.
– Ежели будут все, как ты, жить монахами, весь род людской переведется. На тебя вон Парашка заглядывается. Другой бы на твоем месте…
Я почувствовал, что густо краснею, и только собрался выругать Михаила, как он уже перекинулся на другое:
– Ну, ладно, черт с тобой. Тригорина сыграет Роман, а ты нам декорации сделай, потом гримировать будешь…
И подосадовал:
– Черт бы побрал эту Аркадину. Репетировать надо, а ее на Выставку погнало…
Это он, видно, о Параше.
– Когда спектакль-то?
Но Михаил уже спал, уронив на пол потухшую папиросу.
6
Прошло две недели, как я дома, а только вчера впервые удалось мне выбраться с этюдником в лес.
Правду говоря, шел я писать не только по охоте, сколько по профессиональной привычке. А главное, хотелось побыть одному, разобраться во всех курьевских впечатлениях, которые просто одолели меня, не давая ни на чем сосредоточиться. Даже столь памятная с детства дорога в лесу, оканавленная и обсаженная без меня ветлами, не вызывала во мне ни восхищения, ни удивления. Думалось о другом: об отношениях с отцом, о Параше, о братьях, о колхозниках, которых знал я «единомучениками», а ныне увидел строителями новой деревни.
Задумавшись, незаметно вышел я на старый вырубок. По его широкой глади, прижимая к земле трепещущие осинки и сгибая березки, свободно мчался порывистый ветер. Когда он ослабевал на минуту, березки поднимались и стыдливо, как платья, расправляли помятые ветви.
Одна из них со всхлипом вдруг треснула, словно вскрикнула, и, мелко дрожа всеми листьями, навзничь упала в траву. Могучей стеной стоял в конце вырубка высокий сосняк. Немало битв с ветром вынес он. Среди прямых желтых стволов чернели там и тут сшибленные деревья, а на самом краю вырубка, подняв к небу крючковатые лапы корней, лежала толстая поверженная сосна. Хвоя дерева успела уже порыжеть, а обломанные сучья почернели и торчали кверху ребрами огромного ископаемого животного. Только одна, очень высокая и тонкая сосна, стоявшая несколько поодаль, уцелела. Она как бы защищала весь сосняк, принимая на себя первый удар. Ствол ее был обнажен до самой макушки. Под напором ветра темно-зеленая крона сосны тяжело клонилась назад, а длинный желтый и чистый ствол сгибался в тугой лук. Казалось, вот-вот она переломится, как та березка. Но чуть только ветер ослабевал, упругая сосна гордо выпрямлялась и расправляла ветви, готовая к новому удару.
Я наскоро расставил мольберт, вытащил кисти, краски, холст и начал писать. В это время я не думал, как надо писать, а просто брал краски и лепил ими на холсте набухающие дождем тучи, редкие лазоревые просветы в них, темную стену соснового леса, прижатый к земле ветром кустарник, красно-бурую хвою погибшего дерева…
Холст начал оживать, на нем тоже началась буря из красок и линий. Мне уже виделось, как зашумел могучий ветер, хрустнула бедная березка, в страхе затрепетали широкими листьями осинки, прижимаясь к земле, и только высокая желтоствольная сосна около опушки леса, согнутая ветром в лук, упрямо стремилась выпрямиться навстречу буре.
Не помню, сколько времени я работал, но, когда этюд подходил к концу, почувствовал глубокую радость и усталость.
Положив кисти, оглянулся и вижу: за спиной давно уж, должно быть, стоят люди и молча наблюдают, как я работаю. Двух молодых ребят я не знаю, а третий – сын Кузовлевых – радист Вася, мне знаком. Это с ним чинил Михаил движок на радиоузле. Елизара и Настасью я знаю и помню, конечно, с детства. Ни годы, ни тяжелый труд не могли сокрушить Настасьину красоту. И сейчас хороша была Елизарова жена, и сейчас прямо и горделиво ходила она, высоко подняв голову.
Елизар сел со мной рядом на бурелом, закурил.
– А мы в засеку ходили, дровишек порубить, – заговорил он. – Собрались домой, только на вырубок вышли, глядим, человек сидит, чертит что-то. Думали, землемер…
– Красиво получается! – похвалил меня Вася, стесняясь подойти ближе. Он был в мать, черный, синеглазый.
Елизар подумал, поглядел на этюд, вздохнул:
– На все нужен талант. Без таланту ничего не сделаешь.
– Повесить бы картину такую в горнице, на стену… – вслух помечтала Настя, взмахивая на меня бровями, как крыльями.
– Я вам подарю ее.
Елизар сердито взглянул на жену.
– До чего ж ты у меня бессовестная, Настя. Человек столько труда положил, а ты – в горницу. Кто у тебя картину эту глядеть будет? А художники, слыхал я, свои картины отдают на выставку, чтобы каждый мог посмотреть.
– Очень нужно всем ее показывать! – нарочно поддразнивая мужа, сказала Настя. – Я бы и в горницу никого не пустила…
Они ушли, а я вспомнил: когда Левитан и художница Кувшинникова писали этюды где-то на Волге, мужики чуть не избили их, посчитав за землемеров, приехавших отрезать землю.
Убрав кисти, краски и холст в ящик, я пошел домой.
На широком крыльце правления колхоза сидело много народу. Некоторые стояли кругом. Я тихонько подошел и через плечи заглянул в центр. Меня даже не заметили. На ступеньках крыльца сидела Параша и, как я сразу понял, рассказывала о Выставке и о Москве. Она только что, видать, пришла со станции и не успела зайти даже домой. Восторженно глядя на свою звеньевую, к ней жались девчата. Параша была в синем городском костюме и в новых бежевых туфлях. На груди ее голубел выставочный значок. Маленькие часики поблескивали на руке. Отец был прав: не отличишь ее от городской. Сияя глазами, Параша рассказывала, что видела на Выставке, и не без умысла сравнивала, посмеиваясь, показатели передовых колхозов с показателями нашего Курьевского колхоза.
Трубников, сидевший рядом с ней, обиженно крутил ус, Назар Гущин усмехался чему-то недоверчиво, глядя себе под ноги, а Елизар Кузовлев сердито соображал что-то, щуря зеленые глаза и наморщив лоб.
И тут меня пронзила вдруг, опалив сердце, счастливая мысль: «Да вот же тебе картина: «Вернулась с Выставки!» Я до того разволновался, что, наверное, даже побледнел. Отошел немного в сторонку и стал жадно вглядываться в лица и позы людей, щурил глаза, чтобы определить, запомнить цветовые отношения, искал в группе композицию картины, запоминал освещение…
Должно быть, я чересчур уж внимательно вглядывался в центральный образ картины. Параша смущенно умолкла, заметив меня, и поднялась с места.
– Ой, так и до дома сегодня не доберешься, пожалуй!..
Девчата обступили ее и повели улицей. Я пошел следом за ними, ничего не видя и не слыша…
А дома схватил первый попавшийся холстик и лихорадочно принялся писать сразу красками эскиз, восстанавливая в памяти и дополняя воображением только что виденную мною сцену. Обедать я отказался, не вышел из горницы и к чаю. Мать не на шутку встревожилась, не тронулся ли я умом…
Раз пять она тихонько отворяла дверь, глядя на меня испуганными глазами.
7
Каждый день ко мне ходили позировать. В горнице стояло у стен уже несколько этюдов к картине: головы девчат из звена Параши, бородатое угрюмое лицо Назара Гущина, умный зеленоглазый Кузовлев поглядывал с холста, хмурился обиженно Андрей Иванович…
Сделал вчера «нашлепок» Настасьи Кузовлевой. Мне рассказывали, что Настасья честолюбива и тщеславна. Изругала, говорят, в дым Андрея Ивановича за то, что не послал ее на Выставку. Она – лучшая доярка в колхозе. На Парашу злость свою не перенесла, однако. Они давно дружат.
Пока я писал, Настасья ловко выведала у меня, как я живу, не женат ли, долго ли пробуду здесь.
– А зачем вам знать все это? – усмехнулся я.
Держа шпильки во рту, она поправила неторопливо черные волосы и без смущения объяснила:
– Кабы я не бабой была, тогда другое дело…
Потом, щуря синие глаза, сообщила:
– Вами другие интересуются, а не я.
– Кто же?
Настасья расцвела улыбкой и лукаво подмигнула мне.
– Старая-то любовь, Алексей Тимофеевич, не ржавеет…
Я нарочно не вызывал Парашу позировать первой, безотчетно стараясь скрыть от людей свое чувство к ней, которого не мог утаить от себя.
Но сейчас центральный персонаж картины был мне совершенно необходим.
– А не могли бы вы, Настасья Кузьминична, попросить Парашу зайти ко мне?
– Рисовать будете? – улыбнулась она.
– Да.
– Скажу ей сейчас.
И вышла, даже не взглянув на холст со своим изображением. Очевидно, уверена была, что мое искусство не в состоянии передать ее красоту.
А через полчаса я услышал быстрые шаги сначала на крылечке, потом в сенях и ликующий голос в избе:
– Здравствуйте, тетя Соломонида. Алексей-то Тимофеевич дома? Звал меня зачем-то…
Наверное, она знала, что я хочу ее изобразить в картине, потому что пришла в том новом городском костюме, в каком сидела тогда на крылечке. А может, просто, идя к художнику, естественно, захотела одеться в лучшее.
Сдержанно поклонилась.
– Здравствуйте, Алексей Тимофеевич.
Повернулось тут разом что-то во мне. Стоит передо мной женщина, не то что красивая, но интересная, цветущая, уверенная в себе, с черными горящими глазами. И совсем уже вроде она незнакомая, а вижу я в ней прежнюю худенькую Параньку, что стеснялась и краснела при мне, ту самую, что во сне когда-то снилась и была для меня самой что ни на есть лучшей. Для нее ведь поехал я в город еще почти мальчишкой приданое зарабатывать.
Подошел к ней, сказать ничего не могу. Да и чего тут скажешь! Взял ее за руки. Стоим, смотрим в глаза друг другу.
И тут вдруг кинулась она мне молча на грудь. Вижу, что плачет, плечи дрожат. Глажу ее волосы, обнимаю крепко.
Потом оторвалась от меня, подняла голову и улыбнулась сквозь слезы.
– Не будем про старое вспоминать, Алеша. Что уж…
Села на стул и выпрямилась, все еще вздрагивая.
– Зачем звал-то?
А мне уж не до писания. Говорю ей:
– Нам бы, Параня, сказать друг другу кое-что нужно. Выйди вечерком к запруде.
Задумалась, глядя в окно, и сказала просто:
– Приду.
И опять услышал в избе ее веселый голос:
– До свидания, тетя Соломонида. Хоть бы в гости зашла.
Потом быстрые шаги в сенях и на крылечке.
Посидел я после этого час, пришел в себя, взялся за кисти. Работалось удивительно легко и было до самого вечера ожидание чего-то необычайно радостного: к вечеру я прописал весь холст и когда, усталый, отошел от него и сел на табуретку, увидел вдруг, что на холсте уже завязалась своя, особенная жизнь. Она и похожа и не похожа была на курьевскую. Назара Гущина, конечно, все узнают по носу и бороде, но, пожалуй, не поверят столь яркому недоверию его к рассказу участницы Выставки; да и Елизар Кузовлев не так вдохновенен в жизни на вид, каким я его изобразил; а Трубников даже обидеться может, что изобразил я его очень уж откровенно обиженным критикой. Только девчата, с гордостью и хорошей завистью глядящие на свою звеньевую, не будут в претензии на меня. Они видны насквозь, им и скрывать-то нечего, да и не думают они скрывать.
Проверил я композицию – нет ни одной лишней фигуры. Каждая вносит свой, совершенно необходимый вклад в разрешение замысла. Теперь осталось мне вписать главную фигуру. Место на крылечке, где она должна сидеть, пока еще пустует. А без этой главной фигуры картины нет. Без нее все рассыплется.
Михаил спустился из светелки в избу разодетый, собрался на репетицию, должно быть. Покрутился перед зеркалом, спросил Василия, пившего чай:
– Ну, как, Васька? Хорошо костюм сидит?
Василий, даже не взглянув на брата, стал наливать второй стакан, пробурчав:
– Одень пень, и тот хорош будет!
– Бурундук! – озлился на него Мишка и хлопнул дверью.
Я немного подождал и безлюдным переулком, сначала тихонько, потом все быстрее пошел в теплые сумерки. Параша ждала меня у плотины. Она метнулась навстречу мне большой бесшумной птицей и обняла за шею горячими руками.
Мы пошли в поле, сели на ступени колхозного амбара, неподалеку от дороги, и засмеялись от радости, что встретились и что нас не видит никто. Тесно прижавшись друг к другу, долго молчали, не зная, о чем и как говорить.
«А вдруг обманываемся мы оба? – со страхом думалось мне. – Может, любим сейчас прежних себя? Может, стали оба во всем чужими друг другу? Так стоит ли второй раз испытывать судьбу и мучиться от разрыва?»
Глядя снизу неотрывно в лицо мне широко открытыми, блестящими от слез глазами, Параша вдруг улыбнулась и спросила:
– На приданое-то заработал ли мне, Алеша?!
И столько было укора, сожаления и нежности в этой горькой шутке, что я опустил голову.
– Нет, Параня…
Она медленно сняла свои руки с моих плеч, выдохнув шепотом:
– Забыл!
– Почему же ты, Параня, не приехала ко мне? – жестко спросил я, не узнавая своего голоса. – Изломала и себе, и мне всю жизнь.
– Ой! – со страхом крикнула она. Лицо ее все больше и больше белело, а глаза становились шире, темнее. – Что ты говоришь-то, Алеша! Да как же мне ехать-то было? И куда бы я тогда с хворой мамой к тебе? До нас ли тебе было? Загородила бы я тебе всю дорогу. Легко, думаешь, мне было терять тебя? Может, дня не было, чтобы о тебе не думала… А ты обо мне такое! Ой, как обидел ты меня!..
И тут я понял, что никто не любил и не будет меня так любить, как Параша.
Целуя помертвевшее лицо ее и сухие почужевшие глаза, я ругал себя:
– Экой я дурак! Приехать бы да забрать надо было тебя. Как бы жили-то мы с тобой!
Она заплакала, трясясь всем телом и не отрывая рук от лица. Потом опять мы долго сидели, не говоря ни слова и слушая биение своих сердец.
В деревне всхлипнула гармошка, потом на улице зажурчал негромкий разговор. Это кончилась в избе-читальне репетиция. Но расходиться, видно, не хотелось никому.
Нам слышно было, как заскрипели ворота, ведущие в поле.
Мимо нас, по дороге, парами и в одиночку прошли парни и девушки. Черные силуэты их обозначались на белом небе, как на бумаге. По кудрям, по гармонии, висящей через плечо, я узнал Михаила, а рядом с ним курносую хохотушку-учительницу. Обнимая ее за плечи, Михаил отважно врал:
– Алешка собирается ваш портрет писать. Сроду, говорит, не видывал такой живописной натуры…
– Скажете тоже, Михаил Тимофеевич! Так-то я вам и поверила…
– Хороший у вас брат! – прошептала Параша.
– Не очень, – проворчал я. – У него жена такая милая, умная, а он тут за девками бегает.
– Не он за девками, а девки за ним, – защитила его Параша. – Как им такого не любить!
За Михаилом прошли группой трактористы из МТС с раменскими девчатами. Потом увидел я Романа и высокую девушку с длинной косой. Они шли, как чужие, по обочинам дороги.
– Это Маша Боева, Савела Ивановича дочка, – тихонько сказала мне Параша. – Девятилетку в Степахине окончила нынче. Третьего дня приехала. Славная такая девчонка…
– Нет, я под руку не хочу! – услышали мы ее сердитый обиженный голос. – Подумаешь, влюбленный антропос!
А Роман, отступая снова на обочину и поглаживая встрепанные волосы, растерянно говорил ей:
– Я ведь, Маруся, ничего такого… худого не думаю. Я просто так…
– Ах, просто так? Тем более незачем руки распускать…
«Она тебя научит уму-разуму!» – хохотал я в душе над Романом.
Где-то уже далеко, в конце поля, Михаил заиграл на гармонии, и трактористы обрадованно, с чувством запели в три голоса:
Ой вы, кони, вы, кони стальные,
Боевые друзья трактора…
Не допев, заспорили, засмеялись, вызвав досаду у меня: очень уж нравится мне эта бодрая красивая песня.
Вынув папиросу, я осторожно прикурил, укрывая огонек ладонями, и тут же услышал строгий оклик:
– Кто там курит?
С дороги черной высокой тенью надвинулся темноусый человек в пиджаке, накинутом на плечи. Очевидно, узнав нас, он вдруг словно зацепился за что-то.
– Это ты… художник? – будто не веря, с удивлением спросил он, вглядываясь не в меня, а в Парашу. Помолчал и пошел прочь, безучастно говоря:
– С огнем-то осторожнее: хлеб тут. Еще пожара наделаете!
– Из сельсовета, видно, идет, – обеспокоенно сказала Параша. – Мне тоже надо было на заседание президиума, а я вот… на свиданку пошла…
Прижалась еще крепче к моему боку и сказала тихонько и задумчиво:
– Любит он меня. Давно уж… Я бы и пошла за него, да Веру Федоровну жалко: несчастливая она, может, еще больше, чем я.
Над крышами забелела заря. Мы пошли задворками домой. Я проводил Парашу до крыльца. Она взяла меня за руку и повела за собой по ступенькам, потом открыла дверь в сени и, не выпуская моей руки, счастливо засмеялась:
– Иди за мной в избу, дурачок. Старики-то в сарае спят.
8
Глядеть мою картину, точнее, работу, ибо картина далеко еще была не готова, ходила вся деревня, от мала до велика.
Я ни перед кем не закрывал горницы и только просил гостей не шуметь. Постоянными зрителями были, конечно, ребятишки. Я удивлялся их выносливости и любопытству. Часами сидели они на полу, шепотом делясь своими впечатлениями и не упуская из виду ни одного моего движения.
Взрослые заходили по двое, по трое, очевидно, сговорившись. Слушая их простодушные, но большей частью очень верные замечания, я на ходу исправлял ошибки, кое-что переписывал и дописывал, а кое-что и вовсе убирал.
Идею, замысел картины понимали все, картина вызывала споры и не только потому, что в ней узнавали живых прототипов. Я ведь не старался сохранить портретное сходство, а стремился создать определенные характеры. Все это меня, конечно, радовало. Но вот как отнесутся к картине сами прототипы? Поймут ли, что в картине каждый выступает в обобщенном виде? Или же примут все на свой счет?
Поэтому-то я и взволновался, когда зашли ко мне Трубников с Боевым. Они долго не говорили ни слова, внимательно разглядывая картину. Савел Иванович не усмотрел в своем изображении ничего для себя обидного, хотя я сделал из него туповатого и туговатого на подъем человека. А может, он и понял это, но умолчал, потому что, например, образ Трубникова разгадал сразу.
– Что это у тебя, Андрей Иванович, уши-то на картине красные, будто их надрали?
Андрей Иванович почесал загривок, смущенно оправдываясь:
– Стало быть, художнику так потребовалось, я тут ни при чем.
Но вдруг улыбнулся виновато и признался:
– А знаете, о чем я думал, когда Парашу слушал? Вот, думаю, колхоз-то свой мы считаем чуть ли не первым в районе, а как поглядишь на передовые колхозы в других районах и областях, так и выходит, что хвалиться-то нам нечем и задаваться нечего. Много еще сделать нужно…
Мне хотелось пожать ему руку. И за то, что не унизился он до слепой, мстительной ревности, зная наши отношения с Парашей; и за то, что не боится правды; и за то, что так верно понял и выразил идею образа, прототипом которого является. Но я постеснялся протянуть ему свою руку из-за проклятой своей робости. А Савел Иванович уже смотрел мой пейзаж.
– Слушай-ко, Андрей Иванович, – обрадованно сказал вдруг он. – Искали мы с тобой делянку, где лес для скотного двора взять. Погляди-ко, около вырубка-то какие сосны вымахали! Лучше-то леса и не найдешь.
– Да ведь не дадут нам его.
– Как не дадут! – удивился Савел Иванович. – Лес-то этот местного значения…
Меня обдало холодом от такого утилитарного отношения Савела Ивановича к моему пейзажу. Но надо быть справедливым. Разве нет у нас профессиональных критиков, которые замечают в пейзаже, прежде всего, какой изображен на нем лес – госфондовский или местного значения?
В конце дня зашел ко мне Кузовлев. Узнал себя в картине сразу.
– По лбу вижу, что это я, – объяснил он мне.
Я как раз прописывал на картине его лицо и спросил:
– А вы о чем тогда думали?
Он поднял к потолку глаза.
– Не помню что-то, Алексей Тимофеич.
– Я тут все дни о сыне думаю, куда его пристроить. Хотелось бы мастерству какому-либо обучить. И решил вот в ремесленное отдать. Как вы на это смотрите?
– Что ж, дело хорошее!
– Наверное, и на крыльце я об этом думал. Ну и еще о пшенице. Худо она растет у нас. Вот и добираюсь своим умом, почему же она не растет: влаги ли ей маловато или же по другой какой причине… Да только без толку все. Кабы агроном я был, тогда другое дело!
Я подарил ему этюд, который просила Настасья. Выругав ее опять, он бережно завернул этюд в газету и унес домой.
Приятно удивил меня Михаил. Он долго сидел перед картиной, озабоченно посвистывая. Круто встал вдруг, теребя кудри, с завистью вздохнул.
– Молодец, Алешка. А я вот задумал одно дело, да ленюсь все…
– Какое дело-то?
Рассказав, что давно уже конструирует оригинальный двигатель, он как-то приуныл сразу и ушел. Я был рад, что вызвал у него творческую зависть.
С каждым днем картина моя продвигалась к концу. Я уже отделывал фигуры, особенно много трудясь над лицами и стремясь каждому характеру дать и внутреннюю глубину, и яркую индивидуальность.
Не осталось у меня и следа прежних бесплодных, мучительных раздумий и сомнений. Теперь я твердо знал, что и как делать. Я видел назначение своей картины и верил, что она нужна людям.
Давно не творил я так радостно!
Чуя уверенность в хозяине, розовый конь мой снова перешел с мелкой рыси на скок, стремительно полетели навстречу короткие дни.
В картине, однако, не было еще главного образа. Но сколько я ни уговаривал Парашу позировать, она отказывалась наотрез.
– Нет, нет, Алешенька! Ни в жизнь не пойду теперь. Как я дяде Тимофею и тете Соломониде в глаза буду глядеть? Украла ведь я тебя у них, как воровка последняя.
Она не знала, конечно, о нашем разговоре с отцом и о семейном совете. Я тоже ничего не говорил ей об этом, потому что сам еще не знал, что делать. Следовать совету отца мешала неизжитая обида, но и потерять второй раз Парашу я уже не хотел. Если бы Параша потребовала от меня определенного решения, я так долго не раздумывал бы. Но она ничего не требовала.
В воскресенье, когда отца не было дома, она все же пришла ко мне на часок. Я быстро вылепил на холсте ее фигуру, но справа образовалась в картине пустота. Это был мой просчет в композиции, из-за которого могла теперь рассыпаться вся картина.
Я положил кисти и озадаченно сел перед картиной на стул. Что же делать? Перегруппировать все фигуры? Писать все заново?
И вдруг мне пришла в голову простая и естественная мысль:
– Я тут мальчишку около тебя, Параша, напишу. Вот, представь, приехала ты с Выставки. Сынишка твой на улице в это время гулял, как увидел тебя – кинулся на крыльцо, сел с тобой рядом. Наскучался, жмется к матери.
У Параши брызнули вдруг слезы из глаз. Закрывая мокрое лицо рукавом кофты, она со стыдом и укором сказала:
– Мне живого от тебя надо, а не картинку…
…Алексей сладко потянулся, зевнул и, не отрывая головы от горячей подушки, приоткрыл глаза. Словно возмущаясь, что он так долго спит, за окном неистово тарахтела и прыгала на вершине березы синеголовая сорока в чистом белом передничке.
На пол светелки почти отвесно спускались с подоконника желтые солнечные брусья. Значит, время перевалило уже за полдень.
«Да ведь сегодня же воскресенье! – обрадованно вспомнил Алексей, увидев безмятежно спящего брата. – Никогда нас мать по праздникам рано не будила!»
Повернувшись на другой бок, он стал уже снова засыпать, как вдруг в сонное сознание его вонзился отчаянный женский плач. Откуда-то издалека приплыл глухой говор и шум, оглушительно заскрипели внизу на лесенке ступеньки…
«Не пожар ли?» – сбросил с себя одеяло Алексей.
И тут же услышал, цепенея, испуганно-требовательный крик Василия:
– Вставай, братаны! Война.