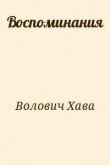Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Мать снова налила в чашки, и они втроем снова выпили – за Троицу и всех трагически погибших. Старинная Аннина знакомая наконец спохватилась и кинулась догонять старуху, а Анна осталась в раздумье и смущении от несоответствия своего внешнего вида и уже такого солидного возраста.
Юлька нашла занятие: качалась на дверце оградки и чуть не сорвала ее, за что получила от бабушки шлепок. Начали собираться в обратную дорогу.
***
С кладбища они шли тем же путем: через Питяево и ячменным полем, такой привольной деревенской дорогой, – до Конецдворья.
У первого же двухэтажного дома на краю села (это оказалась больница) мать остановилась и показала на окно второго этажа:
– Вот за этим окном ты родилась.
– Да-а? – Анна застыла, задрав голову. Она знала, что родилась "где-то здесь", но чтобы вот так конкретно… Ради этого момента стоило сюда приехать!
Когда они проходили центром села, Анна увидела, что красавица-церковь уже сильно обветшала, местами стала разрушаться и как бы еще больше вросла в землю, стала ниже. От этой обветшалости у Анны сердце заболело. Никому эта двухсотлетняя церковь здесь не нужна – ни колхозу, где к ней привыкли, как к навозу на улице, ни реставраторам, которые не столь лечат, сколь калечат… Анна больше доверяла деревенским плотникам, которые бани рубят, дома ставят. Где же они все? Храм ветшает, но ни одна рука его не подновит. Неужели везде так? Или только в России?..
Анна не могла пройти здесь просто так: посадила мать и Юльку на фоне церкви – увековечить. Но пленка в ее фотоаппарате внезапно кончилась. Ей бы остановиться, одуматься, понять, что это неспроста, но – нет, зарядила новую пленку, увековечила. А может… беду накликала?
Двинулись дальше, на другой конец села, чтобы отправиться в Ластокурью. Одно на улицах Конецдворья, как показалось Анне, оставалось неизменным: грязь. Как и тридцать лет назад, никаких перемен. Вдоль улиц, перед фасадами домов, на землю брошены доски-мосточки, а на "заднем дворе", за домами… грязища, крутой замес навоза, древесной щепы, корья (тут и помойка, и хлев) – зато "лицо" чисто. Вот он, истинно русский подход к делу… Ни асфальтовых дорожек, ни кирпичных коровников здесь не найти. Все по старинке, все гниет и ветшает в богатом когда-то, старинном поморском селе…
Мать снова начала показывать Анне: вот в этом доме, оказывается, жили прабабушка и бабушка в детстве, а теперь – как странно – дом жив, а хозяев давно нет, и в нем живут чужие люди. А вон в том доме жили сестры прабабушки, поморки, сами семгу промышляли, не хуже мужиков… До сего дня Анна и не знала, в каком доме бабушка родилась, где ее родня жила, не интересовалась; не эта б поездка – и не узнала бы совсем. А родни-то вон сколько, оказывается, раньше было: полсела!
Незаметно они оказались на околице и – о чудо! – в начале бетонки, ведущей как раз в нужном направлении. Откуда она здесь? Давно ли? Анна в нетерпении выбежала на дорогу. Мать запричитала сзади: "Не хочу я туда идти!" – но "ломалась" недолго: видать, ее тоже как магнитом тянуло в родимые места, где она со злополучного пожара не бывала, хоть ей и Конецдворье не чужое – она сюда в школу семь лет бегала, и каждый бугорок ей здесь знаком.
Анна снова "разоболоклась" и споро зашагала по бетонным плитам. Но скоро с дороги пришлось свернуть – она огибала скотный двор и уходила за горизонт. Теперь предстояло идти прямо по пашне до двух домов – Ластокурья! – белевших на солнце крышами за три километра. Раньше по этому, неоглядному сейчас, полю бежали дороги, тропинки, был здесь и островок леса, были выгорожены поскотины, в которых росла уйма шампиньонов, по местным понятиям, "поганых" грибов (да и вообще поморы грибами брезгуют). В общем, ориентиров было много, а сейчас – ни одного, кроме трактора, который, за каким-то лядом вспарывая все эти дороги и поскотины, ходил от одной реки до другой. Вот по этой свежей пахоте, по крупным комьям дерна и предстояло теперь скакать и старому, и малому.
А куда идти, если глаз ни за что не цепляется? Анна взяла курс прямо на видневшиеся вдалеке дома и как заправская туристка, пошла преодолевать препятствие. Теперь ее ничто не могло остановить: цель была видна. Пригодились былые переходы с рюкзаком по пересеченной местности, даром что лет семь уже никуда не ходила. А вот матери, не знавшей, что такое туристская сноровка, приходилось туго на рыхлой, комковатой земле. Она и Юлька давно отстали от Анны, и мать то и дело останавливалась и кричала, что Анна не туда загребает, на что Анна только тихо ругалась и продолжала гнуть свою линию.
Анна начала приворачивать к береговым кустам – там должна быть тропинка, которая раньше вела по берегу прямо в деревню. Мать, завидев это, снова остановилась и закричала:
– Куда ты, к Задней ведь идешь, к Задней!
– Какая Задняя, – рассердилась Анна, – ты что, не видишь: Удов ручей прошли!
А мать действительно ничего не узнавала – не было ни одного заборчика, воротец вблизи или леска… До Анны только здесь стало доходить, что мать совсем постарела. Уже не та, что десять лет назад, не та. Дома-то все: "мама" и "мама", без возраста, а здесь – вот она уже какая: родных мест не узнает, сердится, отстает. В детстве всегда Анна отставала, просила, чтоб ее подождали, бегом догоняла мать, всегда ходившую бойко, а сейчас Анна, хоть и тихоход, без усилия ушла вперед, а мать – рядом с пятилетней Юлькой где-то позади тащится…
– Что, где Удов ручей? – смотрела, но не видела мать. – A-а, вот он, точно, – угнала она наконец по кусту шиповника. – Ну, я вернусь туда, мне надо вилку бросить.
– Иди, – поняла ее Анна, – а я с Юлькой вперед пойду, искупаться хочется, жарко!
***
Про эту вилку Анна знала. Мать уже не раз рассказывала ей свой вещий сон (у нее все сны были вещие, во всяком случае, она всегда точно знала, к плохому сон или к хорошему). Будто бы подошла к ней у Удова ручья старуха, вся в сером, и подает ей вилку о трех зубцах. «Брось, – говорит, – ее через левое плечо». А мать не успела бросить-то: проснулась. С тех пор все и мучилась, что не бросила (эта старушка к ней ведь не первый раз во сне являлась, и все в «нечистом» месте: перед тем, как дом сгорел, она ей узелок с пеплом и угольками – в бане! – подала и сказала: «Вот тут все»), но до Удова ручья, что по дороге к родной деревне, матери за эти годы ни разу не пришлось дойти. А сейчас вот улучила момент, и вилку с собой прихватила – значит, все-таки собиралась идти в деревню, была у нее цель! «Пусть бросит, раньше бы надо было, – рассуждала Анна, – да теперь уж что… Три в нашей семье удавленника, три и утопленника, да последние-то двое – в этом году… Может, как бросит вилку, так на них эти напасти и прекратятся. И так дом, да и пепелище его, в родне проклятыми считаются, теперь уж туда никого калачом не заманишь – все беды, тетки считают, оттуда».
Уходят мужики, безвозвратно уходят… "Это, наверно, тата-покойник, – мать каждый раз вспомнит свой сон, – в дом все возвращается, как обещал, да мужиков-то одного за другим за собой и уводит". Может быть…
А Удов ручей – место вполне подходящее, нечистое, зовется так за то, что здесь, сказывают, когда-то кошка мужика удавила да в ручье утопила. Выловили его потом со следами когтей на шее… Пусть мать вилку бросит, авось не будет больше в семье ни удавленников, ни утопленников.
***
Анна с Юлькой вышли на берег реки, но тропинки там не было – трактор распахал все, вплоть до кустов у воды: кому она нужна здесь, эта тропинка? Кто теперь в Ластокурью ходит?
Скоро они подошли к деревне, к оставшимся двум домам. В одном доме кто-то копошился – видимо, жили дачники; на реке на приколе стоял катер.
Анна чуть ли не бежала вдоль реки – искала место, где раньше была пристань и где они, детишками, всегда купались. Но дома, что стоял у самой пристани, амбаров, бань на берегу уже не было – как корова языком слизнула. Лишь ровный высокий сорняк кругом. Анна с досады проскочила всю деревню – не верила, что ни одной приметы не осталось. Но потом поняла, что надо уже возвращаться – дальше река была глубже и берег круче. Внизу она увидела троих мужиков, тянувших бредень по грудь в воде: чужих мужиков, не деревенских, с чужого катера. Разозлившись совсем, Анна повернула назад. Где же этот песчаный желтый бережок, где глинистый обрыв берега с норками летучих муравьев в нем? Где все это? Травой поросло… Густой травой, вплоть до самой воды.
Юлька, отстав, заплакала. Она вся искололась о высокую траву и не знала, как продраться сквозь нее назад, а Анна упрямо звала ее, ожесточенно натягивая купальник, – она приблизительно нашла бывшее место купания. Юльку от колючек спасла бабушка – она неожиданно появилась на берегу, а разгоряченная Анна наконец влезла в холодную темную воду, ощущая ногами знакомое дно реки…
Из озорства она сплавал на тот берег ("А и речка-то какая-то узенькая стала") и нарвала Юльке желтых кувшинок. Их здесь прежде называли "самоварчиками" – за то, что их толстые пестики при созревании очень напоминают самовар, – и "балаболками" – наверно, за то, что их широкие листья постоянно что-то лопочут, хлопая по воде.
Отойдя в воде душой, Анна вышла на берег, где ее тут же облепили комары, и торопливо оделась.
– Уф!.. Ну как, бросила вилку? – спросила она у матери.
– Бросила, – смущенно засмеялась та.
Теперь можно было идти к уцелевшей бане. Что-то еще ждало их там?
И они пошли от берега, но каждый шаг давался им с трудом: вот он, враг "номер два" – каждая пядь бывшей деревенской улицы поросла колючими сорняками и крапивой. "Ну почему крапива, почему именно крапива? – злилась Анна. – И сплошь, сплошь лопухи, аж по пояс… Вот те и пробежалась от реки по досточкам…"
Она посадила Юльку к себе на закорки и пошла топтать дорогу сквозь крапиву именно в том направлении, как тропинка пролегала раньше от реки к дому: ноги сами несли.
Баня оказалась не заперта – тетки уже отказались ее запирать: все равно кто-нибудь замок сорвет или, хуже того, окно выставит. Где стоял дом, обнаружить уже было трудно – его похоронила под собой жирная крапива; только два густо разросшихся, невесть откуда взявшихся ивовых куста зелеными памятниками стояли на его останках.
Анна, усадив Юльку подальше от крапивы, залезла на чердак поискать серп, но нашла только лопату и нож. Но и с этими орудиями они тут же кинулись в бой на ненавистную крапиву: Анна лопатой прорубала кратчайший коридор из крапивных зарослей, чтобы ходить на речку в обход, а Нина Ивановна, вооружившись ножом как серпом, стала наводить надлежащий порядок: расчищать привычную прежнюю дорогу, хотя ее коридор в крапиве был раз в шесть длиннее, чем у Анны.
***
День между тем близился к закату, надо было думать о ночлеге. Но мать снова заупрямилась: ни о какой ночевке и слышать не хотела, звала назад. Ей больно было даже смотреть на «хлев» в бане, не так давно еще оклеенной обоями, с печкой-очагом, столом, кроватью с пружинным матрасом, но с пустым окном, клочьями ваты из разодранного крысами тюфяка (кое-где виднелись в полу огромные дыры – их работа), кучами какой-то трухи, битого кирпича…
– Ой, ой, ой, – охала она так, как будто ожидала увидеть здесь дворец, а увидела конюшню, – ой, ой, ой, – иных слов у нее не находилось. – Пошлите домой, я не буду здесь ночевать, – обиженно капризничала она: кто слизнул, украл ее родимый, огромный, красивый дом?..
– Да что ты, мама, – урезонивала ее Анна, – на теплоход мы уже опоздали, в Конецдворье ночевать не у кого, Юлька такую дорогу снова не пройдет, да и я едва ноги таскаю. Чего ты разохалась? – Анна оглянулась. – Здесь же почти чисто. Это крысы насорили – вату раздергали, землю из нор вытаскали, а людей здесь не было: видишь, ни бутылок, ни окурков, печку не разворотили, на пол в углу не нагадили… Ты не бывала в горах, в турпоходах! Иной раз из избы окурки ведрами вытаскивали, да не по одному разу, а уж нагажено обязательно, и печь, как правило, разворочена, а тут – красота, почти порядок!
Анна нашла в сенцах бани таз и начала сгребать в него труху и кирпичи. Мать, все еще ворча, принялась помогать ей и вскоре вошла в раж, повеселела. Скоро на полу стало чисто, а баня стала походить на умытую деревенскую избу. За кроватью нашлась рама со стеклами – защита от комаров, нашлись и припрятанные чистые покрывала. Вот кровать только была одна.
– Мам, я пойду курганы посмотрю, – заметив, что солнце уже садится, решилась Анна. Было немножко жутковато. Но завтра, она понимала, ей будет не до того.
– Что ты, что ты, на ночь глядя – в Федулков лес, – воспротивилась мать.
– Пойду, мне надо, – заупрямилась Анна.
– Я тоже с тобой, – обрадовалась Юлька.
Не обращая внимания на протесты матери, они взялись за руки и пошли от бани на заход солнца – туда, где был "нечистый" Федулков лес и круглые "круганы". Но не прошли они и двадцати метров, как начали проваливаться в высокой траве в какие-то ямы. Анна присмотрелась – это опять были огромные комья земли, перепаханной и перекорчеванной здесь для чего-то, но уже поросшие высокой травой. Идти было невозможно: ноги проваливались по колено ежеминутно. О тропинках, бывших тут когда-то, о ровном поле надо было забыть. "Для чего перелопатили здесь луга? – Анне было не понятно. – Если для пастбищ – так коровы же здесь ноги обломают!"
Анна застыла, разглядывая луг: он лишь на первый взгляд казался ровным – под травой скрывались глыбы земли и глубокие рытвины. Из-под руки она вгляделась туда, где садилось солнце… А где же Федулков лес?..
До самого горизонта она видела траву и только траву…
Изничтожили. Федулков лес изничтожили. Смородиновые кусты и черемуху – все выкорчевали! А курганы – с землей сровняли? Да чем этот лесок провинился-то, кому он, такой маленький, помешал? И перевалов с малиновыми кустами Анна тоже не увидела – конечно, малина же посреди поскотины росла, тоже, значит, помешала… И башни силосной нет, и лесочка, что деревню окружал, – пусто вокруг, пусто, хоть свищи!
– Пойдем, Юлька, назад, – потерянно проговорила Анна. – Не судьба, значит…
Они вернулись в баню, где были полная чистота и порядок, и мать уже собрала нехитрый ужин.
– Мама, пойдем еще на речку, – не набегалась Юлька.
Анна и сама не прочь была прогуляться, хотя бы и к реке:
– Пойдем.
Они взяли бутылку для воды и "своим" коридором, обходя крапиву, пошли к реке.
Вода была уже полная – чувствовалось дыхание близкого моря, речка набухла, разлилась почти вдвое и была уже не жалкой речушкой, а чем-то живым, могучим и жутким в немой тишине. Темная вода быстро неслась мимо. Анна поежилась, как в детстве: в такую не полезешь купаться…
Юльку после ужина сразу сморило, и она уснула. Анна тоже растянулась на кровати, и места больше не осталось. Мать сидела на ящике и на предложение Анны перенести туда Юльку, а самой лечь отдохнуть, отказывалась наотрез:
– Не буду я тут спать, вот еще, ночь просижу, а утром на теплоход пойдем.
Анна спорить не стала, начала кемарить. Не хочет ложиться – все равно не переупрямить.
– Пойду косынку постираю, – нашла занятие мать, и явно с удовольствием "усырыкнула", как она говорит, на речку.
Анна соскочила со своего места – не мытьем, так катаньем! На освободившемся ящике она соорудила нечто вроде лежанки (повыше, от крыс подальше) и перенесла туда спящую Юльку: той много места не надо.
Скоро мать вернулась – вся искусанная комарами, но довольная: речка-то не изменилась, все так же стремительно течет в знакомых берегах!
– Перенесла-таки девчушку, – запричитала было она, завидев Юльку на ящике, но потом смирилась, улеглась на кровать – устала все-таки. Анна-то привыкла думать, что мать – железная, устали не знает, ан нет, тоже ведь из костей да из мяса… Вон с Юлькой-то с одной выматывается, а Аннина бабушка раньше здесь с шестью да с девятью внуками справлялась – об этом молодые тогда мамаши, дочери ее, не думали, а сейчас, когда самих припекло, поняли: "Ох, ведь это мы маму со своими детками раньше времени в могилу свели… Ведь пожила бы еще…" – да поздно.
Анна глядела в побеленный по саже потолок, на матицу:
– Нет, мама, что ни говори, а мы с тобой в деревне побывали. Вот лежишь сейчас на этом мягком матрасе – как у бабушки в дому, все точно так же. И солнце в окно заглядывает, и все как тогда, только будто не в избе, а в хорунке[3]3
Хорунка – маленькая копия деревенской избы; специально изготавливалась в каждой семье для детей, где они понарошку вели свое хозяйство.
[Закрыть].
Мать умиротворенно молчала – видимо, была согласна.
***
Они уснули и спали все беспокойно, но долго, проспав утренний теплоход, – вставать и уходить из дома не хотелось.
Наутро оказалось, что прошел дождь, хотя было по-прежнему тепло. Они собрались и, в странно-прекрасном расположении духа, ни о чем не заботясь, отправились в путь.
Трава была мокрой. Аня закатала штаны и посадила Юльку на "кукарешки". Так они шли до бывшей околицы, откуда уже начиналась пахота: за вчерашний день трактор успел перепахать все поле. Анна спустила Юльку на комья глины и, хлюпая обувью, они пошли месить мягкий глинозем – другой дороги из Ластокурьи не было. Вдали на фоне встающего солнца очень ясно вырисовывалось Конецдворье.
– Мама, смотри, не Конецдворье, а прямо Москва, – сказала Анна, имея в виду схожесть силуэта деревянной церкви с Кремлем.
– Да, ты и раньше всегда так говорила, – тут же ответила ей мать, – "не Конецдворье, а прямо Москва!"
У Анны потеплело в груди, но она ничего не ответила: "Так значит, ничего не изменилось, и я сама не изменилась ничуть…"
Они выбрались на бетонную дорогу совсем грязными, особенно Юлька. Но это было настолько естественным, что никто из них не опечалился.
– Мам, давай зайдем на старое кладбище в Конецдворье, оно где-то тут должно быть, – позвала Анна.
– Пойдем, там моя бабушка, а твоя прабабка похоронена, – согласилась мать.
Опять новость для Анны: она этого и не знала. Просто было посреди деревни старое кладбище, торчали покосившиеся кресты, вечерами было жутко мимо него ходить… И не поверишь, что там кто-то из близких похоронен.
Они пошли искать, но не сразу увидели одинокий крест – последний чей-то безмолвный памятник, который пока держался, а от прочих могил даже холмиков не осталось – рассосалась глина…
– Мама, смотри-ка – теплоход, мы как раз успели, – издалека увидела Анна приближающуюся по реке точку.
– Куда ж мы поедем, это не наш! – по привычке запротестовала мать.
– Да куда-нибудь выедем, лишь бы на тот берег попасть, – с несвойственной ей беспечностью, совершенно убежденная, что земля круглая и когда-нибудь они попадут домой, решила за всех Анна.
Не успев ополоснуться, все чумазые, они сели на теплоход, который повез их мимо всех малых и больших деревень, приставая в иных местах прямо к берегу носом, без всяких сходен забирая двух-трех пассажиров, и финно-угорские названия деревень – Ластола – чередовались с русскими – Вознесение… "Надо же, только в нашем краю, наверно, такие названия еще и остались: Вознесение… А Архангельск? Каким чудом его-то не переименовали? Ар-ха-а-ан-гельск…" – дивилась, как будто впервые услышала, Анна.
– А баньку эту тетки продавать хотят, – вдруг как колом по голове жахнула мать. – Уже покупателя нашли. Все равно туда никто не будет ездить, а так ее спалят.
– Да вы что! – крикнула было Анна, а потом устало подумала: "А, рассыпься все прахом…"
– Маме никогда это место не нравилось, – продолжала мать, – эти дороги… Электричества не было, чуть что – за семь верст бежать… Не любила она Ластокурью. Да и Бог с ней! – закончила она, успокаивая то ли себя, то ли Анну. Анна молчала.
***
Добирались они долго, но земля действительно была круглой: добрались-таки. Дома у матери – во втором своем доме – Анна, как подкошенная, свалилась на диван и тут же уснула, благополучно проспав полдня наступившей Троицы. Ей было покойно, и она почему-то знала, что теперь никогда уже не приснится ей деревенский дом с его темной силою, с фантастическим могучим лесом вокруг и таинственно разбегающимися от него, зовущими куда-то тропинками.
И не так уж важно – продадут тетки баньку или спалит ее когда-нибудь лихой человек: знала она, что все они туда и на чистое место все равно приезжать будут, уезжать и снова неотвратимо возвращаться – чтобы пылью знакомой хотя бы подышать…
1989
Няндома
…Бабка, почуяв близкий конец, захотела было встать с кровати, но, сделав неверное движение, упала на пол и вдруг яростно закаталась по нему. Стены каморки не пускали. Она потянулась к выходу, переползла через порог, но на большее сил у нее не хватило. Язык отнялся, не было мочи позвать кого-либо, да и в доме в это время было пусто. Вдруг тело ее забилось в страшных предсмертных судорогах, и через минуту она затихла, ткнувшись исказившимся морщинистым лицом в половицы пола…
Я, в который раз вздрогнув, проснулась и свесилась с полки: не приехали ли? Оказалось, пора собираться: поезд в предутренних сумерках подходил к станции Няндома; стоял он там недолго.
***
На перроне, одинокой фигурой в столь ранний час, нас встретил Евгений – младший брат отца. Встретились-поздоровкались обоюдно-сдержанно и пошли, потрусили к нему на квартиру – он жил недалеко от вокзала. К деду, куда мы, собственно, ехали, сразу не пошли – спит еще, чего тревожить в пятом часу утра.
Отец с сумкой, в которой гостинцы, ковыляет впереди, девчонки бегут за ним. Мы с Евгением – сзади, ведем неловкий разговор: видимся редко, последний раз – очень давно, о чем говорить? Евгений засунул руки в карманы, я корячусь рядом, с котомкой, в котомке – дыня. "Помог бы, что ли, иль не догадывается? – пеняю ему про себя. – Мужик ведь вроде…" Чуть было не сорвалось с языка: "Взял бы котомку-то", – вроде бы это в традициях при встрече, – но вовремя замешкалась.
– Помог бы нести, да мне больше трех килограмм нельзя, – будто почуяв, поясняет Евгений.
"Господи, да у него ж инфаркт недавно был", – опомнилась я.
Моментально проникаюсь жалостью к нему, от стыда за себя уши горят: забыла ведь – вот как меня интересует судьба родственников! Конечно, Няндома не близко, но и не далеко, могла бы повнимательнее быть, побольше участия принимать в родне, почаще приезжать.
– Инвалидность дали? – спрашиваю жалобным голосом.
– Вторую группу.
– Без права работать?
– Пока да.
"Вот это да… А ведь Женька всего на четыре года старше меня… Ему только сорок лет! Дети еще не выросли… Беда…"
Приходим в Женькину "фатеру". Галину с постели подняли, а дети еще спят. Заспанная, поседевшая – о ужас! – Галина греет чай, открывает холодильник, мечет кой-какую снедь на стол; тут и отец достает из своих запасов винишко, бутылку распечатывает "за приезд". Пьют все: отец (два микроинфаркта перенес) не брезгует, да что там – жизнь за рюмку отдаст; Евгений – инфарктник, инвалид-то наш – ни одну не пропускает; правда, не много тут и есть, да и то портвейн – слабенький. Я вытаскиваю на стол дыню – двоюродникам в подарок: они ведь детей моих не намного старше. Вот уже и они поднимаются: одной – в школу, другому – на работу.
Выходит на кухню заспанная Наташа, садится за стол завтракать. Ого, она уже невеста, хоть и старше моей всего лишь на два года. Вытянулась – каланча, выше матери. Собирается в школу – нескладная, неприодетая… Да и откуда? Женькина семья никогда богатством не блистала, хотя и не нищенствовала…
Вот и Анатолий, сын, появился – красавец, крашеный чуб вьется, высокий, молодой, жениться собирается (как тут же открылось), невеста уже есть. Да… Я их последний раз видела еще детьми – вот как часто здесь бываю. Тогда и бабушка еще была жива…
Галина торопится угостить своих детей редкой в этих местах дыней, а мои нахалки тут же пристраиваются и – как будто век ее не едали – тоже начинают уписывать за обе щеки.
Но вот Наташа и Анатолий, позавтракав, уходят, пора и нам в путь отправляться: дед уже встал конечно.
***
Гурьбой идем к его дому: отец косолапит впереди, Евгений – рядом со мной. Мы с ним – почти ровесники, а отца он на двадцать четыре года моложе. Вокруг носится охотничий пес Евгения – молодая рыжая гончая. Евгений расхваливает ее достоинства: говорит, что «зайцев только так гоняет». А я, вдали от лесной жизни, в своем заиндустриализованном, железобетонном городе, уже решила, что и зайцев не бывает, и охоты на свете давно не существует.
Подходим к дому деда – он почти последний на окраине Няндомы, за ней, на взгорке, простирается кладбище. Заходим во двор, старый пес облаивает нас, но пропускает к дверям, в сенях одичавшая дедова кошка при нашем появлении пулей пролетает где-то по-под потолком, а в избе нас встречает дед – маленький, усохший, костяной, со слезящимися глазками и апостольским гладким черепом, в жилетке под ремешок и толстенных суконных штанах – для тепла. Принимает наши объятия: "Андели, андели", – мы все смеемся, обнимаемся, девчонки липнут к нему, Яна умиляется: "Дедушка!.." – хотя дед ей приходится прадедом… Отец слюняво целует его: "Здравствуй, папа!" – и мы, оторвавшись от деда, идем осматривать его жилище: заглядываем в русскую печку – там стоит чугунок с картошкой; в дедову каморку за кухней – там тепло от выступающего печного угла. У стены стоит кровать, в углу стол с телевизором, диванчик деревянный – дедово "лежбище". Над кроватью – потемневший портрет отца деда, моего прадеда Евгения: и на темной фотографии видно, что он был красавцем. Кажется, отец мой похож на него. Дальше – "столовая" (в ней стол и холодильник), рядом – бабушкина каморка, там тоже выступает угол очага; в ней кровать бабушки, а над кроватью – портрет моего отца, лет так девятнадцати чубатого красавца-офицера; я такого портрета раньше не видела. "Столовая" и бабушкина каморка застланы половиками, на окнах и дверях – тюлевые и цветастые занавески. У деда порядок, не забалуешь, даром что один живет.
– Папа, мы сходим на кладбище, – говорит отец, – к маме на могилу.
– Подите, подите, – напутствует дед, и мы, так и не раздевшись, выходим на улицу.
***

Раннее утро, снег блестит на солнце, кладбище рядом – надо перейти шоссе за окраиной. С некоторым поеживанием следую за мужиками – честно говоря, приятного мало гулять по кладбищу, хоть бы и ясным днем; но долг отдать надо, ведь на похоронах бабушки я не была – детишки еще были маленькими, не тащить же их было с собой… Да и начальник мой, сучья лапа, не отпустил. «У тебя уже, кажется, умирала бабушка», – издевался. Сволочь безродная, прости, Господи. Ни дна ему ни покрышки за это не будет, я уж знаю!
Делаем крюк по кладбищу, ищем могилу, наконец нашли. Я захожу в оградку, чтобы посмотреть на фотографию, и вдруг словно мороз дерет по коже: с фотографии на меня смотрит не бабушка, а ведьма какая-то – лицо в морщинах, взгляд озлобленный… Я вглядываюсь: да нет же, это моя бабушка. Но я ожидала увидеть ее другой – какой помню: неприметной, маленькой, тщедушной, сморщенной, в платочке, глаза светло-голубые, нос уточкой, а тут – колючий взгляд, сердитое лицо… Неужели она была такой? Правда, мать всегда про нее говорила, что свекровь была "колдовкой", умела колдовать; дескать, это она "сделала так", что с отцом они – как кошка с собакой, но "прожили всю жизнь", не разошлись. Довольно часто она это повторяла и не любила к ней ездить. Но то слова. А я бабушку видела шесть лет назад, когда приезжала к ней на восьмидесятилетие. Она была уже плоха, по дому не обряжалась, корову не доила, за ворота не выходила – дед все делал сам; но обладала в то время очень ясной памятью и умом. "Как там поживают?.." – она называла сестер матери и всех их детей поименно, хотя большинство из них никогда и в глаза не видала. Мне это показалось очень странным, я только поудивлялась, но не придала тогда этому значения. А выслушав мой рассказ о несложившейся моей худой жизни, бабушка вдруг спросила: "Ты беременна?" – и опять попала в точку, хотя замечать было еще рано. О своей жизни рассказывала она интересно и толково, но вот поговорили мы с ней мало… До сих пор жалею, что мало видала бабушку и мало с ней разговаривала. Но тут… напугала она меня.
Чтобы отвлечься, я начала выщипывать с холмика сухие травины, торчащие из снега. Мужики тоже засуетились и неуклюже стали мне помогать. Потом достали водку, закуску, втроем мы помянули и, не задерживаясь долго, пошли по родне дальше – к теткам, дядьям – и, после двух-трех могил, к выходу: думаю, что не очень-то ловко было на пустынном и голом кладбище не только мне, но и трусоватым в душе мужикам.
У дедовой калитки Евгений распрощался с нами до вечера, не стал и заходить, а мы вернулись к деду.
***
В доме было уже тепло, но не очень-то уютно. Я никогда не чувствовала себя здесь уютно (может, потому, что никогда не приезжала летом) – не то что в просторном, солнечном, высоком доме бабушки Дуни (по маме), где я привычно проводила свои каникулы. А дом деда состоял из пяти небольших клетушек и одной комнаты побольше – «зала»: так дед его разгородил, когда Евгений женился. Кухня и каморка деда были жилищем аскета – ничего лишнего, никаких украшений. В следующих комнатах, сейчас почти нежилых, окна украшали тюлевые занавески, на дверях висели цветастые шторы с бахромой, пол закрывали домотканые половики (гостей «в сапогах» дед туда не пускал), а в «зале» и в отгороженной от него спаленке, с иконой в углу, половики на полу лежали в два слоя. На круглом столе под попоной стояла швейная машинка «Зингер» (дед сам шил себе рубахи, портки, занавески и прочие необходимые вещи), в простенке стоял новый, нелепо смотревшийся здесь трельяж, у стены – новехонькое пианино, накрытое самошитым ситцевым покрывалом. В обеих передних комнатах на стенах висели ковры, стояли мягкие диваны и были подвешены люстры, прямо с красовавшимися на них ценниками.
– Дед, да у тебя тут шикарно, – удивилась я.
Дед сверкнул ослепительной улыбкой, и в восемьдесят три года делающей его мальчиком:
– Я еще машину куплю, и поставлю ее в гараж.
– Зачем?
– А пусть стоит.
Ну чего непонятного: да чтоб было состояние "полного блага". Приятно, наверно, ощущать, что ты можешь себе это позволить. Ведь всю жизнь дед недоедал, скупился… Экономил, скапливал. А обстановкой стал обзаводиться недавно – видно, когда понял, что денег в могилу все равно не унесешь, а то и начал бояться, что нечаянная денежная реформа все накопленное отнимет. Всю жизнь копил, чуть ли не в рубище ходил, бабке на конфеты к чаю жалел, дочери – на кино двадцать копеек, а потом вдруг, незадолго до бабушкиной смерти, трельяж ей купил, коврами стены завесил. Пианино вот поставил… "Пусть внучка играет". Машины помог и сыну, и зятю купить. Теперь о своей мечтает – богатый! "Пускай стоит"…
Я продолжаю осматривать дедово хозяйство, любопытствую.