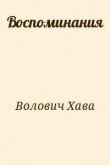Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
– Смени меня, я чуть-чуть отдохну, – попросил Ваня. Он завел мотор, и Вера села за руль.
– Правь вон туда, – он указал рукой.
Спустив паруса, обессиленный Ваня рухнул на скамью, закрыл воспаленные глаза. "Бедный, он же сегодня почти не отдыхал, скоро сутки, как сидит за рулем… Вон глаза какие красные…" – пожалела его Вера. Неприятно кольнуло воспоминание о Володе: "Мужик тоже называется… Помощи – никакой… Шторма и не видел…" Веру не покидало ощущение, что в яхте всю ночь они были вдвоем: только капитан и она – матрос Вера…
Хоть и усталая, она уверенно держала румпель. Откуда силы брались! Яхта шла медленно, но устойчиво, постепенно приближаясь к городу.

Из каюты позеленевшая, скрюченная перманентной мутотой, вылезла на воздух Наташа, упала на скамью. На противоположной от нее, в спальном мешке, тоже скрючившись, кто-то лежал. У руля сидело… нечто: баба не баба, мужик не мужик, голова чем-то замотана…
– Верка! У тебя чего с мордой-то?
– А чего?
– Она у тебя как помидор – красная и блестит. И глаза такие же. А губы – как у негра после засоса.
– Да ты че… А я и не вижу. Думаю, не изменилась, все такая же…
– Да-а, красотка. А я как?
– Тоже как помидор, только зеленый… квашеный.
– Слушай, а мне полегчало, – отдышалась немного Наташа.
– Конечно – на воздухе… Я вообще не понимаю, чего вы туда забились… А… Володя… он что – сразу жилет надел?
– Сразу, как залез.
– А ты чего ж?
– А я почему-то не боялась. Думала: ну не можем мы утонуть, не можем, и все. Не должны.
– Правильно думала. Ну, сейчас все позади. Здесь шторма как и не бывало… Иди досыпай.
– Ладно, пойду, вся замерзла здесь. Дубак! Как вы не околели?
Наташа оглянулась на город.
– Утро уже… А я обещала вчера вечером вернуться.
– Зачем? Мало ли что могло случиться!
– На праздник сегодня хотели пойти… Семьей.
Наташа нырнула назад в каюту.
Вера правила на устье реки. Яхта двигалась мимо городского пляжа, на котором начинало разыгрываться представление в честь Дня Военно-Морского флота – с Нептуном, водолазами, русалками и чертями. Вера спокойно миновала место этого игрушечного действия – с Нептуном ей сегодня ночью пришлось пообщаться накоротке… и чуть ли не отправиться к нему в гости. Здесь вовсю светило солнце и залив был относительно спокоен, а у нее перед глазами все вставали серые стальные горы волн и яхта, со свистом режущая воду бортом…
Вода в устье реки непривычно блестела, словно зеркало. Ваня, ободрив и похвалив своего матроса, доверил Вере вести яхту и дальше, направляя ее словами. Когда речка еще больше сузилась, он перенял у нее румпель. Вера неохотно отсела в сторону и посмотрела на Ваню, в его воспаленные глаза. Наверно, посмотрела с восхищением… А он по-свойски вдруг привлек ее за шею и крепко поцеловал потрескавшимися губами ее распухшие губы… Вера не отстранилась, не проронила ни слова. Она знала и так – это был поцелуй братства: они были одной крови. Это был поцелуй благодарности, а может, и восхищения, и здесь не нужны были слова.
…И все же яхта села на мель – было время отлива. В каюте проснулись и начали вылезать на воздух опухшие незадачливые "пассажиры":
– В чем дело? Где мы?
– Эх вы, такой шторм проспали, – посочувствовала им Вера. И не удержалась, похвасталась:
– А я за матроса была.
– Мы что, на мели? – перегнулась за борт Наташа.
– Придется в воду лезть… Я сейчас, – Ваня прыгнул за борт.
У Веры сердце зашлось: опять он! Мало ему еще досталось! Но яхта сошла с мели относительно легко, больше ничьей помощи не понадобилось. Ваня забрался на борт, тронулись дальше, петляя по корыткам. Вот и строение яхт-клуба на горизонте… Подошли к причалу, Володя выпрыгнул на мостки с швартовным концом, а Ваня снова оттолкнул яхту, чтобы поставить ее на якорь… Неведомо как, Володя упустил швартов.
Девушки собирали вещи. Ваня смотал швартов снова и кинул его Володе. Тот прозевал его, не поймал… Конец упал в воду. Тут уж и спокойный, как катафалк, капитан не удержался, выругался, а Вера с ненавистью посмотрела на своего дружка: "Раззява…"
– Как будто в штаны наложил, – подвела итог Наташа. – Так и не поняла: был он с нами или не был?..
– Был, – скрипнула зубами Вера.
Ваня подтянул конец, взял его в зубы и бросился к причалу вплавь…
***
Поставив яхту и подобрав все вещи – изрядно потрепанный их салат так и завял, каюту пришлось помыть от рассыпанных и раздавленных там продуктов, – путешественники решили вечером встретиться у Наташи: отметить морской праздник и подвести черту своей двадцатипятичасовой (десять вперед – пятнадцать назад) прогулке по морю.
До вечера Вера спала как убитая. Тем же, наверняка, занимались и остальные.
К Наташе Володя принес бутылку коньяка. А Ваня – крем, чтобы намазать им всех, обгоревших на солнце. Муж Наташи смотрел на их красные, блестящие физиономии и удивлялся, как так можно было за день обгореть. Про шторм он ничего не знал – в море он не был, да, может быть, штормяга и стороной прошел. Но он начал уже беспокоиться за жену и собирался даже идти разыскивать ее на катере в море, да призамешкался… "Да-а…" – иногда крякал он, слушая откровения Веры, и с запоздалым раскаянием, что отпустил Наташу, поглядывал на жену.
А компания вовсю веселилась и удивлялась своему приключению – в лице девушек, конечно. Вспоминали салат, плававший в шлюпке, выброшенную на песок – крейсерскую! – яхту, Ванин "прикид" во время шторма (Вера его высмеивала, а Ваня только радостно улыбался), морскую болезнь… Потом решили намазаться Ваниным кремом от ожогов.
– Только чур – женщин я буду намазывать сам, – слукавил Ваня.
Наташа с хохотом согласилась, и они пошли на кухню.
Когда и Верина спина была густо и нежно смазана чудодейственным кремом, и Вера осталась с Ваней с глазу на глаз, он снова привлек ее к себе.
– Молодец ты, – сказала Вера, слегка возвышаясь над Ваней и накручивая на палец его густые кудри. – Веселый… Настоящий мужик. Герой.
– Да ты знаешь, я ведь всего второй раз на яхте в море вышел, – смущенно улыбаясь, сознался Ваня, – только один раз ее обкатали, и все.
– И раньше… никогда?
– Никогда.
– Да-а, ты даешь! – изумилась Вера. – Я-то думала, ты – ас! Мы ведь могли все…
– Не могли. – Ваня прижал Веру к себе и снова крепко поцеловал.
Кода они отстранились друг от друга, чтобы вдохнуть воздух, увидели в дверях Володю. Он смотрел на них с удивлением. Потом молча опустил глаза и молча вышел.
Ваня смущенно засмеялся:
– Вовка мой друг…
– Был, – ответила Вера. И притянула к себе его голову за буйные кудри.
1996
Танец в домашних тапочках
У Марины были гости – отмечали день памяти недавно умершей коллеги, и почему-то у нее. И вдруг – фантастика: телефонный звонок. И у телефона – ОН. Первая, так сказать, ее любовь. Если быть точной – и последняя. Единственная, в общем. Звонит. В кои-то веки! Номер где-то разузнал. Говорит так, как будто только вчера звонил, а ведь расстались… пятнадцать лет назад:
– Я тут на дачу собрался. Могу прокатить.
Марина – закоренелый скептик. Дача… Интерес известен, замысел понятен. Странно вспомнить – об этой фразе она почти мечтала, лишь бы ее услышать… пятнадцать лет назад. Даже стишок в отчаянии сочинила:
Пугаюсь я внезапности мечты:
А вдруг услышишь ты и вдруг – примчишься?
И не забудешь принести цветы,
И о любви сказать не побоишься…
Тогда – умчимся в дремлющую глушь!
Пусть там свершится таинство земное:
Ты будешь мужем мне, ничейный муж,
А я впервые сделаюсь женою.
Мечту мою ты, знаю, угадал
И за окно глядишь, где месяц светел…
Но никогда ты так не поступал
И не придешь, теряя все на свете.
И тут неожиданно – как током, хоть, если признаться, и приятно: исполнение сказки! Но… поздно. И поэтому звонок проходит мимо сознания, не задевая его, поэтому Марина отвечает своему бывшему богу, как надоевшему приятелю:
– Сейчас мне некогда… И вообще вечер у меня занят.
(Что соответствует истине и тому, что Шурик сегодня в ее планы не входит). Без боли в сердце кладет трубку.
И три дня ходит под впечатлением: позвонил! Вспомнил! Не забыта!.. Но что ему надо? При чем тут дача? Видала это сооружение, друзья показывали. Но никуда она с ним не поедет! С чего он взял? Просто, видно, затмение нашло. Семнадцать лет назад – все дела бы бросила, задрожала, дыхание б остановилось: любимый позвал! А сейчас – поезд ушел, зачем что-то ворошить? Ей этого не надо. А почему надо ему? Бес – в ребро?
Через неделю Шурик снова позвонил. "Поедем на дачу". – "Не знаю. Позвони позже." А позже к ней снова завалились гости, и она, никуда ехать не собиравшаяся, на следующий его звонок отвечала уже почему-то извиняющимся тоном: "В следующий раз", – хотя никакого следующего раза быть не могло, и могла она только, мысленно, показать ему "фигу", по старинке, – от этой привычки она еще не успела избавиться.
Но он, как видно, оставлять ее так просто не хотел и был на удивление напорист и постоянен, в отличие от себя же, молодого. Оставив на время вопрос о даче, он вдруг пригласил ее в кино, да еще в кинотеатр, ближайший к его дому. "Хм… – засомневалась Марина. – Ему что, все равно, с кем его увидят в кино знакомые? (Она не знала, что его сверстники по кинотеатрам давно не ходят…) А где же жена? Уж не дома ли сидит?"
Но кино – это не дача, можно было дать согласие. И, придя почти в совершенное равновесие, Марина отправилась к кинотеатру.
Пришла она почему-то рано, с необычным и удивительным подъемом в душе – свидание! – и, увидев у входа знакомого, совсем юного мальчика, но приметно-высокого такого, проболтала с ним минут пять. И вдруг видит: идет. Ага, необходимые меры предосторожности все же приняты: на нем старый, еще той давности, тулуп, а не обычное его пальто. Да и кинотеатр – из наименее посещаемых… Подошел, неодобрительно стрельнул глазами на мальчика – Марина только хохотнула про себя: "Смотри, смотри, он тебе в сыновья годится… Впрочем, и мне, пожалуй, тоже… Тем забавнее". Мальчик откланялся, тоже неодобрительно посмотрев на дядьку в папахе, и они вошли в зал.
Картина оказалась поганой. Ну что ж. Время провели, хоть и без пользы. Все равно Марина в кино уже полгода не выбиралась – не с кем ходить, а одной лень.
Потом он чинно довел ее до дома, о чем говорили – Марина не запомнила: просто о пустяках, о детях может быть. У него две девчонки, у Марины две; он своих поминал – Марина старалась пропускать это мимо ушей; она про своих что-то говорила – но знала, что его, как любого родителя, тоже только свои дети интересуют. У крыльца ее они расстались, раскланялись, а спать Марина легла, как будто и не было ничего.
С тех пор Шурик звонил, не забывал.
Не прошло недели – снова приглашение на дачу. Отказываться было уже просто неудобно. "А что: от меня убудет? Съезжу, посмотрю. Из любопытства. Вольностей, естественно, никаких – он мужик, как помнится, не нахальный, и даже наоборот, а я сама к нему на грудь за гору золота не брошусь – ничем не заслужил. Отчего б не съездить? Развеяться хоть." Согласилась.
Вот едут. Ночь на дворе, снег блестит, а они – куда-то в лес. Одни. Марина старалась думать только о дороге – нейтрализовать сразу любые попытки воспоминаний, да память и сама осторожничала: ничего "лишнего" не выдавала. Вот Шурик, он ведет машину, они едут на дачу, а о прошлом – ни гу-гу. Все забыто начисто. Так нужно. Потому что нужно еще жить.
А сердце: тук-тук-тук… Что там, впереди? Вдруг – бросится на колени перед ней: "Любил всю жизнь, люблю, но… долг чести, не мог иначе…" Нет, это мечты. Он не таков. У него все на полунамеках. Мол, как хочешь понимай, а в случае чего и отказаться можно: "Не имел этого в виду, не так поняла…" Тогда – может, так: обнимет… Нет, объяснения не представить даже. Но полунамеков она больше не примет. Хватит. Только все начистоту, открытым текстом, так сказать.
После недолгой езды по сказочно-зимнему лесу они подъехали к даче. Дом был довольно странной архитектуры – конечно же нездешней, чтобы не так, как у других. Были на участке и баня, и теплица, и добротный бетонный колодец, а вот крыльца у дома еще не было.
– Долго ж ты строишь, – удивилась Марина.
– Двенадцать лет, – опечаловался Шурик. – Мужиков в семье нет, помогать некому.
Внутри дом, к удивлению Марины, был также не закончен, а точнее, еще не начат. Стены и печка, больше ничего. Но, по хвастливым рассказам Шурика, здесь должно быть все грандиозно: отопление, душ, камин и прочие предметы особого дачного шика, которые, по мнению Марины, требуют больше ухода за ними, чем приносят пользы, и простому человеку вовсе не нужны.
– Ну, до смерти закончишь, – обнадежила его Марина, поражаясь тому, зачем человеку, имеющему в двадцати минутах езды отсюда городское жилье, нужно строить еще дом – грандиозное сооружение, всю жизнь по крупицам стаскивая сюда добро, деньги, ни там ни сям не живя полнокровно, разрываясь и вкладывая всю жизнь свою в эту вот громадину. Зачем? Ради детей? Так ничего, напоминавшего о присутствии детей, да и хозяйки, в доме не было – видно, не очень-то они затею папеньки жалуют.
Но Шурик думал иначе и делал все не как-нибудь, а на совесть. Марина знала подобных ему людей, тоже отличающихся особой такой тщательностью, и сейчас вдруг сделала неожиданный вывод, что тщательность – это, пожалуй, первейший признак махрового обывателя. Ну что ж, Шурик, как ни прискорбно, в эту категорию входил плотно, без зазора.
В холодной избе сидеть было неинтересно. "Зачем он меня сюда притащил? Чтоб дело своей жизни показать?"
– Пойдем, покажу баню, – вдруг вскинулся Шурик.
– Ну пойдем, – Марина уже начала замерзать в его недоделанной избе.
На улице было теплее. Баня тоже оказалась добротной и, естественно, не какой-нибудь, а финской: моечной почти нет, одна парилка.
– Давай затопим, – предложил вдруг Шурик, – она моментально нагреется. Через четыре часа будет готова. Попарю тебя. И белье успеет просохнуть.
Марина только сейчас увидела на скамье в предбаннике свернутую постель. "Ах, так вот оно что, как все прекрасно здесь устроено…" Ее начал душить смех, хотя внешне это было вряд ли заметно. А на память пришла другая баня… в нескольких метрах от этой.
Пять лет назад пригласил ее за город, на дачу, бывший однокашник, а в то время – секретарь горкома комсомола, веселый, интересный парень, и хоть Марина знала, что он женат, предложение приняла – отчего ж не принять? Они старые знакомые. И собралась там к вечеру компашка… "Знакомые все лица". Мужики – все женатики, тетки – дамы… сомнительного поведения. Для Марины тоже мужичок нашелся. И оказалась она нечаянно свидетельницей и участницей борделя по-провинциальному, посмотрела, для чего местная интеллигенция дачи и бани строит… Жены с детьми по домам сидят – куда там, зима, а мужья – в полной безопасности на даче, да не одни.
Вот там и была баня. Марина к бане не готовилась – и не подозревала, что она может входить в "меню" (наивно полагала, что песнями под гитару будут развлекаться). Но потом, после всеобщих уговоров, согласилась: почему бы и нет? Уж приехала – так хлебай все до конца.
"Баня" началась с предбанника, специально приспособленного для такого рода мероприятий: лавки, посредине стол, участники и участницы сидят за ним в одних простынях. Как поняла Марина, ее, "новенькой", стеснялись, а то б сидели вообще без оных. На столе – напитки различной градусности. И мужички – в качестве банщиков: парят теток в парилке. Как там "парили" прочих, Марина не видела, но сама приняла все за чистую монету и, когда пришел ее черед, скинула в моечной простыню и гордо вошла в парилку – тела своего она уже, как прежде, не стеснялась, знала, что хороша: пусть смотрят да облизываются – не жалко. Разлеглась на полке, в жару-пару. Следом мужичок с веником заскакивает – тоже, естественно, в чем мать родила. Членишко, как нос у комара, хоть в сторону и загибается, но кое-как топорщится – приятно значит. "Ну смотри, смотри, раз тебе такое счастье выпало", – думает-хохочет Марина, сама с боку на бок поворачивается, знай бока под веник подставляет. Утешила мужичка. Выхлестался. Умаялся. Марина из парилки победительницей вышла, кинув его без сил на поле брани.
Вот такую баню предлагал ей сейчас Шурик. С продолжением. Чтоб быть таким же, как друзья-интеллигенты. Поднаторел, видно, уже в этом. Ну так нет же!
А Шурик уже дровишки мечет в топку.
– Не топи, не надо, – предупреждает Марина, да где там, разошелся уже, во всем уверен – привык к покорности. "Ну мечи, мечи", – отступилась Марина.
В избу холодную вернулись, кофе сварили, за жизнь побеседовали. До объятий дело не доходило – отвыкли друг от друга; Марина держалась отчужденно, следуя пословице "Сука не захочет – кобель не вскочит", а Шурик то ли робел, то ли не считал нужным. Раза два он бегал в баню подкидывать дрова. Марина посмеивалась. Наконец поднялась:
– Ну ладно, пора и домой отправляться, холодно тут у тебя.
– Так пойдем в баню, там уже жарко! – взмолился Шурик.
– В другой раз.
Сорвалось – пришлось ему идти заливать огонь.
Вернулся. Собрались, вышли на улицу. Марина глаза подняла: "Батюшки!" – красное зарево висит над головой, в черном небе, прямо над крышей. По всему видно, что северное сияние, но почему-то багрового цвета. Да такого, что все небо как кровью залито, а прямо над ними – самый центр купола. Марина остолбенела – не может оторвать глаз от выси. Никогда не видела она такого цвета сияния. Да и никто, знать, не видел. Страшно стало: предзнаменование это, ясно! Только чего? Видно, предупреждение: нечего тебе тут, девка, делать, уйди ты от греха, уйди, пока хуже не стало!
В машину сели, и, пока по лесу ехали, все кровавый водопад перед машиной стекал с небес.
У дома Шурик поблагодарил ее за вечер, Марина схохмила: "Приходите еще", – а про себя: "Немного и скушал!"
Ах, пошляк, пошляк, пополюбовничать ему захотелось, да и нашел, с кем… Душу снова ей изгадил. Она-то всякого ожидала. Но предложение Шурика "попариться" перечеркнуло все ее догадки о "вспыхнувшей вдруг любви", вообще о чем-то возвышенно-романтическом. Да и то – чего она ждала: он человек женатый, семейный, решил с жиру побеситься, пока жена в Сочи, а Марина – холостая-незамужняя, как раз подходит для его потребностей, вот и пользуется подобным спросом…
…Сколько ж она мук тогда, в молодости, через него приняла, и сколько позора… Любила – как дышала; любви своей безграничной скрывать не умела – молода была, непосредственна, все чувства на лице написаны; "друзья-подружки" смеялись над ней в открытую – она ничего не замечала, кроме него и его отношения к ней. И он пользовался этим: то подпустит-обнадежит, то оттолкнет, стряхнет ее, как репей, – забавно, что ли, было? И вдруг – эта женщина… Умно залучила, повисла на нем, ребенка от него родила – терять-то нечего; опытно сыграла на его отцовских чувствах: три года его этим ребенком заманивала, спекулировала им, ни на день не давала забывать о нем, о себе… Выклянчила. Женился. Все правильно. Таким и должен быть исход. А Марина года через три любовью переболела… кажется. Не до конца, но помогло то, что почти сразу она поняла, что любовь зла и полюбила она "козла", и что судьба, да и пути, у них разные.
Но, видно, мало он ее кровушки попил – снова захотелось. Знает ведь, что любила до умопомрачения; сама ему в этом признавалась – не до гордости было. А он утешал: "Ты еще свое счастье найдешь, молодая…" Марина же плакала и мотала головой – для кого угодно это было верно, только не для нее: она знала, что никого уже, никого не полюбит. И не полюбила. Ну что ж. Это ее судьба. А Шурик, если только переживет всю ее жизнь вместе с одной, из своих дочерей, может, ее и поймет…
***
Неделю Шурик не звонил – жена вернулась, наверно. Перед Новым годом неожиданно поздравил – она про него уж и забыла. На другой день снова позвонил – с улицы:
– Я тут… недалеко от твоего дома…
Деликатный намек. "Э-э, нет, на приглашение не рассчитывай. Никогда", – мысленно парировала Марина. Да и ни к чему ему нищету ее показывать, это слишком унизительно…
– Своих отправляю завтра в Ленинград.
– Всех, что ли?
– Всех. Расскажешь мне вечером, как встретила Новый год?
– Где же, каким образом?
– У меня.
"Ясно. Не терпится мужичку. Не мытьем дак катаньем хочет меня укатать. Не знала, что он такой упорный. Хотя, если вспомнить те времена, – то точно так же упорен был, когда ускользал от меня, не давался никак. Сидел под своим колпаком и ни разу оттуда не высунулся, как я ни изводилась. Ни разу до него живого, настоящего не докопалась – неприступен был. А сейчас что ему надо? Решил погулять (хотя и седины-то еще нет, скорее, лысина), думает, что я для него – готовая любовница? Конечно, тогда эта зрелая баба могла доказать ему, что он уже мужик, а я, девчонка, могла его только любить… Теперь роли поменялись: какой с пенсионерки спрос… А я, значит, призвана доказать ему, что он еще на что-то годен? Ну уж дудки. Думает, только поманит – побегу и за счастье сочту: облагодетельствовал Шурик? Плохо же он узнал меня за те годы, да и не пытался. Но… посмотрим".
А ночью, первоянварской ветреной ночью ей приснился вдруг сон: лежит будто бы она у себя дома, почему-то на полу, и приходит к ней Шурик. Она явственно видит, как он ступает своими черными начищенными туфлями у нее перед носом, но она не пытается изменить положения, он тоже, так они и продолжают оставаться: ее нос и носы его ботинок на одном уровне. "Сволочь, он-то этого не замечает", – думает про себя Марина, но как-то беззлобно, хотя и чувствует себя рядом с ним, как всегда, в униженном положении. Он наклоняется к ней и говорит, зачем пришел: "Я плачу женщинам по-разному." ("Значит, покупать меня пришел, проституткой решил меня сделать…") Больше всех – тем, кто еще не рожал детей, меньше – тем, кто рожал одного, кто двоих – еще меньше. ("Рублей двести-сто пятьдесят", – прикидывает Марина, забыв, что она-то рожала двоих детей, и ей-то перепадет гораздо меньше.) По пятницам и по субботам", – продолжает выкладывать условия Шурик. "Я могу чаще!" – вставляет Марина, не отрывая свой нос от пола, и это вырывается помимо ее желания, так как всем своим естеством она против такого предложения, но возможность почти "за так" получить хоть какие-то деньги, чтобы рассчитаться с проклятыми долгами, заставляет ее рот, помимо сознания, произнести эти слова. "Я не могу", – останавливает ее Шурик, и она усмехается: "Ох, да ведь его треть ждет его в своем тереме… А почему треть, – спохватывается она, – а не половина? Да потому, что – он, я и она…" На этом подсчете она просыпается и, находясь еще под властью сна, жалеет о тех двухстах, а если умножить на два – четырехстах рублях, которые были только во сне, и сговорчивой она была во сне, и Шурик был богатым только во сне – откуда у него деньги-то: две дочки растут; дача, машина съедают все… Эх, сон, сон!..
Вечером он педантично звонит и заезжает за Мариной. Она садится в машину и с волнением проезжает тот квартал, который разделяет их дома. Он тоже волнуется – знакомо вытягивает шею и напрягает желваки; так же вез и на дачу. Вместе они идут в подъезд. "Как он ничего не боится? Соседи ведь", – ей это не совсем понятно (а чего тут не понимать: просто надо быть циником), но она тоже ничего не боится, пусть даже эта баба, его жена, встретит их в дверях квартиры: она ее и не заметит, а плюнет ей на хвост, потому что эта стерва исковеркала ей всю жизнь, отняла любовь; Марина потом исковеркала жизнь еще одному человеку, а вот себе эта ведьма недостойными спекулянтскими методами обеспечила двадцать лет безбедной, полнокровной жизни – ведь Шурик-то сам не был ничем особенным, во всяком случае для нее, это папа Шурика был значительным лицом в городе, и поэтому у нее теперь все о’кей, все в жизни сладилось. Марина ненавидела с тех пор этих подзаборных, нищих ленинградок, умеющих не выпускать, зубами вырывать себе теплое место в жизни, ни перед чем не останавливающихся. Все они для нее с тех пор были одинаковыми. Но сейчас она идет взять свое, и наплевать ей на страдания этой пенсионерки – пусть-ка посторонится!
Но в квартире было пусто, Марина разделась, как в старые, не совсем добрые времена. Она знала, что и сейчас не на добро пришла сюда. Но характер ее уж таков – идти до конца…
Шурик подал ей тапочки. Да, раньше-то здесь не такие водились: меховые, нарядные, а нынче и "старушечьи" годятся. "Экономия, жесткая экономия на мелочах", – поняла Марина. У ее-то дочек тапочки получше, точно, будут… Правда, дачи у них нет. Она всунула ноги в тапочки и зашлепала вслед за Шуриком по коридору.
– Иди на кухню, держи фартук, – Шурик попытался сделать ее "хозяйкой на вечер".
– Нет уж, хозяйничайте на вашей кухне сами, я только мешать буду, – самоустранилась Марина. Не нравилось ей это панибратство. Она здесь гостья, и все.
– Тогда готовь стол.
– Мгм. – Марина уселась на диван, осмотрелась.
Да, богатство "не блещет", как ни странно: поистаскался, пообносился Шурик, все на дачу несет, видать. Телевизор старой марки, самой первой, наверно; мебель – глаза бы не смотрели, посуда в серванте стеклянная, коврика на полу даже истертого нет. "А на даче мечтает пианино поставить, – вспомнила вдруг планы Шурика Марина. – Ну правильно, там-то они друг перед другом и выкобениваются. Жену любимую и то одеть не может, – вспомнила Марина "ведьму", которую иногда встречала на улице. – Да, пожалуй, больше десяти рублей Шурик заплатить не сможет… если б захотел платить", – усмехнулась она, припомнив свой сон.
Шурик тем временем метал на стол: бутылочку – какое-то марочное, закуску – консервы, разносолы (жена, видать, только что привезла, что ж не похвастаться, у других сейчас и консервов нет – взять негде: все распределяется по карточкам, как в войну).
– Ну, за встречу, – радостный, предвкушающий, сел за стол, поднял стопку. "Ну-ну", – смеялась глазами Марина.
Ну, о чем Шурику говорить – обо всем: о работе, о детях; тут прихвастнуть, там подучить – только не о главном. Когда ж о главном? Марина сидит глупой куклой, непонимающей, кивает, винцо попивает. Ага, вот оно:
– Ванну не хочешь принять?
Марина становится еще глупее:
– А зачем?
– Я тебе халат принесу, будешь как дома.
"Не выйдет", – Марина снова "показывает фигу".
– Я и так как дома.
Шурик скуксился:
– Так будет еще лучше…
Следующий заход:
– Кактусы любишь? В спальне можешь посмотреть.
Марина – все равно не отделаться – тащится в спальню. До конца так до конца. Широкая кровать посреди комнаты. Кактусы на окне. Подходит, смотрит. Он – сзади: спереди, конечно, боязно, в глаза придется смотреть. Обхватывает руками, поворачивает, подбрасывает на руки, опускается на кровать: она у него на коленях. Целует. Знакомо… до боли. Марина тает… только на минутку. Дольше нельзя – забьет дрожь, что дальше будет – не предсказать. Он заваливает ее на подушки, она упрямо поднимается. "Вот так. Без слов. Без просьб. Считает, что похода в киношку и ужина для такой, как я, достаточно. Достаточно пальцем поманить – прибегу, брошусь в объятия. Не знает, дурачок, что он мне нужен. Ни в каком виде. Раньше был нужен. Для жизни. Для семьи. Для любви. А сейчас… Хороша ложка к обеду."
Марина села на кровати.
– Мариночка… – Шурик уткнулся в подушку.
Должен, вообще-то, как-то не так: гордо встать, отряхнуться, снова пригласить к столу… А вдруг сейчас скажет: "Мариночка, а ты можешь мне родить сына?.." "А что, запросто, – размечталась Марина, – старая не может, а о сыне он всегда мечтал. Да уж и я не молодая, тридцать семь скоро, и на этот подвиг не пойду. Ишь, чего захотелось – тайной семьи: изредка навещать, скрываться, щекотать себе нервы, – все как в юности, когда бегал от родителей к разведенке, далеко не юной, а от нее – ко мне? Молодости захотелось? Острых ощущений? Кандидатура – вот она, рядом лежит, и обрабатывать не надо – двадцатый год знака дожидается?.." И в то же время Марине вдруг в самом деле до слез захотелось пожалеть этого оборотня: с виду сильного, неприступного мужчину, а на самом деле комплексующего мальчика, родить ему сына и… Он тут с благополучной семьей, а она – там, в нищете, с его сыном? Утешение! А может, он решил развестись со своей благоверной?.. Куда там, а дети – он же порядочный… среди порядочных, а с "людьми из народа", вроде нее, можно и попроще. "Не люблю", – вспомнила вдруг Марина его насмешливый ответ – тогда – на свой выстраданный вопрос… "Нет, нет, эти уловки – песни про ребеночка – хороши для молодого мальчика. Этот не запоет", – очнулась Марина от желанных, еще в юности, фантазий.
Она встала, вернулась в комнату, присела к столу – дожидаться конца спектакля. Он – следом. Все тот же. Прежний. Ни следа уныния. Хорошо играет. Высоко подняв брови: "Станцуем?" Ищет музычку. Приятная, старая… Подает ей руку. Она идет навстречу, танцует на "пионерском" расстоянии, его рука напрягается, но ее сопротивления не преодолеть; сам весь вибрирует… "Расслабься", – недоволен, а у нее только спина напряжена и руки, а ноги просто подгибаются от слабости, она не попадает в его путаный такт, противно шлепает тапочками по полу при каждом шаге, наступает ему на ноги… Все-таки он продолжает на нее действовать как удав на кролика: в его присутствии на нее вдруг наваливается одеревенение. Смеется, шутит, ходит, рассуждает, а сама как сомнамбула – нервная система ее сама затормаживается, чтобы оберегать от его влияния: ест она – и не чувствует вкуса, не насыщается, смотрит – и не видит, слушает – и не запоминает. Как будто отсутствует, только мысль настороже. И все равно прорывается через эту блокаду страдание – то, закоренелое, та давняя обида. Да и то – как она тогда, в те годы, умом не тронулась, до сих пор удивляется. Три года ежедневно, ежечасно думать об одном и том же, не прожить, а выстрадать каждый миг… Видно, организм ее был очень крепкий, особенно голова – не сорвалась, выжила: А сейчас – зачем ей это страдание?
– Ну что ты вздыхаешь? Несчастная, что ли? – заметил Шурик.
"Ах, так вот что тебя беспокоит… Знает кошка…" – Марина усмехнулась. Пять лет назад при встрече она уже спокойно могла сказать ему: "Я любила тебя. Но ты как черная кошка мне дорогу перебежал – вся жизнь наперекосяк пошла". Помнит, видно, эти слова, убедиться хочет, что у меня сейчас все хорошо, чтобы камень с души столкнуть. Кабы я замужем была, пристроена – и ему печали никакой. Ну что ж, утешим…"
– Нет, почему, я не могу сказать, что я несчастна, скорее, наоборот.
– Ну вот, – вздохнул облегченно, – ты и не можешь быть несчастна: у тебя две здоровые дочери, родители есть, чего еще желать?