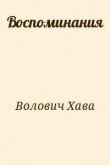Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Сила слова
Мария провожала дочку в школу. Обычно она подсаживала ее в переполненный, битком набитый автобус, если там было хоть немного места, помогала ей утрамбоваться, а потом закрыться дверям автобуса. Иногда приходилось пропускать два, три, а то и четыре автобуса подряд: иной из них и дверей не открывал – так был переполнен, а в иной, хоть он и открывался остановившись, втиснуться было просто невозможно.
Катюшка после очередной неудачной попытки уехать отошла к киоску – посмотреть на открытки и всякую всячину, которая продавалась там и была разложена и расставлена на прилавке вдоль окошек. Марие ожидание казалось бесконечным.
"Что-то сегодня автобусы совсем пропали, может, опять забастовка?" – Мария оглянулась на дочку и увидела, как к ней подбегает огромная черная собака – их почему-то люди называют "водолазами" (такая прыгни в водоем, так он из берегов выплеснется!). Собака с разбегу наскочила на Катюшку, толкнув ее в грудь лапами, и та не удержалась – руки у нее были засунуты в карманы пальто, а тяжелый ранец за плечами тянул назад, – сразу упала на спину. Чудовище встало над ней всеми своими четырьмя лапами и тут же задергалось в своей вечной собачьей похоти… Мария ужаснулась: откуда взялся на тротуаре этот дьявол, почему он без поводка, без намордника и разгуливает один? Она бросилась на помощь дочери и с разбегу толкнула похотливого кобеля в черный бок, но тут же с ужасом поняла, что собака даже не покачнулась… Столкнувшись с псом, Мария упала на колени и замолотила кулаками в его косматый ненавистный бок… Пес нехотя переступил лапами лежащего ребенка и отошел в сторону. Мария увидела, что Катюшка лежит, все так же засунув руки в карманы, и, пытаясь приподняться с тяжелым ранцем, смеется.
– О Господи, Катюшка, вставай, чего ты разлеглась, – обиделась на нее Мария. Оказывается, для ее дочери, которая с любой собакой, как-то очень по-свойски быстро, находит язык, это было просто игрой, забавным происшествием! Даже телодвижения собаки она прекрасно поняла и потешалась сейчас над этим.
– Что, смешно, да? А если б она тебя зубами тяпнула? – сердито выговаривала Катюшке Мария. – Ведь я с ней и справиться не могла, с таким теленком… Весу-то больше, чем во мне. И народ идет рядом, хоть бы кто-нибудь оглянулся, помог… – говорила она неизвестно кому, так просто, с досады и испуга. О том, что псина могла тяпнуть и ее, за такое бесцеремонное с ней обращение, она просто не думала. – Хорошо, хоть псина сама отошла… Иди давай, – подтолкнула она Катюшку к остановке, – и не трогайся больше с места!
Они подошли к бровке тротуара и принялись поглядывать в сторону перекрестка, откуда должен был появиться автобус. Их остановка была последней перед заводом, куда и стремилась основная масса пассажиров. Дальше, после следующей остановки, автобус шел полупустой – через мост, на остров, где, в отдаленном его конце, у самого моря, находилась Катюшкина гимназия – единственная в городе с "художественным уклоном", ради чего Катюшка туда и ездила: училась там лепить и рисовать, а заодно постигала и остальные науки. Не удивительно, что их остановку автобусы часто проскакивали: до завода отсюда можно было пешком дойти. Но Марию и Катюшку это никак не устраивало: им-то надо было на остров!
Наконец автобус тяжело вывалил из-за угла и, остановившись, открыл двери. Из его чрева выдрались, отрывая пуговицы, несколько человек, и Мария приготовилась на освободившееся место быстренько втолкнуть Катюшку. Но тут кто-то энергично отжал ее в сторону, и все свободное место заполнил собой детина в толстой куртке защитного цвета. Мария задохнулась от неожиданности и наглости парня и, поняв, что остается ни с чем, вцепилась в эту куртку и принялась тащить малого из автобуса, тем паче что он все равно не помещался, и двери никак не закрывались.
– Ах, ты, гад, ребенка отталкивать? – завопила Мария. – Ты откуда взялся? Мы уже три автобуса пропустили, а ты, наглец, сходу вперся, выходи сейчас же!
Мужик махнул рукой сзади, отбивая руки Марии в сторону, но она снова вцепилась в зеленую полу и продолжала тащить его из автобуса.
– До завода тебе пять минут ходу, а нам до конечной надо, из-за тебя ребенок в школу опоздает, пусти его сейчас же!
Но мужик, решив отделаться от назойливой бабы, наугад лягнул ее ногой в тяжеленном кирзовом ботинке, и попал Марии прямо в грудь. Охнув от боли, она откачнулась, недоуменно посмотрела на парня и… сорвавшись чуть ли не на визг, разразилась ругательствами:
– Ах, ты… – дальше следовали нецензурные, обидные эпитеты, – пинаться, долбоеб несчастный, дубина стоеросовая, ты еще пинаться?!
Мужик ошалело посмотрел на бабу, которая, получив ботинком, никак не хотела убираться, а он никак не мог втиснуться поглубже в автобус, водитель из-за этого не мог закрыть дверей и чего-то ждал, а пассажиры автобуса внимательно слушали ругань Марии и, казалось, не дышали. Мария тоже заметила, что автобус чего-то ждет и дверей закрывать не собирается… И в этой странной, вынужденной паузе, прервавшей всеобщую суету и спешку, она произнесла страшное, рожденное бессилием и идущее из глубины души пожелание:
– Пинаться, значит? Это тебе так не пройдет… – Мария ярко представила цех, в котором, наверняка, трудится парень, – все цехи на их заводе как-то похожи один на другой, с их железным лязгом, козловыми кранами, тяжелыми грузами. – Пинаться? Так знай: сегодня же ты получишь за свой поступок в лоб – да, именно в лоб, – да так, что на всю жизнь запомнишь это!.. – она погрозила ему рукой.
Видимо, слова были сказаны с такой силой, что парень испугался:
– Ты что, дура, чего говоришь-то? Чего я такого сделал?
– А вот то и сделал, говнюк. Поймешь, когда сам получишь!
Мария увидела испуганные, удивленные лица людей, глазевших на нее сверху вниз из автобуса, и отошла, все еще негодуя, от дверей. Кое-как закрывшись, автобус тронулся и пополз дальше.
В следующий автобус Мария Катюшку затолкнула. Маленькая, с огромным ранцем, скрючившись на первой ступеньке под задницами взрослых пассажиров, гроздьями висевших в дверях, уже опаздывая в школу, Катюшка уехала, прижавшись губами к дверной щели, – авось да до следующей остановки не задохнется, и ее не расплющат, хотя именно на нее навалится вся людская масса, когда автобус будет делать правый поворот на площади…
С больным сердцем, полностью разбитая, Мария пошла назад, домой. Она только молила Бога, чтобы ребенок как-то выдержал напор людей до следующей остановки. Там, у завода, все выйдут, и дальше будет легче, можно будет даже сесть… Но на урок Катюшка все равно уже опоздала.
Она поднялась на свой этаж, все еще физически ощущая себя на месте дочери, зажатой чужими задами в автобусе, и тут вспомнила про парня, которому она сегодня открыто, не скрываясь, пожелала зла. Она, которая и мысленно людям зла никогда не желала. Бывало, боролась с негодяями, сволочными людишками, но зла желать, а тем паче смерти?.. "Господи, зачем я его так? – ужаснулась Мария. – Фу, как нехорошо… Как же я так – человеку проклятье послала, да еще при всех, да еще вслух? Стыд-то какой… Дикость!"
Удар каблуком в грудь она уже забыла – боль от него притупилась. Не сильно трогало ее и то, что она принародно разразилась матерной бранью, – кого сейчас этим удивишь… Но то, что она пожелала человеку несчастья, вдруг, сразу начало мучить ее. Ей даже стало жаль парня: а вдруг ее проклятье сбудется? Да она точно знала, что сбудется, и он в самом деле получит сегодня "в рог" – иначе бы и желать не стала. Но разве она хотела этого?
Мария бросилась на неубранную еще постель и застонала от раскаяния сквозь зубы: сделанного уже не вернешь… Зачем она выкрикнула это ему, зачем? Ведь в жизни своей она уже успела убедиться, как действует простое слово, да даже одна только мысль! Они – МАТЕРИАЛЬНЫ. Стоит пожелать человеку зла – и оно сбывается, но тут же, и точно так же, возвращается к тебе назад. Даже – если пожелать зла косвенно: стоит кого-то высмеять, осудить (пусть даже справедливо) – все те же самые слова вернутся к тебе, хотя, может быть, и не сразу. А обычная поговорка Марьиной матери "Позади пойдешь – все подберешь" действует в жизни как закон сохранения энергии: все зло, все поступки, сотворенные тобой, к тебе же потом и возвращаются. Может быть, добро тоже, но зло как-то более заметно, лучше запоминается… А уж если кому-то в сердцах, да вслух, недоброго пожелаешь – считай, что подписала человеку приговор: сбудется, стопроцентно сбудется!
Поэтому Мария и терзалась сейчас своим ужасным поступком: зачем, зачем она пожелала парню уродства? Кто ей это позволил? Добро бы не знала она этого закона жизни, а то ведь ЗНАЕТ! С полным, так сказать, сознанием решила парня словом наказать. И ведь – накажет!.. И она снова и снова казнила себя и жалела детину. Ей было так тяжело, так она сожалела о содеянном ужасном поступке, что ощущала страдание физически: тело ломало, крушило совестью, давило раскаянием, как жерновами. Зачем, зачем, зачем она это сделала? Как осмелилась, и кто уполномочивал ее наказывать людей, призывать на их голову кару? Тем более, Мария, к ужасу своему, сознавала: тяжесть желаемой ею кары превышает тяжесть проступка парня! Но она не сдержалась. Как она могла?!
В неотвратимости наказания Мария была уверена. И очень жалела о содеянном ею и стыдилась своего поступка. Но то, что ее сейчас ломало, физически коробило совестью, было на пользу парню, она это знала. Почему-то была уверена. И это ее немного успокаивало. Она чистосердечно раскаялась, чистосердечно сожалела – и, конечно, немного смягчила наказание незнакомцу. А если смотреть глубже – то и себе…
***
Через пару недель, когда Мария, как всегда по утрам, снова стояла с Катюшкой на пустынной остановке, ее кто-то толкнул в бок – так сильно, что она шмякнулась на обледенелый асфальт и больно ударилась локтем, бедром, да к тому же сильно стряхнула мозги. Она приподнялась на локте, морщась от боли в голове, и оглянулась на неожиданный тайфун, так злобно подбросивший и уронивший ее. Взгляд ее уперся в кирзовые ботинки огромного размера, серые неглаженые брюки и защитного цвета теплую куртку. Ботинки она узнала сразу, хоть и видела их только со стороны подошвы. Она вопросительно взглянула в лицо обидчика и оторопела: девственный когда-то лоб парня украшал свежий, хотя уже и подсохший шрам с рваными, неровными краями, который зацепил слегка и переносицу – создавалось впечатление, как будто точно таким же, рваным, после газовой резки, краем железного листа парню чиркнули снизу вверх (или сверху вниз?) по физиономии…
– Ты… ты… – процедил он, глядя сверху на Марию, но так и не смог ничего сказать. Глаза его вдруг стали наполняться ужасом, челюсть отвисла… Мария с изумлением смотрела на него снизу и наконец принялась подниматься, опираясь на руку.
– Ты чего, – сказала она, не зная, сердиться ей на верзилу за то, что он исподтишка толкнул ее, или изумляться дальше. Жалости к парню, хоть она и увидела результат своего проклятья, у нее не было – одно сплошное изумление истинностью произошедшего. Она сделала было к нему шаг и открыла рот, но парень вдруг попятился от нее и, с каким-то низким, нечленораздельным мычанием, переходящим в сдавленный крик, рванул в сторону.
– Постой, да чего ты, не сержусь я, – крикнула ему вслед Мария, но парень, на ходу оглянувшись – глаза его готовы были выскочить из орбит, – исчез между домами во дворе.
"Чудак, – удивилась Мария, – чего это он?" – и изумленно покачала головой. Кряхтя после падения, она притянула Катюшку к себе, крепко взяв ее за воротник пальтишка, и на минуту забыла о парне: из-за поворота вываливал очередной, третий на сегодня, тяжело груженный рейсовый автобус. Но на душе ее творилось непонятное…
1996
Свершение
Из областного центра в адрес любительского литературного объединения города С. пришло известие: в октябре будет совещание молодых литераторов, приуроченное к юбилею местной писательской организации. Приедут московские светила, выпестованные когда-то в этих же краях, – попить винца на юбилее, а заодно провести семинары по учебе местной молодой поэтической и прозаической поросли, да, может быть, кого-то отметить и кого-то даже рекомендовать в Союз писателей! Дело немаловажное, ответственное, а для молодых – волнительное.
Полина, в свои сорок лет, тоже относилась к молодой, начинающей поросли – во всяком случае, на совещание приглашали всех, кто не достиг сорока пяти, а она в это число попадала. Да и вся "поросль", разбросанная по всем районам области, состояла из подобных Полине: всем перевалило за тридцать, многим подгребало к пятидесяти, совсем юных (до двадцати лет) были единицы, а были и такие "начинающие", которым было за шестьдесят. И все они, тормознутые перестройкой (все существовавшие когда-то, устоявшиеся порядки сразу нарушились, а издательства развалились), не имея абсолютно никаких перспектив стать настоящими, признанными всеми (особенно своими читателями) писателями, все равно творили, кропали стишки и рассказы, складывая их безысходно в столы, в свои долгие ящики. Надеяться, в части публикаций, было не на что: в перестроечной суете про писателей и поэтов из провинций все забыли. Издать книжонку стихов теперь можно было только за свои деньги, а, как известно, богатые предприниматели стихов не читают и не пишут, те же, кто пишет, за свою жизнь не сделали карьеры и не скопили ничего – у них были другие ценности.
Так и Полина носилась со своими "ценностями", нужными ей одной, да еще нескольким, ей подобным. И она тоже почему-то надеялась, что ее творения в забвение не уйдут, кропотливые усилия получат признание; но это, как, видимо, она считала, произойдет еще очень не скоро, лет так через десять-пятнадцать, судя по замедлившимся темпам писательской жизни. Но что произойдет непременно, в этом она была уверена. Поэтому она собиралась на совещание в областной центр, в общем-то, с легкой душой – в основном для того, чтобы познакомиться с литераторами области, с которыми последний раз, на таком же совещании, она встречалась восемь лет назад. С тех пор, конечно, многое изменилось: кто-то из тонко организованных творцов, не выдержав такого невнимания к себе, спекся, оставил творчество, нашел себе иные занятия и ценности, а кто-то, наоборот, стал писать, заработал еще активнее и влился, вырвавшись из неизвестности, в ряды местных "молодых" литераторов. Интересно Полине было взглянуть и на светила из столицы, бывших провинциалов, послушать их, да и остальных.
С Полиной вместе, и с теми же мыслями, ехала вся их городская когорта – человек двадцать, а то и больше, – "начинающих"; событие было немаловажное, редкое, как же пропустить, не потусоваться с себе подобными! И каждый из двадцати надеялся на чудо – признание: а вдруг его, именно его талант оценят!..
Как всегда, прибывшие отовсюду в областной центр участники разделились на два семинара: прозы и поэзии. Поэтов понаехало несметное множество: более пятидесяти человек! А в семинаре прозы, где оказалась и Полина со своей рукописью, их было всего двенадцать – проза дело тяжелое, времени и труда требует, а не только состояния души и клочка бумаги под рукой. Светила были шокированы таким скоплением пишущих в области: в их времена поэтов были единицы. Но на совещание прибыли еще не все: из отдаленных районов, откуда "только самолетом можно долететь", не прилетели лучшие силы – по причине дороговизны новых билетов. Руководителю семинара прозы было полегче, но и он кряхтел под тяжестью и заумностью некоторых объемистых рукописей романов молодых прозаиков.
На такой напор не всегда качественной местной писанины светила тоже под конец ответили дружным залпом: критика, хотя и объективная, сыпалась на головы бедных поэтов, как горох (или, скорее, как свинцовая дробь), новомодные изыски молодежи, вроде: "Их грифый клювель, наглиненный слюном…" – или: "Флажолетом цвел над флердоранжем, пил портвейн в ждакузи и биде…" – остались вообще непонятыми, новоиспеченные и изданные на свои деньги книжки разносились в пух и прах, хотя и не все: редкие получили одобрение. Особенно семидесятилетний критик из Москвы почему-то благоволил к девушкам, пишущим эротические стихи. Обладательница одной такой книги и была тут же рекомендована им в Союз писателей…
С прозой дела обстояли еще хуже. Ведший семинар прозы поэт отмел все, представленное начинающими прозаиками, похвалив лишь одну книжку талантливого мистика и несколько рассказов Полины. Собственно, Полина этого ждала, хотя вкус поэта, судя по тем рассказам, которые он у нее отметил, ее слегка удивил – его оценки несколько расходились с общепринятыми, были более искренними, не отягощенными конъюнктурными соображениями, несмотря на преклонный возраст поэта. Полина, критикуемая уже не раз и не два – то людьми умными, понятливыми, то судящими поверхностно, а то и вовсе ничего в ее рассказах не понявшими, – приучилась сама оценивать сочинения объективно, ничуть не превышая достоинства и значимости своих творений, но и не занижая их. Она знала, что "материал" у нее "есть", и, не услышав никакого напутственного слова от московского поэта, слегка расстроилась, но потом решила, что результаты семинара, видимо, будут обсуждаться писателями и оглашаться для всех позже – в торжественной обстановке, ведь предстоит еще грандиозная пьянка по поводу юбилея областной писательской организации. Правда, у писателей она будет проходить в ресторане и за казенный счет, а у начинающих литераторов – в общежитских шхерах, куда всех приезжих на время совещания заселили.
Там-то они, молодые (во всяком случае моложавые), наконец оторвутся! Правда, денег не было (Полина на второй день совещания уже голодала, так как деньги кончились) – на закуску. Но на водку они, конечно, найдутся.
***
Писатели, в предвкушении застолья, подвести черту под семинаром молодых впопыхах забыли. Молодые, простив им это, засели в общаге. Сдвинув столы в одной из комнатух, придвинув друг к другу кровати, поэты и прозаики плотно уселись рядышком. Полина, как бы случайно, оказалась между двумя красавцами – поэтом и прозаиком – с юга области; она не возражала. Да и ей ли быть в печали? После отъезда дочери на учебу в другой город она стала одинокой и совершенно свободной. Женщина в полном соку… А полжизни прочахла над бумагой и машинкой. Не часто приходилось ей отрываться, да еще с себе подобными – народом ее же племени! Она развеселилась, настроение резко подпрыгнуло: эх-ма! Наливай, ребятки, наливай! (Щипок, от возбуждения, одному соседу, щипок другому: давайте знакомиться!)
А напротив – специально уселся – злобно и в упор, с осуждением смотрит Кирюшка. Полина беспечна: "Не смотри, Кирюшка, я не твоя, уже не твоя, не пяль глаза!"
Но Кирюшка, взяв на себя такую наглость, смотрел не отрываясь. С ненавистью. "Да что он себе такое воображает? – замечала его взгляд Полина. – Что было – то давно прошло, быльем поросло. Забыто!" Как поэт он для Полины еще существовал, но как человек – уже нет: умер. Было, Полина даже любила его – симпатичного, молодого, на четырнадцать лет моложе ее, талантливого; как влюбилась, и сама не поняла. То ли на безрыбьи, то ли от одиночества, то ли за талант полюбила, а может и приглянулся чем, только скоро Полина поняла, что Кирюшка просто использует ее для своих надобностей. Дура-ак!.. Она-то не этого хотела и загадывала о большем, но… Пришлось вырвать его из сердца. Да и дикий он какой-то, даром что с татарской кровь смешана, хоть он и утверждает, что "самый русский" из всех здесь. Русский, только глаз узкий… От русских мужиков, Полина знала, так не пахнет: то ли прокисшей колбасой, то ли пареными грибами вперемешку с такой же репой. Козлиный запашок… Обхватишь, бывало, его, распарившегося, за голову, а от волос… Запах лучше любого паспорта национальность удостоверяет. И коварство у Кирюшки чисто восточное.
…Объявились как-то в их городе, как с Луны свалились, две поэтессы из Питера – интересные, талантливые, любительницы интриг, – и решили они болотце провинциальное взбаламутить, всех городских литераторов под свою гребенку причесать, каждому сверчку свой шесток определить. И получилось у них, что они двое – признанные уже гении, а остальные все – так, серость. Одна Полина в их теории усомнилась, обнаружив в "гениальных" стихах одной из поэтесс полное отсутствие и чувства, и мысли – лишь одно словоблудие, но – красивое словоблудие; и… поплатилась непримиримой войной со стороны двух генийш, в интригах весьма преуспевших (не то что северные простофили), которые не на шутку решили ее извести, "стереть с лица земли", как ей передали доброхоты. Войну они повели умело: стали разлагать окружение Полины, ее подруг и единомышленников в сторону оттирать, чтобы одну ее уже мизинцем додавить. В их число и Кирюшка попал – быстро хитрые бестии вычислили, что он к ней в гости не зря так часто ходит. Одного не учли: не было у Полины никаких подружек, давно она была уже жизнью научена и в дружбу не верила – ни между двумя бабами, ни, тем более, между творческими личностями. Но предательство единомышленников, начавших заискивать перед столичными поэтессами (кредо которых было одно: крах всего, к чему они прикасались), а тем более Кирюшки (с ним Полина хоть и давненько оборвала всякие отношения, но он постоянно продолжал клясться ей в любви), который вскоре стал всюду таскаться за поэтессами, а Полину при каждом удобном случае, в угоду им, "клеймить позором", – больно ударило. Именно предательство, разочарование в людях, которые, как флюгеры, так легко меняли свои пристрастия. Да и были ли они у них?
Жгла Полину и гнусная ложь, которую гениальные интриганки направо и налево разносили о ней, доподлинно зная: хоть и ложь, а слушок все равно останется, сомнение зародится. Недаром говорят, что злые языки страшнее пистолета. Но Полина, страдая от такой ненависти, знала: к ней их грязь не пристанет, а разойдется между такими же завистниками и ненавистниками. И спокойно ждала только, когда подружки наконец поссорятся и начнут пожирать друг друга, а тандем их распадется. Ждать долго не пришлось: боевые поэтессы поссорились и уехали назад в столицу – кажется, навсегда. А Кирюшка остался на бобах. Не за кем стало таскаться: уехали из города гениальные личности, признававшие его за своего, так лихо подогревавшие его эготизм… И снова было потянулся он к Полине. Но поздно: поезд ушел. Полина могла простить глупость, измену телесную, но духовную – никогда. Кирюшка этого не понимал. Он просто был там, где ему интереснее, где ему хорошо, где его постоянно хвалят, а его стихи превозносят. И почему Полина его снова не привечала, ему было непонятно: ведь он так гениален, а гениям все прощается! Но Полина разделяла талант и человека: сколько раз уж ей приходилось убеждаться, из какого человеческого "сора растут стихи"…
А Кирюшка почему-то принялся ревновать ее по-черному – ко всем подряд и ко всему подряд. Полина удивлялась: да какие у него на это права? Он сам, по доброй воле, все загубил, давно все прошло и быльем поросло. Уже и после отъезда "гениальных" поэтесс прошло два года. Неужели он не понимает, что они разные и чужие теперь люди? Но Кирюшка точно сбрендил: мало того, что следил везде за Полиной, так стал еще рассказывать всем подряд, как он любит ее, и что она его жена, что он живет с ней и что все у них хорошо – это все, чтобы возможных соперников отвадить; и что он никого к ней не подпустит, убьет каждого, – в общем, нес страшную ахинею, в которую между тем кое-кто верил.
Никто, кроме Кирюшки (да и тот с великого перепоя), к Полине с ухаживаниями и не подъезжал – некому было; жила она одиноко и почти замкнуто, но, когда до нее стали доходить слухи о Кирюшкиных россказнях, она вознегодовала и при первом же случае выкрикнула ему все, что о нем думала, запретив ему к ней даже приближаться, а тем более, распускать свой поганый язык. Но Кирюшка будто не слышал, и вот снова он сидит напротив нее, словно грозный муж, и всем видом своим показывает, как он ненавидит ее за ее веселость и общительность, и как она оскорбляет его, в глазах всех, своим легкомысленным поведением, за которое надо наказывать. Полина Кирюшку "в упор не видела", чтобы хоть как-то охолодить его, – иной тактики против упрямца она придумать не могла, но Кирюшка был реален и, сидя напротив, испепелял ее злыми глазами.
За столом было весело: такого количества поэтов сразу общага никогда не видела, не видели и сами участники пиршества. Поэтому водка (без закуски) лилась рекой, стаканы ходили по кругу, произносились веселые тосты, читались "по солнышку" стихи; до одури, по очереди, поэты блистали остроумием, пока юмор у всех не иссяк, – опьяняло уже то, что они – братья по крови, все – родня; всех объединяло одно общее дело, знакомое до боли каждому.
Когда очередь дошла до Кирюшки, он принялся читать свои новые стихи, с ненавистью и негодованием обращаясь прямо к Полине. Она знала, что они были посвящены ей. Но почему он, за девять лет их знакомства ни разу не посвятивший ей ни одного четверостишия, в этом году вдруг разразился сразу серией пышущих ненавистью к ней стихов? Полина только удивлялась: за что? Отчего? Ведь их давно ничто не связывает! И наконец догадалась, что это плоды той ненависти, которую посеяли в Кирюхе его "гениальные" подружки из Питера. Что ж, всходы плевел были густыми, но губили они только самого Кирюшку, разъедая изнутри и заставляя выставляться сейчас на всеобщее посмешище. Вот и Полина только посмеялась, перемигнувшись с поэтесками, которым смысл яростно читаемых Кирюшкой посланий был ясен.
Полина в этот вечер опьянела быстро: голодная, да еще водка… У кого-то в руках появилась гитара, запели песни. Полина, стоя в обнимку с красавцем-прозаиком с темно-русыми длинными кудрями, весело подпевала гитаре. Вдруг их обоих кто-то шутя подтолкнул, и они оказались вдвоем в темном стенном шкафу. Дверь за ними захлопнули и, шутя, подперли снаружи. "Ах, так!" – ни Полина, ни прозаик, понятно, не растерялись и кинулись – в насмешку над остальными – друг другу в объятия, стали, пьяные, целоваться: весело, шутя – пусть все завидуют!.. Но когда они вывалились наконец из шкафа, Полина сразу увидела мотающегося туда-сюда, как зверь в клетке, Кирюшку… Через минуту с криком: "Я убью тебя!" – он бросился на Полину и, схватив ее за горло, повалил на кровать… Тут Полина и простилась бы, в его железных клешнях, с такой непрочной жизнью, если бы друзья-поэты не навалились на ревнивца и не отодрали его от Полины. Сразу же у Кирюшки отобрали и складной нож, который он выхватил неизвестно откуда и уже раскрыл.
– Да кто ты такой, – взвилась, чуть отдышавшись, Полина, – кто ты мне, засранец, кто, и что ты такое себе позволяешь?!
Но Кирюшку тут же увели подальше от нее, в другую комнату. Там он начал плакать поэтессам в жилетки и жаловаться, что Полина, жена его, так плохо себя здесь ведет, не любит его… В общем, продолжал плести свое, позорить ее и срамить. Выслушивая девчонок позже, Полина, которая пострадала не сильно, но очень возмущалась всем произошедшим, только диву давалась: что же он такое городит, что он себе возомнил, какое он имеет право говорить о ней, как о жене, и вообще – кто он ей? И под конец она пришла к твердому заключению, что Кирюшка совсем тронулся умом, и не слабо, что это у него маниакальная идея, и держаться от него ей надо подальше, чтоб не вызывать новых приступов (или припадков) дикости и ревности.
***
Этого она и начала придерживаться, когда они вернулись домой с совещания. Но происшествие это не могло застить самого факта писательского семинара, и Полина принялась ждать каких-то запоздалых его результатов. Но писатели, погуляв вволю в глубинке на родине, вернулись все в Москву, совсем забыв о семинаре и семидесяти несчастных, которые ждали от них хоть одного напутственного, ободряющего слова…
И вдруг однажды, почти два месяца спустя, Полине, уже около одиннадцати часов вечера, позвонили из области и прокричали в трубку: "Завтра выезжай в Москву! На всероссийское совещание молодых писателей! В "Переделкино"! Запиши адрес и кого спросить! Завтра же утром, возьми рукописи и отправляйся!.." Разговор оборвался. Ничего, кроме записанного адреса, в руках Полины не осталось. Она не верила до конца: наверно, это был какой-то неумный розыгрыш. В Москву! И почему так внезапно? Завтра! Приедет она в Москву, а там на нее глаза вытаращат… Верить не хотелось. И все же что-то ей подсказывало, что ехать надо, что весть эта правдива, и что поедет она туда не зря… Не зря! Есть, она чувствовала, что есть у нее шанс стать писателем, и даже официально признанным! Материал у нее есть. И, если там сидят не последние кретины, они его оценят. Должны оценить!
Наутро Полина, уже с готовым багажом – рукописями, побежала за билетом. Билеты в Москву почему-то были! Она взяла билет на одиннадцать часов и позвонила на работу своему начальнику: "Мне нужно срочно уехать на три дня. У меня с собой ваша зарплата. Можно, я ей воспользуюсь? Потом верну!" Начальник что-то промычал в ответ, но Полина опустила трубку: даже если ее сейчас же уволят с работы, она все равно поедет! Это ее первый, за десять лет титанического труда, и, может быть, единственный шанс! И упускать его нельзя. Ни в коем случае.
Она уехала, никому из коллег по перу ничего не сообщив. Вся в надеждах. Ночью в поезде она не спала, глядела в окно, на небо, сплошь усеянное яркими звездами. И вдруг подскочила на постели: одна звезда упала! Она никогда не видела падающих звезд. И не знала: к хорошему это или к плохому. Одни люди, когда-то она слышала, говорили: звезда падает к счастью – сбудутся все желания. Другие – и это Полина слышала чаще – что к смерти; только к чьей?
Утром, по приезде в Москву, она все успела: и адрес правления Союза писателей нашла, и зарегистрировалась, и не опоздала на автобус, который повез их, целую группу, в "Переделкино". Участников совещания было не так много – около пятидесяти человек, из них в семинаре прозы – только шестеро. Женщин, кроме Полины, среди прозаиков – ни одной. Шансы ее как будто повысились… Впрочем, она за себя не боялась. Вечером отдала троим писателям рукописи на прочтение. Что-то они скажут завтра?..
С утра руководители семинара прозы – все разного возраста, – переглянувшись меж собой, почему-то начали обсуждение с ее рукописей… Выспросили прежде досконально, кто она и откуда родом. Долго выпытывали ее пристрастия в литературе… Пристрастий Полина не понимала. У одного автора ей нравилось одно, у другого – другое, к одним она была менее благосклонна, от чтения других получала наслаждение… Но пристрастия? Полина знала, что они меняются с возрастом, и даже от настроения. Поэтому виновато отмахнулась от расспросов: "Чукча не читатель, чукча писатель". Писатели посмеялись, но, тем не менее, еще два часа пристрастно допрашивали ее. Их смущало, что наряду с "деревенскими" рассказами у нее есть чисто "городские", современные… Полину это не смущало: она современный человек и не хочет себя ограничивать, замыкать в узкие рамки. Но вот ее старорусское имя писателей почему-то удивило – как будто давно такого не слыхали. Расспрашивали ее и о семье, о родителях – хотели знать и оценить все. Полина откровенно отвечала на все вопросы. Но про себя решила: "Все, кажется, завалили… Уж больно пристрастны".