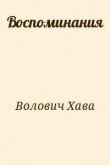Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
3. Сила слова

Из жизни Васи
Жил-был таракан Вася.
Пока маленький был, хорошо жил – на него не обращали внимания. А как подрос и стал большим – ну словно столик на шести ножках, – житья ему от хозяйки не стало: охотится она за ним, и все тут, – противным он, что ли, ей кажется?
Бывало, заползет Вася в раковину водички попить, а хозяйка тут как тут, и давай его водой поливать – норовит в дырку смыть, расправиться с Васей; при этом фыркает так брезгливо, а то и кипяточком норовит ошпарить.
Но Вася хитрый: юркнет быстренько под решетку и притаится в щели; поливай его сколько хочешь, только не кипятком, а то Вася – создание хрупкое, нежное: ни мороза, ни жары, ни засухи не переносит. А душ – это пожалуйста: прикинется Вася дохлым, будто бы он воды этой самой до ушей нахлебался, переждет чуток, а потом рванет с места в карьер – только его и видели.
На какие только хитрости хозяйка ни пускается, чтобы Васю извести – уж очень он ей отвратителен. То брызнет ядовитой жидкостью – дыши, чем хочешь; то химикаты рассыплет по местам Васиного обитания – хоть помирай от них; а то начнет мебель двигать, чтобы гнездо Васино разорить – кочуй, Вася, ищи себе новое гнездышко… А сынок хозяйки – тот вообще специализируется на измывательствах над Васиными товарищами, изверг: если поймает кого – ждет того мученическая смерть. Или на газовой плитке поджарит и будет смотреть, как трупик обугливается, или в бутылку из-под водки спустит, а это – тихая, но верная смерть, по причине тонкости тараканьей натуры. А то еще пригвоздит иголкой к полу и зовет: "Мама, иди посмотри, я в него уже шесть иголок загнал, а он еще шевелится!" И вот оба смотрят, не наглядятся. Конечно, им все можно – они хозяева, а Васины друзья, что: одно слово – тараканы…
И такие облавы на Васю и его соплеменников сынок устраивает периодически. Хозяйка ему за муки тараканьи не пеняет – уж больно она Васю и ему подобных не любит. И, чтоб их извести, снова за свои радикальные методы принимается. А уж тапком так походя бьет, только все мимо: очень Вася юркий да хитрый от природы, как заяц петляет, где там неповоротливой хозяйке за ним поспеть. Раз пять по одному месту стукнет, а Васи уж нет – он опять в щели сидит.
И до того хозяйка озлобилась, что он из щели и выходить перестал, только по ночам – попить да поесть, чего Бог послал. А Бог послал хозяйку-грязаву: крошки везде валяются, так что прожить можно. Но грусть Васю заедает: за что его хозяйка не любит? За что травит? Или он не такое же Божье создание, как и она? Почему ей покойно живется, а ему постоянно о своей безопасности думать надо, изворачиваться, изобретать, десять глаз на макушке иметь, искать, где и чем прокормиться? Да за его живучесть в таких невыносимых условиях ему уже медаль на грудь надо вешать – за то, что он живет до сих пор и не помер. А детей заводить и род свой продолжать как он в такой обстановке может? Будет ли у них будущее? На такие же вот мытарства их обрекать?
От этих дум хватался Вася сразу четырьмя своими лапами за голову и тихо стонал. Но жить надо было. И удваивать свою природную выносливость.
Но однажды Вася все же попался. Ведь и поел-то того, что всегда ел, а понял – отравился. Перехитрила его хозяйка. Значит, скоро ему придет конец. Но самое ужасное, что никогда уже у него не будет детей. Пусть даже и в такой невыносимой обстановке, но никогда, никогда они не смогут увидеть свет, почувствовать вкус к опасностям жизни – потому что Вася был неосторожен и отравился. Поел сам, а их убил… И Вася ползал по кухне, грустный и меланхоличный, иногда он надолго застывал в задумчивости, подавшись вперед – он забывал, что ему надо прятаться, и все чаще попадался на глаза хозяйке. Но она его не трогала – пепел смерти покрыл уже Васины крылышки. Ему оставалось недолго…
"Что ж, вся жизнь моя прошла в тяжких заботах – как бы выжить, как бы продержаться… Как у таракана. Всю жизнь по щелям прятался, о том, что я – такой же хозяин жизни, забывал… Умереть хоть надо достойно – на людях: пусть все видят, пусть помнят, что Вася жил – нельзя сгинуть в этой щели вот так вот безвестно…" И Вася выполз на средину кухонного пола, лег на спину и запрокинул свои, подернутые мертвой сединой, лапки. "На миру и смерть красна", – подумал, отходя, Вася, и этой своей первой и единственной радостью умиротворился…
А хозяйка, увидев окоченевшего Васю, не удивилась его достойной смерти, а замела его на совок и торжественно погребла в помойном ведре.
1989

Ничтожество
– Ну что ты все поминаешь какую-то Машку? Машка, Машка… Я – перед тобой, а не Машка!
Она стояла перед ним – красивая, стройная, зрелая, уверенная в себе, и в его зарождающейся любви к ней, женщина. Но она хотела, чтобы эта любовь была безграничной.
Он посмотрел на нее красивыми черными глазами, подернутыми туманом воспоминаний, и, скривив тонкие губы, капризно произнес:
– И все равно у Машки самые зеленые глаза…
– Да что это за Машка, черт подери, ты можешь мне объяснить? Заинтриговал уже: "Машка, Машка…" Кто она?
Он ответил, как говорят о вещах, недоступных пониманию:
– Корова Машка… Просто Машка, и все!
Она, рассердившись, отвернулась к окну.
"Черт бы побрал эту мифическую Машку… Все уши пропел – скоро мне самой захочется такие же зеленые глаза, как у этой Машки… Что она из себя представляет? Так она в нем крепко засела, что и на меня уже распространяет свои вездесущие чары – того гляди, и я скоро начну ею бредить!" – она усмехнулась.
Повернувшись к нему, она увидела, что некстати, застав его за занятием, которое не выставляют напоказ: он сидел на своей узкой общежитской койке и отвлеченно и яростно грыз ногти, совсем забыв о ее присутствии…
Она поспешно отвернулась, чтобы своей бестактностью нечаянно не поставить его в неловкое положение.
– Ты останешься у меня сегодня?
Не веря своим ушам, она медленно повернулась, с намерением беспощадно отчитать его, но увидела в страдающих глазах его мольбу и надежду.
– Пожалуйста, прошу тебя, мне это очень нужно… Мне… Я – он замолчал, проглотив слово "одинок".
– Нет, не останусь.
– Ну побудь до утра…
– Нет, нет. Ты что, спятил?
Она резко отвернулась к окну: разве она давала повод думать о ней так скверно?
Будильник, в ярости швырнутый им, со звоном рассыпался, ударившись о стену…
Она, вздрогнув от неожиданности, вскрикнула испуганно: "Ты что?" – и, повернувшись к нему, увидела его ползающим по полу. Глотая горькие непролившиеся слезы, он собирал остатки будильника в ладонь.
– Эх, жалко машину, хорошая машина была, память о… Машкин был будильник.
***
…Он вышел из дому на светлые весенние улицы города. Он ликовал и пел всей своей внешностью, и сердце его пело. Глаза его смотрели в самое себя, не видя окружающего благоденствия, грудь, помимо воли, расширялась, втягивала в себя пьянящий свежий воздух, тонкие и длинные ноги его давили носками ботинок мелкие лужицы тротуара… Ему не было до них никакого дела. Он летел на крыльях своей джинсовой американской курточки, и свежий воздух бил в его узкую, неразвитую грудь. Полуслепой от счастья, он летел над асфальтом улиц, и обычные сутуловатость и угловатость как будто куда-то пропали во время его стремительного полета. Он пел… О чем?
Вчера, когда он, как обычно, пришел в мастерскую к своим друзьям-художникам, там было людно и весело: художники и их околохудожественные друзья отмечали открытие выставки работ Ипатыча, толстого лысеющего чудака, по-ребячьи радовавшегося этой новой ступени в своем творчестве. Его дружески трепали по лысеющей голове все, кто хоть мало-мальски знал его, и Ипатыч, покачиваясь от похлопываний, слезливо и как должное принимал знаки внимания.
Там, среди этой толпы худосочных девиц с длинными, падающими на лицо волосами, среди жиреющих пузатых бородачей в клетчатых рубахах и прочих экзотических личностей, он увидел ее: лицо ее светилось недоумением, спокойствием и казалось более широким, чем узким, особенно усиливали это впечатление огромные глаза, которые были широко поставлены и, светясь нежным зеленым светом, как бы освещали половину лица. Светлые тонкие волосы были недлинно пострижены, маленький острый подбородок казался беззащитным… Но, затерянная в этой толпе, она не терялась. Ее глаза изумлялись всему, и в них отражались полотна художников, огонь свечей, блеск мишуры и бокалов.
Их познакомил, заметив обоюдный интерес, его друг Серега, тоже художник. Представляя, он назвал ее имя:
– Маша.
А она, протянув руку, поправила:
– Машка. Корова Машка. – и засмеялась.
Они заговорили. И скоро он от нее обалдел. Он обалдел почти сразу. Он не видел больше никого и ничего, только ее глаза, и слышал только ее певучую речь. Она была умна, остроумна. Она была мила, интересна. Он и радовался, и грустил: он боялся, что она может внезапно исчезнуть, как видение. Он жадно расспрашивал ее и узнал, что ей шестнадцать лет, что она студентка. Они бродили вместе по мастерской между шумных групп людей, беседовали, забираясь в укромные уголки, на спиртовке, в мензурке, он сварил ей кофе и напоил ее горячим, густым напитком… Он молчал, болтал, теребил свои жидкие усы, страдал и уже любил… Она на все смотрела своим созревшим взглядом, огорошивала его недетски трезвой мыслью… И смеялась. Просто-таки заливалась звонким и веселым смехом. А потом исчезла, когда его отвлек болтовней этот рыжий Степанов, художник-любитель и болтун-профессионал. Просто ушла. Наверно, ей было пора. Ведь ей всего шестнадцать… И, может быть, оглянулась в дверях на него, блеснув веселыми глазами, а может, и не оглянулась. Но потом он ее провожал. Ее не было, но он провожал ее до дома. Он пошел вслед за ней – Серега сказал ему, что она живет где-то за парком. И он прошел в одиночестве весь путь до ее дома, не замечая сырого промозглого ветра, прыгая на черном, лакированном дожем асфальте под желтыми грибами фонарей…
***
Она училась в политехникуме – это было недалеко от его института. Он стал встречать ее ежедневно после занятий, и они вместе шли гулять по его любимым аллеям в парке, или иногда взбирались по головокружительной тропинке на почти отвесную, поросшую вьюнком береговую кручу – он показывал, где он любил лазать в детстве. Каждый день они непременно забредали в их любимую обоими кондитерскую и съедали там по порции самого лучшего в Киеве мороженого.
Вечером они снова встречались, уже чтобы провести остаток дня вместе: они все больше ощущали необходимость постоянно быть друг с другом.
Друга Серегу они боготворили за то, что он их познакомил, и за то, что он был хороший друг. Он писал их портреты – по отдельности и вместе взятых, но, хотя оба они лучились счастьем, полотна его получались угрюмыми: серо-синих, темно-коричневых тонов, от лиц оставались лишь силуэты, отражения; только кое-где на полотнах светлыми пятнами мелькали огоньки свечей…
Не стали картины светлее и перед Серегиной свадьбой, когда он вынужден был жениться, уступая чужой любви, на дочери состоятельных родителей, машине и старом доме в Калининграде. Серегу любили, а он – нет, Серегу женили, а он думал только о черноглазой и черноволосой Ирише, своей единственной, неповторимой любви, которая давно вышла замуж за того, кого любила – за старого школьного товарища Сереги, – и воспитывала сейчас такую же черноволосую, как она сама, и такую же прелестную дочку.
И на пышной свадьбе Сереги, и на вокзале, когда провожали его в Калининград, их обоих не покидало чувство, что скоро он все-таки оттает, просветлеет, женитьба его переменит – ведь они сами были такими счастливыми, и грустить совсем не хотелось. Искренне они желали ему успехов в творчестве и просили не забывать, писать им чаще.
***
Однажды, нарвав на пустыре ромашек, поздним вечером он влез в Машкино окно на втором этаже ее дома, что проделывал обычно, чтоб не тревожить Людмилу Ивановну, Машкину маму. Забыв ромашки на тумбочке, он забрался к Машке в кровать, и время для них, как всегда, остановилось. Нежные Машкины руки белыми ночными бабочками касались его спины, волос, головы. Ее чистые волосы рассыпались по белой подушке, глаза, темневшие, как два заброшенных колодца, поглощали и будоражили его душу. Он тонул в этих колодцах, обоих одновременно, тонул безвозвратно, и в голове его ухало от волнующе-стремительного то ли полета, то ли падения. И Машка летела куда-то с ним, закрыв лучистые глаза и запрокинув назад голову…
Утром Людмила Ивановна заглянула в комнату дочери и увидела их на кровати, спящими рядом в тех позах, в каких их застиг сон.
Под ее взглядом они проснулись, но было поздно: тайна их была раскрыта. Машка натянула до глаз одеяло и пряталась там, а зеленые глаза ее смеялись над краем одеяла. С Людмилой Ивановной пришлось объясняться ему, приняв всю тяжесть сложившегося положения на себя: на ее реплики он только пожимал плечами, теребя усы под ее взглядом, и в оправдание лишь что-то нечленораздельно бубнил. Людмила Ивановна, глядя на них, всплескивала руками, охала, хмурилась, но потом фыркнула, смилостивилась, прослезилась и махнула рукой.
С этой минуты они стали для всех женихом и невестой.
Выходя из Машкиной комнаты, первый раз через дверь, он машинально сунул в карман будильник с тумбочки – будильник, который забыл разбудить их утром, и тем самым обручил их перед людьми, а перед Богом они уже давно были обручены.
***
На другой день они сбежали с лекций, и в маленьком ювелирном магазинчике на углу он купил себе и ей узенькие золотые колечки – в знак нескончаемой любви и верности.
Вместе они вдруг задумали навестить своего друга Серегу, чтобы самолично сообщить о предстоящей перемене в их жизни. И в тот же день, купив билеты на самолет, они улетели в Калининград, радостно предвкушая, какой это будет для него сюрприз – ведь он уже так давно их не видел, хотя и постоянно звал к себе в гости.
На старой улочке, где стоял дом родителей жены, в котором и проживал сейчас Серега, они с трудом нашли нужную калитку, окованную широкими полосами железа еще в стародавние времена. Во дворе за ней было сумрачно и почему-то людно. Первое, что они увидели, протиснувшись сквозь толпу, были бледные руки художника, который лежал в гробу как-то неестественно и тихо, а не размахивал кистью и не прицеливался к натуре острым взглядом… Они окаменели и испугались: это был нехороший знак.
Машка заплакала, он прижал ее к себе.
Их заметила Илга и подошла к ним…
– Он был очень плох, плох последнее время, – слушали они позже жалобный рассказ Илги, с трудом воспринимая его смысл. – Ждал вас очень, ждал… был одинок, замкнут, я ничем не могла помочь, я его раздражала… Писал он в последнее время одни глаза да свечи, глаза да свечи, да силуэты… Но твой портрет, портрет друга, он написал живым, очень ярким, видно, воспоминания о тебе у него были светлыми…
Потом они долго сидели в комнате, служившей мастерской Сереге, среди светлых и мрачных его полотен, в которых отразились и его душевные всплески, и душевные надрывы.
На кладбище он, помогая устраивать последнее ложе для друга, вспомнил, как раньше они вместе выбирались в воскресные дни на берег Днепра с ночевкой, как жгли ночные костры у воды, смотрели на звезды, мечтали, засыпали на ложе из веток и очень, очень любили жизнь. А сейчас… Серега сам оборвал свою нить, а его единственный друг в это время был далеко, был счастлив, не почувствовал, не помог, и приехал слишком поздно… Но он должен отдать дань дружбе, последнюю дань… Он должен устроить выставку работ Сереги, обязательно, чего бы это ни стоило…
Машка стояла в отдалении от могилы, хмуро и молчаливо, и посреди лба ее пролегла мрачная теневая складка.
***
Через неделю после возвращения в Киев Машка слегла. О том, что она в больнице, он узнал, когда вернулся с выставки судомоделизма, куда возил свои модели барков. С букетом роз и коробкой любимых Машкиных конфет он пришел к ней в палату и… не узнал ее. Бледное, изможденное лицо, тусклые, посеревшие волосы, тонкие руки… И только зеленые глаза ярко, болезненно горели. Она долго молча смотрела на него, не отпускала его руку. На прощание вынула из ушка серебряную червленую сережку, вложила в его ладонь.
– На, держи. Потом… вернешь.
И, отвернувшись, не удержалась, заплакала.
Потерянный, он ушел.
Две недели, как на дежурство, он приходил в ее палату. А потом его не пустили – сказали, что Машка умерла…
Он заболел. Он не верил, что в таком возрасте можно умереть от рака. Он не верил, что вообще в таком возрасте можно умереть, и что он остался один на свете…
Он не пошел к ее родителям, он не знал даже, когда были похороны. Сидя дома, в своей комнатушке, он пил водку и лепил из глины образ Машки – маленький овальный ее портрет: выпуклые глаза, летящие, спутанные ветром волосы, цветок у виска…
На кладбище он сходил позже, неделю спустя, нашел могилу, постоял под вороньим граем, посмотрел сквозь ограду на старые седые кресты вокруг Машкиной скромной могилки… Поразмышлял. И понял, почувствовал, что ничего ему здесь не осталось, кроме кладбищенской грусти, что ничего ему здесь уже не надо. Но он надеялся, что и ему оставалось недолго грустить… Жизнь его, не начавшись, закончилась.
Потом он не мог приходить к могиле, он впал в хандру и ударился в запой: сидел дома и, не просыхая, пил все что попало, писал бредовые стихи, пронизанные кладбищенской грустью и церковными образами… Красные тени пролегли у него от переносицы под глаза. Вконец исхудав и опустившись, он однажды собрался и в одночасье снялся из Киева, улетел на север, в далекий городишко, где когда-то служил, чтобы там тяжелой работой заглушить боль по двум самым дорогим утратам, а работая и "заколачивая" деньги, не так сильно тосковать вдали от двух родных могил.
***
…Он пришел к ней с бутылкой шампанского и с подарком к дню Восьмого марта: маленькой изящной глиняной вещицей с выпуклым изображением юной девушки – волосы растрепаны ветром, за ухом ромашка… Она ахнула – вещица ей понравилась – и тут же нашла ей место на стене, рядом с зеркалом.
Она включила по такому случаю музыку и собрала нехитрый стол с закуской. Он поздравил ее, притянул к себе и, крепко обняв, поцеловал в губы. Она отстранилась и выскользнула из его объятий, а он заученным движением поднес руку к расстегнутому воротничку рубашки и вдруг забеспокоился, не найдя того, что искал, на своем месте:
– Где, где она?
– Кто? – раздраженно спросила она, уже угадывая ответ.
– Сережка…
– Сережка? Чтоб ты ее совсем потерял! Что за глупая прихоть – носить в петлице женскую сережку?
Но он забеспокоился не на шутку.
– Надо найти… Это она мне знак подает, да-да, это ее предупреждение, она сердится…
Она уже поняла, что он говорит о Машке. "Черт бы побрал его с этой Машкой…" Но она принялась искать, и вместе с ним обшарила диван, ковер на полу. Сережки не было.
– А где вторая? – из любопытства спросила она.
– Под землей… На два метра под землей, – отвернувшись, процедил он.
И ей вдруг тоже передался его мистический благоговейный страх перед знаком "оттуда". Опустившись на колени, она заглянула под диван, и вдруг услышала его радостный вскрик:
– Подожди, нашел!
Он схватил ее за плечи, поднял и стал выпутывать сережку из ее длинных, пышных волос.
– Зацепилась! Вот она, нашлась. И снова со мной, – он водворил сережку на прежнее место и нежно погладил рукой, чем снова разозлил ее.
Они сели за стол.
– Покорми меня чем-нибудь, – попросил он. – Сегодня у меня и рубля на обед не было…
Она подозрительно посмотрела на него и недобро засмеялась.
– Опять? Куда ж ты деваешь свои деньги? Ведь не меньше других зарабатываешь? В чулок, что ли, складываешь, или в подземелье, в сундуки? Ведь ни на что не тратишь, а что ни вечер – по друзьям побираешься… Так нельзя! – ее бесило его неоправданное полунищенское существование, странные манеры, его туманный ореол страдальца.
Он отмахнулся: вопрос не нов, не она одна ему его задает. А деньги в надежном месте. Еще год-два усилий, и Серегины работы увидят свет. Он не отступит, пока не доведет дело до конца.
Пока она ходила на кухню за ужином, он опрокинул в рот ее бокал шампанского. Хотелось выпить, а одной бутылки, тем более на двоих, ему было мало. Расчет его был прост: женщины рассеянны, подумает, что выпила сама… Так и вышло. Вернувшись, она поставила перед ним тарелку, взялась за бокал… и вдруг увидела, что он пуст. Посмотрев недоуменно на него, она попыталась вспомнить, пила или нет, но, раз шампанское исчезло, решила, что выпила сама. Его бокал стоял перед ним нетронутым. Он усмехнулся, глядя на ее поглупевшее лицо и, взяв бутылку, снова налил ей шампанского.
– Выпьем за твой день… – начал он с теплыми нотками в голосе.
– Подожди, пластинка закончилась, я поставлю другую, – отвлеклась она. Подойдя к проигрывателю, она сменила пластинку и, нажимая на рычажок, нечаянно оглянулась на него.
На этот раз он не успел: она заметила, как, поспешно оторвав бокал от мокрых губ, он поставил его на место – ее бокал, и он снова был пуст. А вино в его бокале по-прежнему оставалось нетронутым.
"Бо-оже… – чувство внезапной гадливости вдруг охватило ее. – Да ведь ему жалко для меня вина, жалко вина, которое он сюда принес… Он же не может удержаться – торопится все выпить сам! Надеется, что не замечу… И вот так – на всех вечеринках, пока не напьется… Опять пришел с красными тенями под глазами – значит, был в запое… Пропивает он все деньги – вот они куда у него деваются! А чтоб быть интересным, сказки о своей любви для друзей сочиняет… Боже, до чего ж он опустился, как низко пал, – ужасалась она, все еще не отрывая глаз от яркой этикетки зарубежной пластинки, – какое же он… ничтожество, какое нич-то-жество!.."
Он снова, как ни в чем не бывало, налил ей в бокал шампанское…
1987