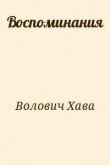Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Родительская суббота
Анну томило смутное чувство, которое давно звало ее в дорогу, уже не первый год, да только собраться она никак не могла. Отвыкла она от этой дороги, да и одной страшновато было. Попутчика бы – вот тогда…
Побаиваться-то Анна побаивалась, а все равно ее как магнитом тянуло в тот заветный уголок земли, где детство ее, стопроцентной горожанки, по-настоящему-то и прошло. Видно, возраст такой подошел, что воспоминания нахлынули, и все ей в этом, в общем-то простеньком, детстве золотым вдруг казаться стало. Золотым, сказочным, недосягаемым для нее, а уж для Юльки, дочки, и вовсе невиданным: не пришлось и уж не придется девчушке материными дорожками бегать.
А Анне страсть как хотелось этими дорожками вновь пройти: полем-лугом вдоль реки до деревни, по теплым "досточкам" на земле пробежаться до угора, искупаться у знакомых мосточков, речку переплыть, заглянуть в старую, серебрящуюся, как луковка церкви, силосную башню, сходить на перевалы[2]2
Перевалы – длинные валы выкорчеванного в поле кустарника, поросшие малиной.
[Закрыть] за малиной, а особенно хотелось посмотреть, растет ли еще в том леске, что Федулковым зовется, черемуха, не высохло ли в нем круглое озерцо, да взглянуть, что там за курганы (мать зовет их «круганы») – может, древние захоронения? Может, там и копнуть можно, да что-нибудь интересное для науки выкопать? В детстве-то Анна многого не замечала вокруг, не понимала, если и интересовалась – так не тем, а сейчас она уже большая (тридцать шесть, ого-го…), умная, все по-другому, может, увидит, на все по-новому посмотрит…
И эта страсть – коснуться детства, усугубленная исследовательским порывом, заставила Анну окончательно решиться на поездку. Она помнила, что прошлогодний порыв ее закончился тем, что она так никуда и не выбралась. И ей ужасно не хотелось снова искать оправдания перед собой: дескать, надо было, но вот как-то не случилось, времени (а скорее желания) не хватило… Она привыкла доводить свои решения до исполнения, к тому же, наученная горьким опытом, знала, что иное попустительство собственной лени порой весьма печально кончается, и сожалеть потом приходится годами, а то и каяться в своей нерасторопности всю жизнь.
И вот случай представился: когда ждешь и ищешь, то он всегда представляется.
***
Лето уже вступало в силу, пошли не обманно-скоротечные, а настоящие летние теплые дни, и однажды случайно Анна услышала телефонный разговор матери с теткой Ольгой, старшей ее сестрой, которая звала мать поехать с ней и двумя младшими сестрами в деревню – навестить могилу бабушки, покрасить оградку и вообще привести все в порядок. Мать отнекивалась: ей на выходные дни дочери опять «подкинули внуков», а внуки для нее всегда были на первом месте. «Мы в другой раз с Анной туда съездим», – улещала она сестру. Та в ответ, как видно, съехидничала. «Да она сама просится, да…» – защищала Анну мать.
Анна тут же ярко представила, как тетка в ответ разражается бранью, могла даже дословно привести то, что та кричала в ухо матери: "Поедет твоя Анна, жди, она уж и дорогу туда забыла, и ты с ними совесть потеряла, только о их выкормышах и печешься, больше тебя ничто не интересует! Конечно, сестры все сделают, они ведь – для всех, а ты только для своих доченек время находишь!" Тетка Ольга не любила племянниц, особенно Анну, считала их слишком избалованными, да Анна и не знала, любила ли та кого-нибудь вообще: всех тетка ругала – и за глаза, и в глаза, и чужих, и своих; все порядки наводила, без этого и жить не могла. Вроде бы и справедливо ругала, но уж как-то очень беспардонно…
Странные были сестры у матери, странной была мать: руками все сделают, кто бы ни попросил, а чаще и без всяких просьб, зато языками – семь шкур спустят, высекут, оскорбят, особенно родню не щадят; языки у всех сестер ядовитые. В иной семье, хоть сын иль муж пьяница да бездельник, а все – хороший да пригожий, а чужие – и хорошие, да все равно будут смешней смешного. В родне Анны все наоборот: свои у них и хорошие, да все равно плохие, кто похуже – те и вовсе оторви да брось, а вот чужие-то все – любо посмотреть! И чем старее тетки становились, тем сварливее. Анна и за собой замечала ту же черту (от собаки бобер не родится) и со страхом думала, что и она когда-нибудь состарится и будет так же своих близких поедом заедать.
Теткам тогда в деревню втроем пришлось уехать, да, может быть, оно и к лучшему, а то за работой-то дело и до скандала могло дойти – всяк ведь из них сам себе мастер, указчиков не терпит ни одна, а указывать каждая любит.
Через неделю и Анна с матерью собрались – как раз на родительскую субботу попали. Погодка как по заказу стояла, правда, неприятности ждали их на месте, в деревне: враг "номер один" – комары, и враг "номер два" – крапива. Ну, Анна-то знала, куда отправлялась: предусмотрительно брюки и рубашку с длинным рукавом наладила. И вообще – приготовилась все стойко перенести и стерпеть: слишком велико было желание в деревне побывать и вновь самой всего заветного коснуться. А комары и крапива – это, конечно, обязательно будет… Ведь там, куда они собрались с мамой и маленькой Юлькой, деревни уже никакой не было. Название в памяти людской еще осталось: Ластокурья, а деревни – не было. И дом бабушки Анниной, пустовавший без хозяев, давно сгорел – сожгли его по пьянке или из хулиганских побуждений то ли горе-охотники, то ли подгулявшая молодежь…
Анна помнила, как однажды она своим новеньким фотоаппаратом во всех ракурсах снимала этот большой, красивый дом, построенный по старинному городскому – Архангельск близко! – образцу. Дом в то лето как раз покрывали черепицей дядья. И их – молодых и веселых, дружно обнявшихся Николая и Виктора – она тогда сфотографировала… На память. А осенью, в тот же год, дом спалили. Так уж не сглазила ли Анна его своим фотоглазом?
На другой год она с двоюродниками – сестрами и братьями – приезжала еще раз туда, посмотреть на пепелище и ужаснуться: увидела груды кирпичей на месте трех печей, несколько железных остовов кроватей да разноцветные слитки расплавленного стекла… Все остальное: старинная мебель, посуда, иконы, прялки, утварь, рыболовные снасти, множество фотографий нескольких колен многочисленной родни – бравых солдат с шашками наголо, барышень в высоких сапожках, бесценные фотопортреты всех членов семьи – все испарилось. И крапива, жгучая крапива в человеческий рост уже поглощала остатки пепелища. Уцелела от огня только баня – почти новая, недавно срубленная, до нее огонь как-то не дотянулся. Ну, банька – она и есть банька. Да к тому же черная…
Ночевали они тогда в чужом – тоже пустом – доме, одном из четырех, оставшихся еще в деревне, точнее, ночь провоевали с комарами, которые нахально лезли в разбитые окна: меж густой и высокой травы, заполонившей деревенские улицы, их развелось великое множество; а наутро ушли из пустой деревни назад, и – Анна посчитала – десять лет, десять долгих лет она в том краю не была.
***
Дом ей очень часто снился. И дом, и его окрестности. Только всегда это был не тот светлый дом, каким она его знала, а – таинственный, с множеством незнакомых темных уголков. И в этих уголках Анна находила во сне очень много диковинного: то старинные книги, то иконы, а то и невиданные сокровища, но перенести эти находки из сна в явь она никак не могла; это бессилие ее мучило, а сны повторялись и повторялись.
Поля и перелески, окружавшие дом, представлялись ей в сновидениях не менее таинственными: все пространство вокруг деревни было покрыто густыми, тенистыми, невиданными лесами, берег речки был высок и скалист, и она текла по одному, а не по двум рукавам; много невиданных и крупных ягод, огромных пестрых цветов росло по ее берегам, в воде кишели незнакомые огромные рыбины… Анне всегда хотелось уйти все дальше и дальше по берегу реки или по тропинке леса, и она – из сна в сон – уходила все дальше и дальше от дома и там открывала все новые и новые тайны, а ускользающая сень леса все больше и больше манила ее…
Анна очень любила этот дом – он был частью ее, она была частью его. Лучшие воспоминания детства были связаны с ним… Но с годами он начал приобретать в ее сознании не только таинственную, но и какую-то темную, зловещую силу. Дом словно был заговорен или проклят кем-то: слишком много смертей витало вокруг. И сны о доме стали пугающе-зловещими: то его заполняли мертвецы, то оборотни, а в окрестностях его появились темные всадники…
Все беды и несчастья начались с того, что, внезапно и неожиданно для всех, в доме повесился Аннин дед. Возможно, не так уж и беспричинно. Жил он тогда в доме один, ждал на выходные в гости семерых своих детей-горожан с "чады и домочадцы" да бабку свою, загостившуюся в городе; не дождался и – нашел успокоение в петле, оставив теплые щи в печи да целую флягу браги для гостей… Может, с тех пор и пало проклятье на дом? Мать Анны, в подтверждение этому, не раз вспоминала свой вещий сон: приснился ей тата, уже покойничек. Будто бы видит она его в родном дому, и подает он ей большой такой ключ, вроде бы от дома. "Спрячь, – говорит, – его вот здесь, за трубой, или тут, под порогом. Я еще буду сюда приходить…" Со слов матери выходило, что все это не к добру и надо ждать новых бед. Так, конечно, и оказалось.
Через четыре года в том же доме умерла от болезни Аннина бабушка. Анне накануне было даже "явление" об этом, но она по молодости да по беспечности не собралась съездить в деревню, с бабушкой перед смертью не повидалась, так с ней и не простилась. И с тех пор носит тяжкий камень на сердце уже восемнадцать лет.
Через два года после смерти бабушки один из ее зятьев, молодой, веселый Алексей, возвращаясь на моторной лодке из деревни в город, утонул в реке на глазах жены, детей и прочей родни.
А еще через три года и дом спалили. Тетки не отступались и продолжали по привычке ездить в "баню" и даже переоборудовали баню под жилую избушку, но Анна там не бывала десять лет. Было тошно. Да и зачем?
А вот теперь она без рассуждений собиралась туда. Мать-то хотела только до кладбища добраться, могилу бабушки навестить, но Анна строила более широкие планы.
***
Рано-рано утром они – Анна с пятилетней Юлькой и Нина Ивановна – встретились на дорожке, ведущей к речной пристани, и, необычно взволнованные, бодро пошагали к реке. Анна выглядела совсем по-дорожному в своих брюках, клетчатой рубашке и с рюкзаком за плечами, а Юлька и бабушка – так, как будто они вышли ненадолго прогуляться: одеты легко, лишь у бабушки на голове извечная косынка, а у Юльки – панамка, так как день обещал быть жарким.
На пристани Анна с некоторым волнением стала ожидать теплохода: десять лет она не ходила по этой дороге, столько же не ступала и на палубу теплохода, который развозит пассажиров по деревням. Мать, конечно, среди ожидающих сразу нашла своих земляков – да чего там, все побережье, почитай, родня – и оживленно кивала головой, здороваясь со всеми подряд.
Наконец подошел теплоход. Причалил, бросили трап, и публика стала взбираться на пристань. Странно, но все было как и тогда, десять лет назад. Через несколько минут и Анна ступила на шаткие сходни и помогла Юльке пройти по узкому, крутому трапу над живой полоской воды… Но на этом сходство с былым и закончилось.
Теплоход оказался не старым тесненьким и темненьким плавсредством, до отказа забитым людьми, а настоящим "лайнером" с просторными и светлыми салонами, диванами, столиками, легкими трапами, по которым Юлька сразу же унеслась на верхнюю палубу. И народу, по сравнению с прежним, поубавилось. Лишь скорость теплохода да блестящая вода за бортом были прежними. Анна вспоминала, как старый таинственный сон, радостные путешествия на том маленьком и тесном теплоходике, где пассажиры и его дрожащие и гудящие борта сливались в одно целое – чужой была только вода, – где полутемные трюмы что-то таили в себе, а с низкого борта, казалось, можно было дотянуться до волны… А здесь… здесь даже туалет был, как в гостинице. И все же Анна радовалась переменам – "Растем!" – и, изучив все удобства нового для нее судна, стала коротать дорогу за чтением, порою отрываясь от книги, чтобы разыскать на палубах Юльку, для которой путешествие по реке было первым в жизни и, конечно, захватывающим.
Спустя полтора часа на берегу появились знакомые очертания села Конецдворье: дома, церковь, колокольня… Анна с забившимся сердцем схватила фотоаппарат и еще на подходе сделала несколько снимков дорогих сердцу с детства силуэтов.
***
И вот Анна, мать и Юлька сходят на пристань, по мосткам идут на высокий…Неужели он был когда-то высоким, этот берег?… Река все размыла, и береговая круча осыпалась, осела, стала покатой.
Вдоль берега путники направились в ту сторону, откуда начиналась дорога на Питяево – там, за деревней, было единственное на всю округу питяевское кладбище. Шли мимо сельпо, и Анна не преминула заглянуть в магазин: что там изменилось? А перемены были… Раньше в магазине и ковер, и мотоцикл можно было купить, а сейчас сюда же перебрался и продуктовый магазин, поэтому невзрачные платья продавались вместе с тараканьей отравой, а гвозди – вместе с хлебом и крупой. Больше, пожалуй, в магазине ничего и не было.
Мать зайти в магазин наотрез отказалась и осталась на улице судачить с деревенской знакомой (может, бывшей одноклассницей?). Анна чувствовала, что настроение у матери не очень-то веселое – видно, кожей ощущает себя здесь уже гостьей, испытывает неловкость, потому и заупрямилась, не захотела заглянуть в сельпо. А может, мать досадует на то, что Анна чувствует себя здесь более уверенно?
Где начинается дорога на Питяево, им пришлось спрашивать. Мужик в ответ махнул рукой: дескать, правильно идете. Значит, не забыли еще окончательно.
Проходя мимо чьего-то хлева, Анна вдруг почувствовала настоящий деревенский запах: пахнуло навозом.
– Юлька, хочешь понюхать, как пахнет настоящий навоз? – спросила она дочку.
Та брезгливо сморщила носишко, а Анна блаженствовала… Юлька взглянула на маму недоверчиво: может, она притворяется?
В загоне они увидели овец и барана.
– Юлька, вот настоящие овцы, – походя пояснила Анна.
– Я никогда не видела их живых! – радостно закричала Юлька. – Но это не овцы, а телята!
Ах, бедная Юлька! Конечно, для нее это были телята. Ну разве могла она себе представить, что какие-то нарисованные книжные овечки окажутся такими большими… как телята?…
Наконец они вышли на пыльную дорогу и зашагали полем. Идти нужно было пять километров. Мать и Юлька вырвались вперед, а Анна сбросила с себя рубаху и, оставшись в маечке, подставила белые плечи палящему солнцу.
Но прогуляться полем и насладиться деревенской дорогой им не довелось. Анна вдруг услышала знакомые звуки и оглянулась. Их догонял красный "жигуленок". "Вот кстати", – сразу подумала она, и только потом удивилась: "Жигули" – на этой дороге? Да это все равно что посреди тундры! Для деревни – лошадь, трактор, грузовик, мотоцикл наконец, но чтобы здесь когда-нибудь появился "проклятый частник"?! Этого Анна не ожидала. Поэтому, когда машина остановилась и они, приняв молчаливое приглашение водителя, дружно уселись в нее, Анна первым делом спросила:
– А куда вы тут на ней ездите?
Грунтовые разбитые дороги, между деревнями – всего четыре-пять километров… Может, и есть резон машину гонять… Но все равно она казалась здесь Анне елочной игрушкой в бетономешалке.
Хозяин только простодушно улыбнулся в ответ: дескать, его игрушка, хочет играть – и играет.
До деревни они домчались за две-три минуты. А до кладбища надо было еще идти лугом. Оно едва виднелось вдали в сени деревьев. "Надо же, деревья успели вырасти", – удивилась Анна. Раньше кладбище издалека блестело оградками и крестами, как лезвие бритвы под лучами солнца. Но она забыла, что прошло семнадцать лет…
Мать кладбища не увидела – она забыла очки дома.
– Куда ты идешь! – раздраженно кричала она Анне, снявшей брюки и уже шагавшей по заросшей травой колее. – Вот дорога! – и она кинулась было в обход распаханной полоски поля.
Анна остановилась и, пока еще благодушно, заорала вслед матери, чтобы остановить ее и направить на путь истинный. Мать заполошно побежала через пахоту. Вскоре они все втроем шагали колеей, а Юлька впервые в жизни собирала по обочинам букет. Из тех же полевых цветов и точно так же, как это делала в свое счастливое время Анна…
***
Вблизи кладбища Анна из почтения к усопшим натянула штаны. К тому же на кладбище были люди, даже много людей, у многих могил.
Мать за кладбищенской оградой растерянно закружилась на одном месте, ища могилу бабушки: она ничего не узнавала. Но на помощь пришли знакомые старушки, которые знали здесь все лучше ее: оказалось, что она кружит как раз возле нужной могилы. Мать сразу успокоилась, зашла в оградку и тут же оживленно начала хлопотать: доставать из сумки крупу, снедь, бутылку вина, чтобы помянуть. Надо было лишь сменить воду в вазе, чтобы поставить свежие, привезенные из города цветы, а в остальном могилка была ухожена, оградка и памятник недавно выкрашены: материны сестры постарались.
Мать суетилась, Юлька бесцеремонно взбиралась на могилу – она впервые была на кладбище, да и вообще мало что понимала. Неподалеку какая-то бабка с молитвой и поклонами кадила над родной могилой… Анна никак не могла сосредоточиться. А ей надо было сосредоточиться, чтобы попросить прощения у бабушки за содеянное и за все, что еще содеется.
В последнее время Анна много о бабушке думала и, неожиданно для себя, поняла, что бабушка была человеком не простым, – не такой, как все смертные. К этому выводу привели кое-какие раздумья, сопоставления, и Анна сейчас уже точно знала, что бабушка со смертью не умерла совсем, а все еще живет среди своих дочерей – бесплотно и незримо. Но сейчас Анна об этом не думала, а глядела на светлый памятник, фотографию бабушки и ничего, кроме спокойствия, не ощущала. Нигде ничего не щемило.
Бабуся с кадильницей (обыкновенной кастрюлькой с ручкой, в которой обычно младенцам варят кашку; сейчас вместо кашки там лежали дымящиеся угольки) подошла и подымила над бабушкиной могилой, пошептала над ней слова молитвы. Она, оказывается, прежде бабушку знала. Мать Анны, чтобы как-то отблагодарить старушку, пообещала ей принести воды с реки – полить цветы на могиле, и, подхватив кулек из целлофана, молодой походкой побежала по тропинке к реке, бойко размахивая кульком-пузырем. Юлька убежала вслед за ней обследовать кладбище, а Анна осталась одна сидеть на скамеечке в могильной оградке.
Пользуясь случаем, она наконец сосредоточилась и мысленно послала мольбу бабушкиной душе, которая, конечно, незримо присутствовала где-то рядом. Попросила прощения за то, что не навестила бабушку перед смертью, хотя и слышала ее немой, пробивший расстояние зов, и еще – попросила снять проклятие с золотой цепочки.
О том, что цепочка эта проклята, Анна догадалась сама, когда сопоставила некоторые факты из жизни родни, а догадавшись, поспешила рассказать обо всем своей сестре, у которой была тогда цепь, – чтоб уберечь от несчастья.
***
Цепочка эта прошла длинный путь, и история ее тянется через несколько поколений, издалека.
Бабушка Анны – она сама ей и рассказывала – в молодые годы, девушкой, гадала однажды в святки с подружками-ровесницами, запершись в чьей-то бане. Смотрела в зеркало одна из девушек – гадала на себя, а остальные подглядывали из-за ее плеча, и вдруг в зеркале показался гроб, бабушка сама его видела. Но тут в дверь бани застучали, в сенцах затопали. Все со страху попрятались: "Черт идет!" – а девушке нельзя, она осталась сидеть, судьбу свою досматривать. В дверь, как оказалось потом, ломился уполномоченный с помощниками – не гонят ли в бане самогон? В то время такие облавы частенько бывали. Выломали дверь. Бедная девушка обмерла и онемела со страху, а вскорости заболела тяжелой скоротечной болезнью и, через две недели после того, как гроб показался, умерла: высмотрела-таки свою судьбу.
Бабушка Анны в то время в конецдворской церкви на клиросе (она называла "на крылосе") пела, все молитвы знала. Родители бедной девушки попросили ее почитать по покойнице, и бабушка сорок дней – у них и жила – по ней читала: отслужила все как надо. За это ей родители девушки подарили золотые часы-кулон с цепочкой. Цепь кованая, длинная, полтора метра червоного золота. Эта цепь потом, в годы войны, хорошую службу сослужила: бабушка ее по кусочкам на продукты обменивала, свою большую семью от голода спасала. Но осталось от нее еще два порядочных куска – по хорошему украшению дочерям на грудь. Но – только двум из пяти. Мать Анны первой замуж вышла, она и цепочку на свадебное платье надела. Но не долго форсила: старшая, Ольга, тут как тут: "Замуж вышла, да еще и цепочку хочешь носить! Отдавай!" Забрала цепь себе. С тех пор цепь у Ольги и была. А другой кусок все у бабушки оставался. Перед смертью она своим "девкам" всем по золотой вещице на память завещала: одной – свои дутые сережки, другой – татино обручальное кольцо, третьей – золотую монету, а двоим – по цепке золотой. Мать Анны после смерти бабушки в дележке не участвовала – не привелось как-то, вот и осталась под конец ни с чем: кто-то помнил, что она на свадьбу цепочку надевала, значит, у нее она и должна быть. Так никакой памяти о маме у Нины и не осталось. А когда где-то к слову пришлось – выплыло, что нет у нее ничего, а Ольга – до чего хитра! – оба куска цепи себе заграбастала.
У сестер суд короток, пришли к Ольге: "Отдай Нинке одну цепочку, мамину память!" А Ольга ни за что не хочет отдавать: у нее две дочери выросли, и эти цепочки она уже им в приданое определила. Одной цепочки мало, а две-то – в самый раз. Она и не из жадности, а оттого, что дочь одну обидеть не хочет, ни в какую не отдает. Но у сестер не забалуешь: "Мама хотела, чтобы всем память о ней осталась, а у Нинки ничего нет!" Наконец швырнула Ольга им цепочку (ту, однако, что покороче) да в сердцах стол опрокинула и брякнула: "Чтоб она там, в гробу, перевернулась!" – это про родную-то мать, Аннину бабушку. Та, может, и перевернулась. А Ольга оставшуюся цепочку старшей дочери подарила…
И вот Анну недавно как осенило, возьми она да и вспомни, что тетка Ольга-то года три назад на один глаз окривела – глаз у нее, конечно, есть, да только не видит. Но еще страшнее стало Анне, кода она вспомнила, что и дочь-то теткина, которой цепь досталась, тоже на один глаз не видит, и ребенок у нее недавно умер, тетки Ольги-то внук…
Анна тут же связала это с бабушкой, золотой цепью да дурными словами тетки Ольги и сделала для себя неутешительный вывод: кто насильно этой старинной цепью завладеет, того ждут несчастья, и немалые. А вспомнила она это потому, что кусок, который ее матери в конце концов достался, присвоила себе младшая Аннина сестра: так уж он ей приглянулся, такой она к золоту вкус почуяла, что и позволения спросить забыла. А когда Анна попробовала усовестить сестру, та чуть было лицо ей не расцарапала – вот она, наследственность, – но цепь ни за что не вернула.
Но с тех пор у сестры жизнь – совсем не сахар! В семье нелады, да и ребенок такой слабенький родился… Да, от фактов не уйдешь. С ними Анна к сестре и пошла, да все свои умозаключения ей и выложила, предложила подумать и от цепочки побыстрей избавиться, но только чтоб добровольно это было – так она рассудила. Сестра, хоть и молодая, а сразу все поняла и тоже испугалась: кинулась придумывать, куда цепочку деть. Дорожила, дорожила, а тут: "Давай ее продадим!" Но Анна это отвергла. Все было не так просто, как казалось на первый взгляд: если на цепи лежит заклятье, то лучшей вещи для этого было не найти – кто ж такую драгоценность так просто выбросит или подарит? Кроме того, это – память; а продашь – может, деньги эти тебе же боком и выйдут… В общем, замкнутый круг. Анна это уже хорошо понимала, сестра – еще нет. "Я ее подарю". – "Еще чего, она ж не твоя". – "Тогда спущу в унитаз". – "Такую-то кучу золота?" Сестра совсем растерялась: смекнула, что в самом деле – замкнутый круг. "Давай я возьму ее себе, – нашлась Анна, – на свой страх и риск, но только чтоб ты отдала ее добровольно. Хотя, черт его знает, может, и это опасно…" Но сестра тут же принесла цепь и с явным облегчением отдала ее Анне. А та со странным чувством унесла ее домой – не к родителям же, – решив, что будет только хранить, а надевать ее не будет.
И вот теперь, тайно все же опасаясь непонятной, недоброй силы цепи, Анна мысленно просила у бабушки снять с цепочки проклятье, если оно есть…
Вдруг она вздрогнула от душераздирающих громких рыданий – на краю кладбища, над свежей еще могилой, заголосила женщина. Оттуда же бежала Юлька, и с кульком воды за ней поспешала с реки мать.
***
Анна поставила цветы в вазу и, наливая воду, пролила порядочно на землю. В сухой примятой траве образовалась лужица, и Анна заметила, что она не уменьшается. Вода стояла, словно ртуть. Для Анны это была невидаль, чтобы земля воду не принимала: в их городе, построенном на намытом песке, лужи высыхали мгновенно. И вспомнилось ей детство – как вот так же у бабушкиного дома проливали они воду из колодца в траву, а потом топтались босыми ногами в теплой мягкой луже, а лужа все не просыхала. И после половодья долго стояли вокруг дома огромные «лывы» – вода задерживалась в поросших травой ямах и стояла, чистая и прозрачная, а женки полоскали в «лывах» белье… «Да тут же глина, – догадалась Анна, – здесь же кирпичные заводы ставить надо!»
Она поделилась запоздалым открытием с матерью. "А что, – не удивилась та, – у нас раньше на краю деревни одна семья рыла глину, делала кирпичи. Как же без кирпичей?" И Анна снова вспомнила, как недавно на дороге "жигуленок" обдал их пылью, и эта пыль пахла так вкусно и знакомо, как печка в бабушкином доме, когда разогревалась, особенно вкусно пахли кирпичи на шестке, когда высыхали. Кирпичи эти были сделаны, конечно, из той же глины, на которой дом стоял, и которая была, казалось, такой жирной и вкусной, что из нее можно хлебы печь, что Анна и делала в детстве, пробуя иногда "собственноиспеченные" пирожки не понарошку…
Мать тем временем приготовила снедь и налила в чашку вино.
– Давай, Анна, помянем бабушку и выпьем за праздник – ведь завтра пресвятая Троица.
Анна выпила, мысленно повторяя свое обращение к бабушкиному духу. В голове слегка зашумело. Мать тоже, перекрестившись, опрокинула "чарку". И тут у ограды появились две женщины: старая и средних лет, крепкая, с русским приятным, но попорченным неровным шрамом лицом. Поздоровавшись, они заговорили с матерью Анны, и та, что помоложе, называла ее "тетя Нина". "Какая она ей "тетя"? – недоумевала слегка захмелевшая Анна. – Они же почти ровесницы по виду! Может, действительно родня?"
– Выпейте с нами, – приглашала деревенских знакомцев мать, – ведь сегодня родительская суббота, поминают всех: и тех, кто умер не своей смертью, и даже тех, кто руки на себя наложил. А нам уж многих помянуть нужно – у нас в семье ни один мужик своей смертью не умер…
Женщины закивали: "Да, да…" – в деревне про деревенских все знали.
– А как у вас Анатолий-то? – тихо спросила женщина постарше.
– Повесился, девка, – так же тихо ответила ей мать.
Анатолий, младший брат матери, помор и сын помора, ловил рыбу на траулере. Всю жизнь в море провел. Жена без него спилась, дочь малолетняя ребенка родила. Самого после инфаркта прямо с моря на инвалидность списали. Вот и стал он никому, кроме собутыльников, не нужен. Как от такой жизни в петлю не сунешься?
Женщины выпили, помянули.
***
Анна невесело перебрала в памяти «мужиков, погибших не своей смертью». Молодых еще, полных сил. Вот напасть на семью! А мать говорит, что началось все давным-давно. Тогда и пало, наверно, заклятье на семью, когда младший брат Анниного дедушки, вернувшись с германской, не пожалел молодой жизни – застрелился, чтоб не женили его на нелюбимой. Так дальше и пошло.
Единственного брата бабушки, молодого Олешу, "соткнул" ножом товарищ за то, что тот назвал его "легавым". Дедушка Анны открыл в семье счет удавленникам. Зять его, Алексей, утонул, да так, что и врагу не пожелаешь. Тут уж все сходились на том, что его постигла кара Божья: при всей своей веселости Алексей так жестоко избивал жену и детей, что, как говорили, заслужил ужасную смерть. Но когда баржа притащила его к берегу на винте, разрубленного на куски (голову, руки, ноги по отдельности в мешок складывали), больше всех убивалась именно жена. Она этой смерти ужасалась, себя винила: если Бог покарал мужа из-за нее, значит, она и виновата. "Это из-за меня, – твердила, – это из-за меня", – да чуть ума не лишилась. Кара казалась ей чрезмерной. Но дядьку сшили и похоронили, а тетку вылечили.
Через два года пришла пора Виктора – того самого, что Анна у деревенского дома фотографировала. На той же реке, что и Алексей, при обкатке нового катера с подвесным мотором – расплатиться еще не успел – утонул, и своего напарника на дно утащил. Моряком-подводником был, а плавать не умел. Еще одна молодая Аннина тетка осталась вдовой с двумя детьми. А потом пришел черед и Николая. И его снимала Анна на фоне дома. Так он да Виктор на фото, обнявшись, и стоят… Николай утонул на той же знакомой реке. Из деревни, с пепелища уже, возвращался. Всю жизнь на катере по этой реке ходил. И вдруг – утонул. Странно, мгновенно: ушел под воду, всплыл, а уже мертвый. И все видели, а помочь не смогли. Тетки потом судачили, что неспроста это: Алексею, когда тот тонул, Николай руки не подал, а Виктор утонул аккурат в день рождения Николая.
Вот такая судьба у мужиков. Теткам – одно расстройство. Они и мужей хоронили, они и детей поднимали. Они все снесли. А мужикам в их семействе как-то не везет. Не приживаются они. Говорят, что без "винишка", конечно, тоже не обошлось… Но в общем – не везет, и все.
Помня о своем роковом, как она теперь считала, фотографировании (как бы на память), Анна даже не рискнула снять задуманный ею фильм об отце – она боялась своего зловещего объектива, боялась навредить (а вдруг?) и отказалась от съемок вообще. Пусть живет. Ведь отец ее – заядлый рыболов, и лодка у него есть…
Старуха, помянув, заспешила домой, а молодая осталась поболтать. Анна тоже подключилась к разговору. Слово за слово, она узнала, что с этой женщиной они в детстве по деревне вместе бегали. Она питяевская, поэтому Анна ее и не помнит, а та Анну помнила, узнала и даже по имени назвала: "Да и как не помнить, мы же ровесницы!" Анна так и осела: "Так, значит, я такая же старая, как она… То-то она мою мать – "тетей"… Действительно, тетя… А я-то кто же?" Анна мысленно взглянула на себя со стороны: джинсики, легкомысленная маечка, чуть ли не бантик на голове – под девочку все еще рядится. Какой же она куклой кажется этой своей ровеснице? Конечно, Аннину одежонку и весь этот имидж к деревенской сверстнице не приложишь, да и по комплекции-то они разные… Но… Боже, какая же Анна старая, оказывается, а ведь не хочется этого замечать…