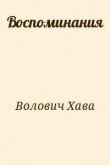Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
– Ты куда? Куда ты, без гроша в кармане?
– Не беспокойся, мне надо навестить тут товарища, я съезжу к нему и вернусь. Он недалеко живет, в сорока километрах отсюда… Не волнуйся, – мягко отстранил ее Илья, – все будет нормально.
И он ушел – глядя на ночь!
Валентина осталась одна: она и беспокоилась, и сердилась, и жалела, и хотела, чтоб этот простофиля был наказан… "Не было печали, так черти накачали", – сетовала она. И другое беспокоило: вернется ли? Даже не простились ведь… Но оставалось одно – только ждать.
Илья приехал на другой же день, к вечеру. Хмурый, сел у стола на кухне и стал мягко, не распаляясь, сетовать:
– Вот ведь, родной человек, а как чужой, не захотел помочь!
Оказалось, что "товарищ", к которому он ездил, – его родная сестра, и живет она не за сорок километров, а гораздо дальше. Приняла она родного братца не совсем так, как он ожидал.
– Вот, росли ведь вместе, я ее, мать защищал, опорой был в семье, мужчиной, а сейчас, как уехала, забыла обо всем, брат приехал – даже не обрадовалась, а ведь пять лет не виделись…
Он сокрушался – и смешно, и жалко было на него смотреть, но Валентина соображала свое: "Хорош, значит, братец, раз сестра его так приняла. Видно, за бесшабашность его не любит, а может, за пьянство… Да мало ли за что – что я о нем, в сущности, знаю?"
– В общем, денег не дала, – подвела она итог рассказу Ильи. – Ну ладно, билет я тебе куплю – не оставаться же тебе здесь…
Казалось, этим все было сказано. Но Илья вдруг повеселел – возможность выбраться-таки домой его обрадовала: есть еще, оказывается, бескорыстные люди на земле!
От ужина, как всегда, он отказался, пощипал лишь немного рыбы. "Опять к ночи потихоньку таскать начнет, когда никто не видит", – вздохнула Валентина. Так было с первого дня: за столом гость не ел, предпочитая таскать из кастрюль. Эти звериные повадки Валентине определенно переставали нравиться, неприязнь не проходила.
К ночи Илья снова впал в благостное и беспечное состояние духа.
– Хорошо тут у тебя! – заоткровенничал он, оглядывая комнату. – Спокойно. Как дома. Прямо рай. Уезжать не хочется…
Валентина хмыкнула: "Ничего, придется…"
В эту ночь она спала с детьми.
***
«Чайка моя одинокая… Деток своих прикрываешь от непогоды, от лихого человека… Милая, нежная, ласковая, русалка моя длиннокосая, завлекла меня в края далекие, покоя лишила – но Бог с тобой, удачи тебе, солнце ясное…»
***
Наутро Валентина отпросилась на работе, Илья про свою «командировку» и не упоминал. Вместе они отправились в кассу за билетом. Валентина не знала: грустить ей или радоваться от того, что Илья уезжает.
Очередь за билетами, как всегда, была бесконечной, и им пришлось присесть на лавочку, подождать.
– Илья, а сколько тебе лет? – запоздало поинтересовалась вдруг Валентина.
– А отгадай, – жеманно уклонился от ответа Илья.
Валентина принялась гадать, но ни разу в точку не попала. Наверно, он казался ей слишком старым. Наконец Илья признался сам. На восемь лет моложе ее? Валентина не поверила: не может быть! Они, по меньшей мере, должны быть ровесниками! Когда же Илья успел так постареть? Поистаскался, что ли?
– Не верю я тебе, покажи паспорт, – решила удостовериться Валентина: она еще не устала удивляться гостю.
Илья с готовностью достал документ:
– Смотри.
Валентина распахнула книжицу – естественно, не в том месте, естественно, не нарочно, – Боже, а там штамп: "…зарегистрирован брак с гражданкой…" Валентина с изумлением уставилась на Илью:
– Так ты женат?
– Да, – ничуть не смутился Илья, – но с женой я сейчас не живу, – запел он обычную песню женатиков. – Она ушла от меня. Знаешь, такая история вышла… Я под Новый год Дедом Морозом по домам ходил, детишек поздравлял. Ну, в каждой квартире, по традиции, подносили. Отказаться нельзя – людей обидишь. В общем, я так напоздравлялся, что проснулся утром в чужом доме, на полу, со Снегурочкой в обнимку…
Валентина живо представила эту картину, и похотливый туман снова липко коснулся ее…
– Жене тут же донесли, – продолжал Илья, – это было последней каплей в чашу ее терпения, и она ушла к матери, и сына с собой увела. Ты знаешь, какой у меня сын? О-о!.. – глаза Ильи загорелись от восхищения. – Рисует, – умница! – сказки уже сочиняет. Раньше я ему сочинял – теперь он сам. Точная моя копия! Жена не разрешает с ним видеться…
Валентина, услышав это, зашлась непонятной ревностью. Не к ней, жене, а к сыну. Там у него сын! Значит, он принадлежит сыну, и больше никому, это же ясно! То, что Илья с женой не живет – в это она безоговорочно поверила, попадаясь на обычную затасканную уловку мужчин, поверила, потому что так хотела и потому что на это было очень похоже. Даже если Илья врал, не страшно. Но сын! Это значительнее. Это конец. Он никогда не оставит своего ребенка…
Илья что-то еще продолжал рассказывать о своем обожаемом мальчике, а Валентина уже скукожилась, зажалась, ушла в себя: успел ведь Илья, как оказалось, влезть к ней в душу за эти дни, прочно поселился в ней, жаждущей тепла и ласки – как вырвать теперь его? О, Боже! Что ни встреча у нее – то страдание. За что? Почему это все – ей?.. Она чуть не плакала.
Очередь в кассу наконец подошла. Получили билет. "Деньги вышлю, как только вернусь", – пообещал Илья. Валентина безразлично кивнула головой – не велика потеря, если и забудет.
В тот же день она проводила Илью на вокзал – ночь он решил провести у "друга", поближе к аэропорту. Простились по-человечески, тепло. Илья за все благодарил, Валентина смотрела печально – знала, что увидятся теперь вряд ли…
***
Через неделю из Нарьян-Мара пришел денежный перевод и… приглашение Ильи приехать, с приложением пропуска в закрытый для всех Нарьян-Мар. Сердце Валентины подпрыгнуло, заныло… И ей захотелось своими глазами увидеть тундру, те места, где Илья вырос, бегал мальчишкой, пощупать ненецкую жизнь руками. Ей представлялось, как они вдвоем сидят на берегу океана в далекой Тапседе и смотрят, как погружается в воду огромное неяркое солнце, – сидят на краю земли… Она решила съездить непременно – будь что будет, – когда потеплеет… Но вслед за письмом Ильи пришло письмо от… его жены. Письмо обстоятельное, вежливое, спокойное: «Оставьте моего мужа в покое, у нас растет сын – его точная копия, он не должен остаться без отца», – писала женщина, давно «бросившая» своего мужа и «прятавшая» от него ребенка.
"Да что же у меня в этой тундровой истории все с ног на голову-то встает? – разозлилась Валентина. – Я, оказывается, причина всех зол?" Она не столь была сражена тем, откуда женщина узнала ее адрес, сколь тем, о чем она просила. Значит, получается, что она, Валентина, оказалась еще и "разлучницей коварной"? Ну, это было уже слишком! Забыв о всех теплых чувствах к своему неудавшемуся ухажеру, она отписала встревоженной женщине ответ, а в нем изложила все, что она думала о ее муженьке как о мужчине – все то, что не решилась сказать ему самому, – и тем, надеялась, ее навечно успокоила. Излив душу, она опустила письмо в ящик, не вполне сознавая, – а стоит ли из-за всего этого ломать копья? Во всяком случае, на Илье ею был поставлен огромный крест, а заодно и на всех мужиках.
А еще через неделю пришло короткое письмо от самого Ильи. Валентина долго не могла понять его смысл. Он писал: "Я заболел, когда вернулся… Тебе самой надо срочно лечиться…" О письме жены он не упоминал – видно, не знал о нем. Валентина, трижды перечитав, ничего не смогла понять из его письма. Чем он заболел? При чем тут она сама? От чего надо лечиться? Она ничего не поняла, но как будто чем-то темным и липким запачкалась от этого письма. И, нарушая запрет жены, послала Илье скорое письмо-вопрос: "Объясни, я ничего не понимаю", на что вскоре и получила ответ: "Не надо прикидываться, мы взрослые люди, говорю – тебе надо срочно обратиться к врачу…"
Валентину разозлил этот ответ, ничего не прояснивший, но из которого стало понятно одно: "жених" не иначе как заболел какой-то венерической болезнью – при одном упоминании о ней Валентине хотелось пойти помыться. За свое здоровье она, тем не менее, была спокойна – не болела и не болеет. Но не мог же Илья подцепить болезнь за такое короткое время в Нарьян-Маре, уже вернувшись, не мог и здесь – от кого? Значит, он к ней уже больным приезжал, жил здесь, любил ее, и теперь… У Вали волосы встали дыбом. Она вдруг вспомнила, что Нарьян-Мар – это же портовый город!.. О ужас! Значит, она теперь больна? Но чем? А дети? Может, она и их уже?.. Непоправимо!
Валентине захотелось умереть сразу – до того, как она окончательно узнает, что заболела какой-то ужасной болезнью. Как же это можно пережить? Лечиться… Нет-нет, это смерти подобно, она не переживет! Позже, поразмыслив, немного успокоилась, набралась решимости, приготовилась ждать – когда проявятся хоть какие-то признаки неизвестной болезни.
Ожидание было адом… Страх перед позором мешался с горечью, горечь – с отчаяньем, отчаянье переходило в иронию: "А Илюша-то меня за потаскушку принял, раз считает, что это я его наградила, и так настойчиво советует "идти лечиться"… Да что же это. Боже, угораздило же меня вляпаться: первый раз – и так больно!"
Со временем – прошел уже месяц, но никаких "признаков" так и не появилось – Валентина, отчаявшись, нашла способ, не вызывая подозрений, сдать нужные анализы и убедиться, что она здорова и чиста… Страхи ее наконец стали отступать. Полюбила, называется, два дня!.. Илью, его жену… сына… ей хотелось поскорей забыть как ужасный, кошмарный сон.
Но сон забывался с трудом, тем более что от Ильи вдруг пришла телеграмма: "Встречай меня, я привезу тебе лекарство". Удивившись его, такой навязчивой, заботливости, Валентина уверенно ответила письмом: "Не надо приезжать. Будь здоров". Но письмо не успело: на другой день к вечеру Илья звонил в ее дверь. Зашел в квартиру стремительно, как будто с соседней улицы в гости заглянул, в руке – пакет с лекарствами, как будто так их всю дорогу и нес, как эстафету. Предложил настойчиво:
– Давай я тебе сразу сделаю укол, сейчас.
Валентина со смешанным чувством удивления и брезгливости смотрела на него и думала: принимать ей все происходящее всерьез или нет, выгонять Илью взашей или благодарить за участие в ее судьбе? Потом ответила с чувством:
– Я здорова, а тебя Бог наказал за твое беспутство. Прощай.
И Илья, заглянув в ее глаза, вышел так же: словно на соседнюю улицу возвращался, – не раздевшись, не присев к столу, не взяв ее за руку… Уехал в свой далекий Нарьян-Мар.
Валя, ухватив пакет с лекарством двумя пальцами, запрятала его в темный угол. Только чувство брезгливости помешало ей расплакаться.
***
Прошло три года. Валентина о «тундровом человеке» и думать забыла. И однажды, в шесть часов утра, когда в дверь настойчиво позвонили, открыла, ничего такого не ожидая. За дверью стоял Илья.
Брови Валентины поползли вверх: откуда? Какими судьбами? Илья смотрел неуверенно – не ожидал, что его тут же не прогонят. От него несло "свежачком" – как видно, недавно из-за стола поднялся.
– Ну входи, – пригласила гостя забывшая и простившая все Валентина.
– Спасибо тебе. Я думал, что ты уж не примешь меня, – с достоинством ответил Илья.
– Выходит, ты так и не изучил мой характер.
– Да, твой характер – как камень… А я – как морская волна: набегу, плесну штормом – а толку-то…
– Да что уж, заходи.
Валентина прошла на кухню. Илья разделся и уселся за стол напротив нее. Присмотрелись друг к другу – перемен никаких не произошло, все такие же.
– У меня самолет в Нарьян-Мар в десять часов.
– Правда? – не поверила Валентина.
– Да, вот билет!
Действительно, до отлета самолета оставалось три с половиной часа. "О безрассудный, взбалмошный, заводной мужик, что привело опять тебя сюда? Меня явился смущать?" И вдруг…
– Пойдем, закажем сыночка.
– Зачем?
– У нас с тобой должен быть сын.
– Почему?
– Да потому, что мы с тобой давно уже – как муж и жена, неужели ты не понимаешь?
"Очень давно… да только редко", – усмехнулась Валя.
– Значит, ты закажешь сыночка – и ту-ту, а я здесь буду воспитывать троих на одну зарплату?
– Да при чем тут это? Моя мать нас пятерых вырастила в тундре, мы у нее – как пять лучей, и у тебя должно быть три луча, ярких и негасимых, – это твои лучи!
– Тогда проще было растить, пропитание себе сами добывали – вон оно, в море. А сейчас?
– Да – она воду на себе ведрами таскала, не то что вам – кран открыть… Вообще, не понимаю, как вы тут, в этой каменной клетке, живете. Как представлю, что ты, твои дочки – в этих каменных стенах… кровь закипает. А я… сижу так на берегу, на сто километров – туда, туда, туда – никого нет, только чайки над водой. Ну еще иногда всплывет на горизонте подводная лодка – которые ты рисуешь… И я знаю – это привет от тебя. Тишина, лучи солнца преломляются в облаках; тащу невод, а в ячее – твои, вот эти, глаза, ну, думаю, русалку мою сейчас вытащу – ан нет… И везде – ты, в облаках и в воде. Задумаешься – тишина, капли падают с весла, напарник рядом молчит. Подгребешь немного, глядь – а в туманной дали всплывает лицо, твое лицо… Давай, закажем сыночка! У него будет отец. А может, я скоро загнусь, а он будет помнить меня и отчаянно любить тебя!
– Но почему ты решил, что обязательно будет сын?
– Я это чувствую! Время мое пошло – во мне сейчас бродит мужчина! Я знаю наверняка, что будет сын. Это не объяснить!
– Ты чувствуешь это сердцем?
– Нет, это кипит во мне, в крови, во мне клокочет мужское начало, я твердо знаю, что будет мальчик. Нам нужен сын!
– Но ведь ты уедешь, а он будет между небом (тобой) и землей (мной)?
– Но он нужен тебе как опора, как вот я сейчас – для своей матери. Он тебя спасет, оградит от всего, как я ограждаю, это будет вся твоя надежда!.. Валюша… Ты смотришь на меня, прямо как Афродита… Я ее видел!
– Где? В Тапседе?
– Да… Она вышла из морской пены и сказала, что заберет меня с собой… И я знаю, что она меня заберет… Умоляю, пойдем, нельзя терять времени! Он будет сильный и здоровый, как сама природа, я знаю!
О, эти зажигательные речи! Вале захотелось всего, о чем говорил Илья, – сына с такими же глазами, такого же мечтателя, такого же возвышенного и земного, необъятного, как сама природа и талант, сильного, красивого, неистребимого… Захотелось так же сидеть на берегу и смотреть на солнечный венец, пробивающийся к поверхности моря сквозь розовые облака… Потрогать руками тундру…
"Твои волосы – как морская капуста, когда она лежит на берегу и в ней играет солнце… Ты моя единственная Русалка…"
Сердце Валентины рвалось на части: одна была уже с ним, в небесах, другая прочно держалась за землю. Одна кричала: "Сдайся, опомнись, воспари!" – другая знала: всю оставшуюся жизнь придется мотать сопли на кулак. Одна звала на дикий комариный берег, другая знала, что любое новое измерение – это лишь разбухшая до неприличия обычная точка… Первая была – Мечта, у нее были крылья, вторая звалась Реальность. Снова и всегда – реальность!
– Нет.
– Мы должны, должны это сделать сейчас, ведь я уеду надолго, может, навсегда…
– Уезжай. Скорей.
Она торопила – сердце ее было неспокойно, сердце рвалось и звало, звало… Его присутствие становилось опасным.
Когда он уехал, она долго глядела куда-то за окно. В тундру, Тапседу, море? И боялась, боялась представить себе его маленькую реальную копию… Его маленькую реальную копию… И была она очень печальна и грустна, очень. Но странно – ей почему-то захотелось жить, ей снова захотелось жить!
1990
Точка скрещения времен
Она должна была встретиться с Тряпкиным – своим бывшим, – поговорить об алиментах: собирается ли он их платить? С прежнего места работы он уволился и уже полгода увиливает, денег не платит и на глаза не кажется, но вот вроде бы поговорили по телефону, согласился придти, встретиться.
И вот идет она из института, счастливая – отчего, сама не знает, – довольная, какой давно не была, с ней – друг ее, избранник, что еще добавляет радости. Идут они мимо пивного ларька. Народу много, все балуются пивком, компаниями расположились, кто на чем, прямо неподалеку от ларька. Галина невольно стала искать глазами Тряпкина: он вполне может быть тут, слаб он на это дело. И вдруг видит: идет, конечно же подвыпивши, в заношенной рубашечке с короткими рукавами, похудевший, как будто пьет не первый день… Ее не видит. Галина схватила его за руку повыше локтя – тело жидкое, кожа да кости, мышцы дряблые, – потянула в сторону…
Ну вот: смотрит оценивающе на обоих. Ее-то друг – точная копия Тряпкина, только чуть потолще и сантиметров на десять пониже ростом… вот незадача. Не любит Галина низеньких. Тряпкин сразу же вырастает в ее глазах еще на десять сантиметров. Она шутя хватает его под ручку и прижимается к нему (а как когда-то хотелось этого!): "Ну, как мы смотримся?" – обращается к налетевшим невесть откуда (наверно, с лекций) ее подружкам. "Ну-ка, Ритка, встань рядом с ним…" Тряпкин держит кружки с пивом, смущенно ухмыляется, Ритка сбоку прислоняется к нему – когда-то Тряпкин был красавцем, – они смеются…
И вдруг Галина видит девчонку – такую же бледную и тощую, запущенную замарашку, как Тряпкин, – его дочка, понимает. Прикидывает в уме: сколько же ей лет? "Должно быть двенадцать – на год постарше моей, моей одиннадцать. А на вид – так лет семь-восемь…" И девчонка-то – не пьяна ли?.. Крутится тут среди мужиков…
Галя когда-то оставила дочь Тряпкину при разводе и не видела ее уже лет восемь… Вдруг всплывает что-то забытое, сердце пронзает жалостью, и она, забыв о Тряпкине и подружках, кидается к девочке: "Иди-ка к маме, посиди у мамы на коленях!" Ребенок не отказывается, ставит в песочнице свою коробочку, в ней что-то… какие-то камешки, какие-то листья смятые кладет туда… "Она жует табак?" – удивляется Галина, хочет отбросить эти листья, но дочка аккуратно и деловито засовывает их в коробочку, и вот она уже на коленях у Галины… И вдруг совершенно чужой, забытый ею ребенок прижимается к ее груди, взглядывает на нее снизу: "Мама?.." Галина обнимает его, крепко прижимает к себе… и вдруг разражается рыданиями – они прорываются сами, – рыданиями, как по умершему, выплакивая всю свою вину и жалость к девочке: "Зачем я ее оставила ему, зачем?!" Она рыдает в голос так, что и мертвого подымет, и вдруг краем глаза замечает, что подруги с ужасом смотрят на нее… и просыпается.
Она лежит, обхватив лицо ладонями, все еще под действием этого, пришедшего во сне, невыносимого чувства жалости и покаяния, все еще слышит свой вой, и не может от этого отойти, избавиться, хотя все на самом деле в жизни не так, как во сне: и дочери обе с ней, и институт Галина давно закончила – старшая ее дочь уже сама студентка вуза, младшая учится в английской школе языкам и в художественной – рисованию; науки постигает… И не она это, а Тряпкин про детей забыл, бросил, и лет пять уж их не видел… Все не так, как во сне!.. Но успокоение не наступает. Откуда ж этот сон, откуда?..
И вдруг она понимает, что эта девочка из сна – да, это она, ее старшая дочь Нина и есть, и раскаяние ее не пустое; это она, бывшая шестиклассница Нина, которую в этом возрасте Галя уже ни разу не брала на колени, потому что была другая дочка, еще маленькая, – ей нужен был уход, внимание, а Нина, ее Нина уже с пятилетнего возраста была для Галины как бы взрослым и самостоятельным человеком, и как взрослый и самостоятельный человек она была лишена материнской ласки, которая доставалась другой – маленькой… Эта девочка из сна была и ее Тряпкин, которого родители точно так же в свое время отстранили от себя, потому что он обманул их ожидания: родился и рос не таким, каким должен быть у таких родителей, а глупее, наивнее, никчемнее – и потому так же был обделен родительской лаской, интересом к нему. Эта девочка была и сама Галина, которая была старшим ребенком в семье, как и Нина, и ласки материнской не помнила вовек. Эта девочка была и ее младшая дочь Иринка, которой ласки тоже не хватало (а где ее взять, ведь друга-избранника, мужчины, который любил бы ее, у Галины со дня развода с Тряпкиным так и не завелось, это только мечта, воплотившаяся во сне…). И Галина, все еще не отнимая рук от лица, жалела обеих своих дочерей, так несправедливо обделенных ею, к тому же полуголодных, полураздетых – ведь растит их она только на свой заработок, такой скудный по нынешним временам… Жалела она и Тряпкина, по глупости своей так и не видевшего, как дочери выросли, пропустившего все и отдалившегося от них, кровинок своих…
И тут Галина принимает твердое решение: с сегодняшнего дня она поведет себя с детьми иначе, ведь это-то она может – обнимет, приласкает Нину при первой же возможности (она не обнимала дочь уже лет пять), поговорит с ней по душам – может, дочь станет с ней ласковей, откровенней, перестанет так часто уходить поздно из дому… Она начнет кормить завтраками младшую… Нет, не начнет. Колбаски для бутерброда или сыра купить все равно не на что… Тогда начнет заплетать ей косички, хватит Иринке такой мочалкой в школу ходить. Правда, Галина сама же и виновата: хотела приучить ее прибирать волосы самостоятельно, перестала заплетать ей косу, а в результате девчонка, помаявшись с волосами, отчекрыжила свои шикарные, до пояса, косы… Из-за кос Галя и Нину отказалась в свое время в ванной купать, когда та маленькой еще была: уж очень она визжала, если мыло в глаза попадало… Все старалась себя от лишних раздражителей оградить, а мало ли таких, раздражающих, причин в жизни было? Так сама от детей и отодвинулась, сама отошла. Устала она, теперь уже понимает, что устала, а когда устала – десять лет назад или пять – не заметила. Но с сегодняшнего дня… Лучше позже, но все-таки успеть, догнать!.. К черту усталость!
Она поднялась и пошла будить младшую:
– Иринка, вставай.
Потом нашла красивый бантик, взяла расческу:
– Ириша, давай я тебе волосы приберу, отрасли уже, некрасиво таким помелом в школу ходить.
Заспанная Иринка сердито увернулась от расчески:
– Иди ты от меня, я сама… – и принялась хмуро собираться в школу.
Галина спорить не стала: с этой – бесполезно…
– А чайку попьешь? Согрею.
Иринка взглянула заинтересованно:
– А с чем?
– С булкой, с маслом…
– Нет! – отрубила Ирина, и опять спорить не имело смысла.
Голодный, кое-как причесанный ребенок, самостоятельно водрузив на спину тяжеленный ранец, хлопнул дверью…
Тоска и безысходность придавили Галину с его уходом. Такая тоска… И вдруг со страхом и острой болью подумалось: а как же там Нина, старшая, в чужом-то городе? Она-то как перебивается? Потом слабой тенью мелькнуло: а как там неудачник Тряпкин, в своей новой семье? Здоров ли?.. Хлипкий он, жалконький какой-то. И все жалче и жалче становится, хоть и наглее… А как там?.. Кто же это все-таки, откуда? Галина вспомнила девочку-замухрышку из сна, ее робкий взгляд снизу, неуверенный вопрос: "Мама?.." Может, это…
Но тут она схватилась и, отметая мысли, заторопилась: наваливался новый, угрюмый рабочий день.
1996