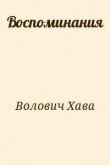Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
***
Через два дня Марусе в палату принесли письмо. Она взяла его недоверчиво – долго не могла понять, от кого оно, как ее нашло, кто о ней мог думать в этот момент; наконец узнала на конверте корявый почерк матери и распечатала письмо.
Мать писала на адрес больницы и просила главного врача отправить ее глупую дочь домой, в деревню, где она ей все волосы на голове выдерет, но ребенку пропасть не даст: ребенок не виноват.
Маша прочитала, обрадовалась – и заплакала, снова перечитала эти строки и вдруг поняла, что у нее есть дом, где ее ждут и где пропасть не дадут. В ней забрезжила надежда на окончание ее мытарств… Что ж, в деревне сейчас каждый может ткнуть ей в глаза ее позором, но ребенка-то у нее никто не отнимет, и к тому же она будет дома, дома!
Выписавшись вскоре из больницы, она отправилась с ребенком прямо на пристань, а там, дождавшись теплохода, с замиранием сердца ступила на его железную палубу – как будто ступила на родную землю…
Ранним утром теплоход подошел к грубо сколоченной деревянной пристани, за которой, на угоре, возвышались до боли знакомые силуэты церкви и колокольни. Несмотря на ранний час, на пристани, опершись на перила, стояли любопытные пацаны и женки, встречающие теплоход "из города". Маша, обхватив покрепче ребенка и опустив глаза, заспешила мимо них на берег. Возгласы удивления подстегивали ее – "нашлась пропажа, да с приплодом", – ее узнавали, таращились, начинали обсуждать.
Угором она прошла вдоль деревни до сельсовета, взошла с бьющимся сердцем на высокое крыльцо, темными сенями прошла к материной каморке. Дверь была полуоткрыта. Потянув ее на себя, Маша переступила порог. Мать она увидела лежащей на кровати одетой, лицом вниз. "Пьяная заснула", – подумала Маруся с неожиданным приливом нежности. Но, подойдя ближе, она увидела, что мать лежит как-то неловко: рука отброшена в сторону под странным углом, ноги в ступнях вывернуты, на шее глубокий порез с развалившимися краями… Взвизгнув, Маруся отшатнулась, и тут увидела брошенный у кровати маленький топор, темнеющую бурым краем из-под кровати, запекшуюся лужу…
Обезумев от ужаса, чуть не выронив ребенка, Маруся бросилась вон, слетела вниз по ступеням, с нечеловеческим криком выскочила на улицу. Во дворе она налетела на председателя сельсовета Петра Ивановича, который шел на работу. Он схватил ее в охапку, встряхнул, посмотрел в ее обезумевшее лицо и, ничего не спросив, выпустил, бросился в дом, с опаской заглянул в каморку…
К сельсовету быстро стеклась толпа. Маша, сидя на завалинке с ребенком на руках, застланными мокром глазами смотрела, как из дома выносят на носилках недвижимую мать с раскинувшимися, свисающими с носилок ногами и руками, как кто-то в углу двора закапывает свернутое в узел окровавленное тряпье с кровати; слушала, как охают и причитают бабы, понося какого-то Давидка, который похаживал последнее время к сторожихе да и убил ее: "Он, кто же еще", – приревновав к какому-то заезжему забулдыге, по-звериному расправился с ней: ноги-руки вывернул, да на-последок саданул топором по башке – "да что ведь, далеко не уйдет, дома поди и спит, пьяница окаянный…"
Давидку, действительно, нашли дома и, заспанного, злого, еще не просохшего от ночной попойки, со скрученными за спиной руками, отправили теплоходом в город.
Старухи, что сновали мимо закаменевшей Маши, навели в каморке, где произошло убийство, кой-какой порядок, поприбрали, вымыли пол за покойником, и народ постепенно стал расходиться от сельсовета, стоящего на отшибе – мужики и женки, тревожно гудя, побрели по своим делам.
Маруся, поднявшись с завалинки, как чумная, побрела в дом, вошла в каморку, переложила ребенка с занемевших рук на сундук. "Мамушка… – заскулила, – что ж ты не дождалась меня, внучки своей не увидела, как же я без тебя, как же?.. Как мне быть одной?!." – беззвучно причитала она. Но быть надо было. Оглядевшись, она нашла на тарелке несколько ржаных калачей, со слезами погрызла засохшей последней материной стряпни, потом поставила чугунок с картошкой на очаг, а очаг разжечь забыла…
Но весь день деревня не оставляла ее одну: в каморку к ней приходили мужики и бабы, что-то приносили, чем-то ее кормили; протискивались в низенькую дверь, садились на скамью, стояли у дверей – молча сочувствовали, молча выходили, сменяли друг друга.
Вечером, когда все разошлись и сельсовет опустел, Маруся осталась в каморке одна. Засветив лампу, она села к окну, со страхом косясь на кровать, где еще утром лежала мертвая мать: тело ее снова сковал ужас, казалось, даже волосы шевелились на голове. С надеждой смотрела она на маленькое окошко, поторапливая и без того скорый северный летний рассвет. Ребенок тихо спал на сундуке. Маруся, задремывая, вскидывалась вдруг, со страхом вслушиваясь: дышит ли? Наконец и ее сморило: она задремала, уронив голову на руки.
Но вот ребенок заворочался и кыркнул, прося есть: наступило время первого утреннего кормления. Очнувшись, Маруся взяла на руки дочку и начала кормить ее, вновь и вновь умиляясь своей малютке: "Одни мы – да не одни, нет, вот нас сколько, вот мы какие маленькие… жаль, бабушка не видала…" – Маша всплакнула было, но побоялась напугать ребенка. Покормив его, она подняла отяжелевшую голову – и легкая улыбка тронула ее лицо: за окном, как и в далеком теперь ее детстве, золотя купола церкви, вставало неяркое утреннее солнце, заливая всю деревню и маленькую ее каморку ровным и теплым светом.
1986
Зимняя поездка в деревню
– Ха-ха-ха, ха-ха-ха!
Нина осторожно прицепила впереди сидящему студенту под воротник бумажку с надписью, выведенной крупными буквами: "ЛЮБЛЮ Я МАКАРОНЫ", и обе подружки дружно пригнулись к столу и залились смехом в согнутые локти, дабы не разбудить всех спящих на лекции.
Но вот прозвенел звонок, и студенты мигом сорвались со своих мест, нестройно потянулись к выходу. Следуя за однокурсником с "макаронами" на спине, подружки прыскали до тех пор, пока он не обернулся и не стал судорожно хватать себя за ворот. Сорвав бумажку, он скомкал и швырнул ее не читая – проделки эти были хорошо известны курсу, – а девчонкам погрозил кулаком, что, впрочем, было так же не солидно, как и вышеупомянутая бумажка, – третий курс все-таки…
Одевшись, подружки вышли на мороз и остановились у дверей института. Последняя лекция закончилась, впереди сессия и – масса, масса свободного времени! А экзамены – они как-нибудь, сами собой, не впервой уже сдавать, ученые… До первого еще целых три дня. И надо их потратить с толком, весело, а начать надо прямо сегодня, сейчас же, не откладывая в долгий ящик.
– Ну, Нинка, куда двинем? – приступила к делу Наталья, размахивая сумчонкой с лекционными тетрадками и поеживаясь от задиристого мороза. Но Нина вдруг скуксилась и, отведя глаза в сторону, заскучала.
– Ты что это? Опять в сторону, предательница? – заподозрила что-то Наталья. – Ну? Отвечай!
Нина все так же скучно смотрела мимо Наташи, не в силах начать оправдываться. Действительно, как-то часто стало так получаться, что она начала изменять их девичьему братству, скрепленному тремя годами дружбы… Но тут уж ничего не попишешь: появился третий, о чем Наташа еще не знала, и как ей тут объяснить – да никак не объяснить, – что он для Нины дороже подруги, что это ее будущее, любовь и надежда, да и огорчать Наташу не хочется… И Нина молчала.
Поняв, что за ее молчанием ничего хорошего не последует, Наташа повела атаку: начала с жаром уговаривать Нину, пытаясь переманить на свою сторону колеблющуюся, как ей казалось, подругу:
– Ну Нинк, пойдем, зайдем в "Дельфин", по чашечке кофе трахнем, по двойному, а? В киношку можно завалиться, а там придумаем что-нибудь. Уроки кончились! Пойдем, а? Ну чего ты? Бросай эти свои штучки, фиг ли ты…
Нина вздохнула. Да, раньше она, конечно, с радостью бы, "задрав хвост", и уговаривать, и объяснять бы ничего не пришлось – они с Натальей друг друга давно без слов понимали, и желания их всегда совпадали, но сейчас… Все эти маленькие радости перекрывала одна большая, новая, неизведанная – правда, сегодня она не то чтобы радость, а наоборот, но… Нина давно уже не принадлежала самой себе, не принадлежала и подруге. Но как ей это объяснишь…
– Наташк, ну ты придумай что-нибудь… Сходи к кому-нибудь в гости… Ну… поспи, почитай что-нибудь, – лукаво, предваряя взрыв негодования подруги, заговорила она. – Или подумай над тем, что мы будем делать вечером… Ты же всегда то что надо придумываешь. Ну мне надо сейчас домой пойти, – она вздохнула и посерьезнела. – Я не могу с тобой… Давай до вечера, ладно?
– Что-то ты темнишь последнее время, подружка, – подозрительно глядя на Нину, недовольно заговорила Наташа. – Что там у тебя, а? Выкладывай! Рассказывай давай, рассказывай… Не хочешь мне сказать? – она ревниво и обиженно замолчала. "Ну погоди, ладно, я тебе тоже… чего-нибудь… Вот погоди… Тоже не скажу…" – думала Наташа, но у нее не было этого "чего-нибудь" под рукой, и она ничем не могла сейчас отомстить подруге.
– Ну не сердись, я тебе вечером все расскажу, ладно? Все расскажу. А сейчас мне надо бежать. Хорошо? – Нина просительно взглянула на Наташу, та расстроенно и обиженно махнула рукой и, оттопырив нижнюю губу, повернулась и пошла от Нины. Но у поворота все же обернулась и крикнула: "Так смотри, приходи!" – и тогда Нина, получив отпущение грехов, побежала к остановке автобуса. Для нее уже не существовали ни институт, ни обиженная подруга – она неслась навстречу своему счастью.
Счастье ее состояло в некоем студенте пятого курса Романе Соболеве, с которым она познакомилась не так давно на дне рождения своей бывшей одноклассницы. О его существовании Нина, конечно, всегда знала, и он ей даже нравился, но что может получиться именно так, она не ожидала. У подружки – Нина тогда немного опоздала – она увидела Романа как будто впервые, а увидев, словно сфотографировала для себя навечно. Он повернулся к ней улыбаясь, и таким навсегда остался в ее памяти. Она не верила, что бывает любовь с первого взгляда, а вот бывает, и еще какая! И не страдание, а счастье. И не случайно в тот вечер Роман пошел ее провожать – тогда, когда их глаза встретились, будто искра пробежала между ними и зажгла обоих. И вот они горят, рядом и мерно. Роман – с ней, он – ее, и больше ничей, и она вся принадлежит только ему, и пусть Наташка не обижается…
Но сегодня – Нина, вспомнив, испугалась, – сегодня грустный день: сегодня Роман уезжает к родителям на три дня, и она проведет с ним вместе только три последних часа, что остались до его отъезда… И потому Нине надо было как можно раньше попасть домой. Она прибавила ходу.
***
В семь часов вечера в квартире Наташи раздался телефонный звонок. Она нетерпеливо схватила трубку.
– A-а, это ты, несчастная, где ты пропадала, не могла пораньше позвонить, я тут такое придумала… Слушай: бери лыжи, одевайся теплее, похавать чего-нибудь на два дня – и ко мне.
– А лыжи-то зачем?
– Поедем в деревню, там идти далеко, лыжи нужны. Баньку истопим, попаримся, два дня в деревенском дому поживем. Поедем?
– Да, а как с матерью быть? Она меня убьет.
– Да ты что? Не уговоришь, что ли? Это ведь недалеко. Два дня – и все. Соглашайся! Экзотика! Чего дома-то киснуть? В общем, через час чтоб была. А я еще Семе позвоню, возьмем его с собой, чтоб веселее было. С ним не пропадешь. Ну давай!
Наташа надавила на рычаг и набрала новый номер. С Семой – он учился тремя курсами старше – договориться ничего не стоило: Сема был легок на подъем. Кроме того, Наташа знала, он обожал обеих подружек за их веселый нрав, никогда не унывающий характер (а Наташу давно и безнадежно любил). Он принимал участие во всех их, даже самых бредовых, затеях и, будучи по природе джентльменом, а по характеру очень мягким и отходчивым человеком, позволял подругам вытворять над собой какие угодно штучки – возможно, принимал их за знаки особого расположения, – на что девчонки были большие мастерицы, и только иногда, когда они очень уж расходились и душа его не выдерживала, он начинал умолять: "Женщинки… Ну что вы со мной делаете?" За терпение он и был подругами любим и постоянно жалован таким вот вниманием: ну какой мужчина позволит обращаться с собой так бесцеремонно и вытворять с ним все, что только душеньке захочется? Таких в природе не найти, а Сема был именно таким – многотерпеливым, как вода: сколько ни режь ее ножом, она все такая же. Не углубляясь в дебри их отношений, можно привести только один характерный случай: однажды подружки плавали в бассейне, а Сема пришел на них поглазеть, и они, шутя, столкнули его в воду во всем обмундировании – брюках и свитере, – после чего Сема только тихо стенал от возмущения, вылезая из воды на бортик бассейна – на слова у него уже не хватило сил. Другой на его месте что бы сделал? Догнал обидчиц да накостылял – отомстил бы, зло сорвал, смертно обиделся, а он – ничего: подождал только, пока вода с брюк отекла немного, и отправился в таком виде по морозцу домой, как ни в чем не бывало. А подружки с виноватым видом тащились за ним и сопровождали его так до самого дома, тихо повизгивая меж тем от удовольствия… Что же делать – Сема был прост в обращении, как сибирский валенок, и девушки этим пользовались.
Заказав Семе взять все необходимое для похода, вплоть до нескольких поленьев дров (а вдруг на месте не будет?), Наташа попросила его прихватить с собой и пару веников – чтоб уж париться в баньке, так от души, а сама побежала к тете, у которой зимовала в городе бабушка, чтобы взять у нее ключи от деревенского дома.
Когда все было учтено, собрано и уложено и наша троица была готова выступить от Натальи, было уже около десяти часов вечера, и на дворе стояла густая темень. Ехать им предстояло около часа на автобусе, а там – еще двенадцать километров по бездорожью, напрямик через протоки реки, до деревни, в которую сама Наталья ездила зимой только однажды, да и то засветло. Но о трудностях пути им, возбужденным походом, не думалось, да и не представляли они себе этих трудностей. Наталья все-таки с тревогой подумывала о том, что уже стемнело, почти ночь, а в деревне пусто, никого нет, но ключ от дома лежал у нее в кармане и, подбадривая, совершенно ее успокаивал. Нина – та вообще вздыхала и плевалась, что поддалась на уговоры взбалмошной подружки ехать неизвестно куда, как и зачем, но она ведь и сама была взбалмошной, а с матерью, поссорившись, она все-таки договорилась. Сема же без вопросов рвался туда, куда его мимоходом пригласила Наталья. Итак, общий энтузиазм – молодость, молодость! – все же захватил всех троих, и предстоящий путь в неизвестное, такое отличное от будней и, может, чем-то опасное, был то что надо.
***
На автобусной станции они, возбужденные предстоящими похождениями, с лыжами и рюкзаками, загрузились в автобус и плюхнулись все вместе на заднее сиденье. Автобус, тронувшись, уютно покатил по едва освещенной снежной дороге между двух черных стен зимнего мрака, и обитатели его, приготовившись к дальней дороге, начали устраиваться поудобнее и кое-где уже посапывать. Воспользовавшись моментом, зная, что это не нарушит существующих правил приличия, Сема примостил на плечо Наташи голову и, накрывшись шапкой, как будто задремал, а может, просто затих, осторожно, ненавязчиво прижимаясь к такому желанному, остренькому плечику Наташи. Наташа раскусила уловку Семы: вздохнув с сарказмом, она посмотрела на мохнатую шапку, но возражать не стала – пусть уж его. Переведя взгляд на Нину, которая сидела, отвернувшись к окну, Наташа заметила, что щеки подруги растянуты в странной улыбке, и последняя никак не желает сползать с ее лица. В Наташе вновь вспыхнула ревность к неведомым ей увлечениям подруги и, уже не сдерживаясь, она толкнула Нину в бок и немедленно приступила к допросу:
– А ну рассказывай, чему лыбишься!
Нина обернулась к подруге, но, сменив тихую улыбку на лукавую, как видно, не собиралась "раскалываться" просто так.
– Может, хахиля завела? – небрежно, стараясь скрыть обиду, задала наводящий вопрос Наташа – и поняла, что попала в точку: лицо Нины расплылось в счастливой улыбке, которую она и не силилась скрыть:
– Да-а, а что: нельзя?
– Можно, конечно, – Наташа оживилась, но любопытство и зависть к подружке – ведь у Наташи не было своего "хахиля", хвастаться было нечем – уже начинали неприятно грызть ее.
– А кто он, я его знаю? – продолжала она пытать подругу.
– Знаешь, – уклончиво и по-прежнему лукаво, не желая сразу расставаться со своей жизненно важной тайной, ответила Нина.
– Он что – у нас учится? – Наташа пыталась казаться равнодушной.
– Да, у нас.
Наташа досадовала, что приходится тянуть из подруги по слову, но любопытство брало верх.
– Ну чего уж, говори, кто такой, не съем ведь я его, – начиная обижаться всерьез, потребовала она.
– Да ладно, ладно, скажу, – пожалела ее Нина. – Он учится на пятом курсе… – она опять замешкалась, не решаясь назвать имя. – Ты его должна знать… Соболев… Роман, – смутившись, отвернулась к окну Нина. И хорошо сделала, иначе бы она увидела, как в автобусе блеснула молния и поразила, превратив в обгорелый столб, Наташу.
Раскаты грома, прозвучавшие в Наташиных ушах, оставили в них противный высокий звон. Наташа слушала звон, сидя с окаменелым лицом и глядя прямо перед собой. "Как же так, как же так… Роман?.. – лицо ее выражало крайнее удивление. – Нет, не может быть, она, наверно… просто он ей нравится, и все. У них ничего не было, ничего…"
Переведя дыхание, она спросила, не поворачиваясь к Нине:
– Вы встречаетесь?
– Да, а что? – так же лукаво ответила та.
"Все", – в груди Наташи что-то оборвалось, и страдание заполнило ее душу. Она сбросила с плеча ненавистную мерзкую голову Семы и провалилась в себя, уставившись стеклянными глазами в темноту. В душе у нее все кричало, слезоточило, гулкий звон гулял по пустым сейчас сердцу и голове. "Как же так, как же – он, он… и она, она… как же, как же?! Ой-е-ей, ой-е-ей", – рыдала в душе Наташа, но в глазах ее ничего не отражалось, да никто и не видел в этот момент ее глаз…
Она любила Романа – давно, второй год. Однажды увидела – и полюбила его, и все. Хотя не сразу это поняла – сначала было только непреодолимое желание постоянно видеть и слышать его, находиться рядом с ним, а потом вдруг в институте, посреди лекции, ее как озарило: "Люблю, люблю!" – и ей захотелось засмеяться и разреветься одновременно. Она удивленно оглядывалась – все вокруг нее стало солнечным, ярким-ярким; стало так светло, как будто накал и без того ярких ламп в аудитории утроился… Тогда она спрятала лицо в ладонях и улыбалась, улыбалась своему открытию, а потом, не сдержавшись, вместо лекции стала писать в тетради: "люблю, люБЛЮ, ЛЮБЛЮ"… Тогда она точно узнала, что пришло то самое, долгожданное, неизведанное, единственное, что и она теперь познала любовь… Но она носилась как кура с яйцом с этой любовью, таила ее – никому ни слова, только страдала втихомолку, когда оставалась одна – и ни готовиться к занятиям, ни читать, ничего не могла, только думала, думала, мечтала о нем, перебирая в памяти мимолетные встречи, мимоходом брошенные слова – тем и питалась, жила, существовала. А тут… Какими-то неведомыми тропами, какими-то незначительно приложенными усилиями встретились они: он – и с кем! – с Ниной, ее единственной подругой, и все, все теперь пропало… Как же у них-то так легко получилось? И нет уже надежды, что когда-то, когда-нибудь он разлюбит Нину и полюбит ее, именно ее… "Горе, горе, нет, это непереносимо!.."
– Эй, ты чего? – на этот раз подтолкнула ее Нина и, заигрывая, стала щипать ее под бок, чего Наташа терпеть не могла.
– Ну ладно, чего там, Наташк, мы с тобой побузим еще, и Сему вон пощиплем… Эй, Сема, чего заскучал? Давай его пощекочем! – и Нина, вскочив со своего места, принялась за Сему, жаля его короткими щипками, а он начал отбиваться от нее, и они вдвоем минут пять визжали и хохотали, не обращая никакого внимания на дремлющий автобус, на посерьезневшую Наташу.
– Эй, собирайтесь, подъезжаем! – хмуро окликнула их Наталья.
Подхватив рюкзаки и лыжи, трое путешественников вскоре вывалились из автобуса. Наташа не очень уверенно повела друзей по улице поселка к берегу реки, откуда им предстояло отправиться дальше, встав на лыжи.
***
Широкая, укатанная дорога спускалась с берега на наст реки. И только надев лыжи и встав на нее, путешественники поняли, за какое дело взялись: перед ними – куда ни глянь – стояла непроницаемая стена темноты, за которой терялась дорога. Ни огонька – не то что в городе. Сколько идти, на что ориентироваться – не известно: едва различимый снег и ночь – и ни одной вешки, указывающей направление. Им надо было отправляться напрямик по целине – туда и пошли кой-какие пешеходы, но укатанная дорога соблазняла, и Наталья решила перестраховаться – пойти по ней. Посовещавшись, лыжники тронулись в путь, наконец-то начав согреваться в легкой одежонке, надетой по случаю лыжного пробега. Но скоро Наталья поняла, что дорога сворачивает в сторону от нужного им направления. Обнаружилось это не сразу, а когда обнаружилось, возвращаться в исходную точку, чтобы начать все сначала, лыжникам не захотелось. Решили двигаться по дороге и дальше, авось кривая куда-нибудь выведет.
Долго они шли вслепую, лыжами в темноте нащупывая раскатанную до льда дорогу. Но скоро "кривая" совсем свернула к сиявшим вдали огням поселка, стоящего на том же берегу, с которого только что спустились лыжники. "Да, влипли", – сплюнула в сердцах Наташа. Оказывается, они прошли вдоль берега уже километров пять, а нужно было перебираться на другую сторону реки, идти в противоположном направлении! Но поскольку она единственная мало-мальски "знала" местность, остальные, слабо переругиваясь, продолжали послушно идти за ней.
На их счастье вдали, на том берегу, слабо обозначились огоньки неведомой деревни, и наши горе-путешественники свернули с хорошо укатанной, обманувшей их дороги на целину и понеслись, никуда уже больше не сворачивая, прямо на огни. Сема шел впереди – топтал дорогу, а девушки поспевали за ним, то скользя по насту речных рукавов, то продираясь сквозь ивовые заросли по глубокому, рыхлому снегу. Скоро деревня приблизилась, но лыжникам пришлось подойти к ней поближе – это заняло еще полчаса, – чтобы Наталья смогла понять, что это совсем не та деревня… Зато теперь она точно знала, где они находятся и в какую сторону надо идти. Они слишком отвернули вправо, и их пройденный путь будет похож на крюк, километров эдак в пятнадцать, но что поделаешь… До знакомой деревни оставалось еще четыре километра.
Повернув, путешественники пошли вдоль высокого берега реки в ту сторону, куда показывала Наташа. Успокоившись, что теперь-то они точно доберутся до места, сама она плелась последней, пропустив вперед Сему, наконец-то рванувшего в полную силу в указанном направлении, и Нину, которая, как оказалось, ходила на лыжах гораздо лучше Наташи. Сейчас, устало ползя за нею следом, Наташа с поисков дороги могла переключиться на недавние переживания, на подругу и ее тайну, которую она так долго скрывала, и Наташа дала волюшку неприязни и злости, внезапно охватившим ее после признания Нины. "Вот ведь черт, – думала она, глядя на пятки Нининых ботинок, мерно мелькавшие впереди, – и не угнаться за ней, а ведь у нее и лыж-то своих до недавних пор не было, да и с виду она такая неспортивная…" – Наташу злила вдруг открывшаяся Нинина двужильность – "идет себе да идет, хоть бы что!" – в то время как сама она уже начинала выбиваться из сил, а ведь она во всем считала себя лучше, сильнее Нины, она в выносливости старалась подражать мужчинам, но не всегда это у нее получалось, а тут – без всяких усилий… "И фигура-то у Нинки… – фигура у Нины была, действительно, не ах: при небольшом росте – сильно развитая нижняя часть туловища, крепкие, но маленькие ножки. – И чего он в ней нашел, ведь надо же…" – пыталась найти Наташа изъяны в Нининой фигуре. Да что фигура – сама ни о чем не подозревавшая Нина сейчас вызывала у Натальи просто отвращение: "Зад велик, плечи узки, какая-то нелепая детская курточка, шапка-ушанка, как у Филиппка… Смех да и только… Ну что он в ней увидел?.. Любовница, тоже мне, молодая…" Наташа брезгливо сморщилась. Она не могла понять, за что же ей такая несправедливость… Сейчас она злилась на Нину, на себя и на весь белый свет. "Черт меня дернул с этой поездкой, теперь смотри на них целых два дня, варись теперь в собственном горе… Убить ее мало, подружку такую!" Но делать было нечего – они уже завершали свой немалый крюк по протокам, подходя к цели своего путешествия: на берегу реки давно уже виднелись новые огоньки.
Повернув на них, Наталья вздохнула с облегчением: над берегом, на фоне темного неба, она различила еще более темный силуэт церкви с высоким шатром. "Пришли! Почти… – обнадежила она своих спутников. – Отсюда еще километра четыре осталось".
Они выбрались на берег, и тут уже усталая Наталья повела их потихоньку в обход деревни, к новой реке, по которой можно было добраться до конечной цели. Только сейчас лыжники, взмокшие от бега, почувствовали, какой стоит мороз, но прибавить шагу у Натальи уже не хватало сил. Когда они проходили мимо совхозного скотного двора, из открытой двери освещенной изнутри конюшни вышли конюхи – посмотреть на странную вереницу: нечасто в зимнюю пору в деревне бывают ночные гости. И вдруг кто-то из них тихонько вскрикнул: "Наташа!" Наташа остановилась и, вглядевшись попристальней, узнала: это были ее знакомые ребята, с которыми она каталась на конях по здешним полям не одно лето; они ее знали как отчаянную девчонку и лихую наездницу.
Дальнейшее решилось быстро. Деревенские конюшие обрадовались Наташе, которая вновь подтвердила репутацию отчаянной девчонки: "В такую пору, в такой час!" – а также и ее друзьям. Тут же была запряжена лошадь, и наши путешественники, загрузившись вместе с лыжами в розвальни, с ветерком проделали остаток пути. Наташа, болтая с возницей о всяких пустяках и чувствуя близость родной деревни, повеселела.
Вскоре сани въехали в тихую, опустевшую деревеньку, остановились у крыльца высокого, статного дома – сейчас темного, глухого, нежилого, холодного… Такие же, помертвелые, стояли еще несколько домов вокруг: ни одной живой души, ни одного жителя в деревне. Наташа знала, что летом еще кое-кто из хозяев появляется здесь, а зимой – совсем пусто. Ступив на промерзшие, заскрипевшие под ногами доски рундука, она всунула ключ в скважину замка и попыталась провернуть его… Куда там! Замок, закрытый с осени, представлял сейчас собой монолит. Это было сюрпризом: до дома добрались, а войти в него нельзя!
Сема, повозившись недолго с замком, проявил находчивость: взобрался на навес над крылечком и выставил окошко в сени. Получив инструкции от Наташи, он спрыгнул вглубь сеней и вскоре открыл дверь во двор хозяйственной части дома, где раньше держали скот. Оживленно галдя, девушки и возница зашли во двор, поднялись на поветь и прошли в промерзшую насквозь избу – казалось, в ней было даже холоднее, чем на улице. Шел уже второй час ночи.
Наташа поздравила всех с прибытием и принялась хозяйничать: нашла лампу с булькавшим в ней керосином, несколько поленьев за печкой, растопила очаг, на котором они с Ниной разогрели поздний ужин.
Изба прогревалась медленно, укладываться спать в таком холоде не хотелось, поэтому подружки, возбужденные ночным переходом, проболтали с возницей – широколицым белобрысым Леней – до утра: Наташа выспрашивала деревенские новости, Леня скупо и односложно отвечал, а большей частью все молчал да улыбался – очень ему нравилось, что девчонки появились в деревне таким вот образом. Уж сколько раньше Наташей и ее подружками, которых она привозила с собой, вместе с ними, деревенскими ребятами, было поезжено на кониках по окрестностям – и белыми ночами, и темными вечерами, – вспомнить и тем, и другим отрадно!
***
К утру возница уехал на работу, а троица занялась насущными делами: нужно было выполнить намеченную программу – истопить баню и поблаженствовать в ней. Сема, успевший, невзирая на холод, вздремнуть ночью, взял топор, ведро, приторочил флягу к салазкам и пошел с ними к реке – рубить прорубь и таскать воду в баню. Подружки принялись за хозяйство: топить печи, готовить обед и ужин, одним словом, «обряжаться», как назвала это Наталья, знакомая с деревенским бытом. Нина тоже была знакома с ним и, пожалуй, не хуже: обе они подолгу гостили в деревнях у бабушек, только Наталья – в поморской архангельской, а Нина – в глухой вологодской.
Наталья, припоминая, как это делала бабушка, затопила русскую печь в кухне: при помощи деревянной лопаты сложила костром дрова в печке, запалила лучину, на лопате же отправила ее в печь; наставила самовар: его железную трубу с гудящим в ней пламенем воткнула в предназначенное для этого отверстие в печке. Сема, иногда забегавший в дом погреться, залюбовался ее работой:
– Я и не знал, что ты у нас крестьянка!
– А как же, – втайне гордилась похвалой Наташа.
Вторую печь – "голландку" – Нина затопила в спаленке, самой маленькой из трех оставшихся комнат: в ней стояли только две кровати да висели образа и множество старых фотографий, – в ней подружкам предстояло ночевать.
Сема, слишком долго провозившийся с прорубью, наконец начал таскать воду в баню, заполнять бочку и меденик – большой медный котел, вделанный в каменку, – а потом вызвался и в истопники, назвавшись крупным специалистом по банным делам. Подружки не возражали: и в доме дел хватало, да и для чего они мужика с собой везли?.. Но то ли дрова были сырыми, то ли баня так сильно промерзла, то ли истопник был никуда не годный, только короткий день начал клониться к вечеру, начинало темнеть, а баня все еще чадила. Под конец Сема понял, что чаду в бане столько, что он никогда весь не выйдет, в то время как сама баня уже начинала потихоньку остывать на сильном морозе. Поэтому, не дожидаясь провала банной затеи, он решил приступить к "помоечному процессу" и, попросив Наталью прийти попарить его, залез на полок: начал "отопревать".
Обед к тому времени был уже готов. Умаявшись у печки, Нина прилегла на кровать. Наталья засветила лампу – зимний день подходил к концу. За дневными заботами подружки и парой слов не перекинулись, да Наталья и сторонилась, избегала Нины, хотя именно сейчас ее тянуло к ней с какой-то новой силой; она поняла – как к сопернице. Какое-то даже сладостное страдание испытывала она иногда, глядя со стороны на Нину. Она искала в ней уже не недостатки, чтобы презирать ее, а достоинства, которые могли приглянуться Роману. И ничего не находила, кроме простоты характера да, может, душевности, которых ей, Наталье, пожалуй, не доставало…