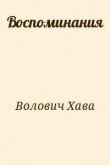Текст книги "Твёрдость по Бринеллю"
Автор книги: Ангелина Прудникова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Но сейчас Нина лежала на кровати с закрытыми глазами, и на щеках ее проступал неровный, слабо различимый в полутьме румянец. Наташа забеспокоилась, подошла:
– Нинк, ты не заболела?
– Не знаю, – последовал слабый ответ.
Наташа прикоснулась рукой ко лбу – горячий! В панике она побежала кругами по комнате в поисках лекарств, но этого добра в краю свежего воздуха и здоровой пищи предусмотрено не было. Нашелся только градусник, который Наташа тут же засунула Нине под мышку. Ждать долго не пришлось: тридцать семь и семь! Наталья заволновалась:
– А как же баня? – то, ради чего они это все затеяли: а идея с вениками и купанием в снегу? – Не пойдешь, что ли?
Нина отступать не любила:
– Пойду, чего уж, не зря же ехали.
Наташа обрадовалась. Вдруг Нина оторвала голову от подушки:
– Про Сему-то забыли! Беги скорей в баню, он уж там изжарился, наверно!
Наташа подхватилась и, накинув куртку, выскочила в сени. Добежав до бани, в сенцах она дернула на себя тяжелую, низкую дверь и крикнула в клубы белого пара:
– Я пришла!
– Подожди, через минуту зайдешь, – закричал Сема. – Можно!
Наталья, пригнувшись, нырнула в жар и увидела голого Сему, распростершегося на животе на горячих досках верхнего полка. Маленькая баня довольно ярко освещалась керосиновым фонарем, стоявшим на подоконнике. Наташа отыскала запаренный в тазу веник и, как будто она всю жизнь парила мужиков, примерившись, начала охаживать Сему веником, начиная от пальцев ног, все-таки минуя белеющий из загара Семин зад и кончая его ушами.
– Ой, ой, не могу, – застонал, не выдержав такого напора, Сема, чем несказанно удивил Наташу: она-то думала, что он выносливее! – Уходи, уходи скорее, я сам!
Наташа послушно метнулась в сенцы и лишь мельком увидала, как Сема кубарем скатился с полка и, с трудом втягивая в себя воздух, присел, скорчившись на прохладном полу.
– Самовар там поставьте, – с надсадой выдавил он вослед.
– Стоит уж, – откликнулась Наташа и побежала назад в дом.
***
Вскоре туда ввалился и Сема – красный, как будто ошпаренный, в наброшенном на голову мокром полотенце, – и, прямо в одежде, повалился на кровать, в ноги к Нине.
– Ох, уморился! – говорить он больше не мог и лежал, тяжело дыша и истекая водяными струйками.
– Ладно, отдыхай, надышался там сегодня угара, – разрешила Наташа. – Ну что, Нина, пойдем и мы? – позвала она подругу, подхватив стопку приготовленного белья и полотенца. – А ты за самоваром здесь смотри, мы недолго. Нинка вот заболела, неизвестно еще, во что эта баня выльется: хуже ей станет или лучше. Может, не пойдешь все-таки? – участливо еще раз спросила она у Нины.
– Да ладно, пойдем, авось не помру, а может, и лучше станет, – не сдавалась Нина.
Они оделись и, прихватив с собой фонарь, побежали к бане. Скинув в холодных сенцах верхнюю одежду, вошли внутрь и здесь уже, изнывая от жара, разделись у самого входа. Наташа вооружилась ковшом.
– Сданем?
– Давай!
Наташа набрала в ковш воды и "сданула" на каменку.
Дыхание перехватило от клубов горячего пара, и подружки нырнули вниз, пригнулись к полу. Потом осмелели, полезли на верхний полок – полежали, поотопревали – и поочередно, давая советы, начали хлестать друг друга веником.
– А теперь – в снег! – не забыла Наталья.
Нина тоже не удержалась. Решив прокрутить программу на всю катушку, они выскочили из сенцев на мороз и с визгом плюхнулись в ближайший, девственный с виду сугроб, который, однако, встретил их не очень-то любезно: последние морозы спрессовали снег в плотный, режущий наст. Но все же побарахтавшись в кой-каком снегу и пообцарапав кое-какие места, подружки вернулись обратно в баню – и застонали от блаженства: так запокалывало с мороза все тело мелкими, терпкими иголочками.
– Эх, сданем! – добавила жару Наталья, и подружки, ухнув, снова пригнулись к полу.
Нина решила больше не испытывать свой ослабевший организм на выносливость и осталась внизу, а Наталья снова полезла на полок, в самый жар. Лежа на спине, она махала ногами, стараясь не задевать черный закопченный потолок, и украдкой поглядывала на Нину, которая, примостившись на низенькой скамеечке, намыливала голову.
"Ну бес ее знает, что в ней такое, ничего ведь нет, – вернулась к прежним терзаниям Наташа. – Фигура – совершенный нестандарт, один зад чего стоит… У меня, конечно, тоже не Бог весть что: "доска, два соска", – но за что ей-то привалило?.."
Наташа вдруг ярко представила, как Роман обнимает Нину, касается рукой ее груди – и резко отвернулась к стене, легла на живот. "Разлучница, тебе бы такое испытать", – страдала она, уткнувшись в согнутый локоть.
Угар в бане давал себя знать – у обеих отяжелела голова. Нина уже помылась и, совершенно истомившись, заныла, что ей лучше бы пойти в сенцы.
Подруга смилостивилась:
– Ладно, подожди меня там, я быстро!
Наташа заторопилась. Оставаться одной в полутемной бане не хотелось: сразу припомнился "хозяин", которым бабушка еще в детстве их пугала, чтобы ребятня попусту в баню не лазала, – страх и сейчас охватывал такой, что даже оглянуться в темный угол было боязно. Она наскоро сполоснула свои шикарные длинные волосы, быстренько намылилась, облилась теплой водой, натянула кое-как бельишко и шастнула вслед за Ниной в сенцы – одеваться. Планы ее, основная программа – попариться в русской бане (и даже с "валянием в снежке") – были выполнены, теперь – чего греха таить! – и рассказать сокурсникам будет о чем… Наташа была довольна.
Подружки закутались потеплее и, выскочив на мороз, припустили к дому. Ввалившись в избу, они, как и Сема, в чем были, рухнули без сил на кровать – поотдышаться, поотлежаться.
– Женщинки, чай готов, – напомнил от самовара Сема, успевший выдуть уже не одну кружку.
Пить хотелось страшно, и подруги подсели к самовару. Головы у обеих трещали. Единственное "лекарство" – градусник – снова пошло вход. У Нины температура после бани не снизилась, и у Наташи она тоже оказалась выше нормы.
– Я, кажется, от тебя заразилась, – предположила Наташа. – Наверно, это грипп.
Но чувствовала она себя сносно, и ее пугало только одно: как бы не стало хуже Нине. На память ей пришла недавняя трагедия: дочь их ректора, в расцвете лет, в два дня умерла от гриппа… При воспоминании об этом у Наташи мороз пошел по коже. Вокруг – ни жилья, ни людей; на дворе – морозище, ночь, и связи с цивилизацией – никакой. Послать куда-то за лекарством или помощью Сему – после бани, ночью да по незнакомой местности, – это был последний вариант, а чтоб пойти самой – об этом Наташа старалась не думать. Она безнадежно вспоминала о рации и вертолете, полагавшихся в таких случаях: во всех романах вертолет прилетал на помощь заболевшему по радиосигналу… Но рации здесь не водилось: это была не заполярная станция, а всего лишь деревенька, затерянная на островах, под боком у Архангельска…
***
К ночи температура Нины подскочила до тридцати девяти градусов и стала подходить к критической отметке. Наталья, забыв о «сопернице», испугалась по-настоящему. Что делать? Нужна «скорая помощь», а нет даже таблетки… Она решила хотя бы уложить больную в постель. Оставив Сему ночевать в жарко натопленной кухне, Наталья повела Нину в нагретую спаленку и уложила на одну из кроватей, а сама легла на другую, собираясь не смыкать глаз всю ночь, следить за подругой, и своим бдением и мольбами неведомо кому отогнать температуру и те осложнения, которые могут последовать, если градусник зашкалит, о чем Наташа думать боялась, но все же думала неотступно, находясь в каком-то страдальческом напряжении и оцепенении. Какой она чувствовала себя беспомощной! Сведя брови от страдания вслед за подругой, приподнявшись на локте, она наблюдала за лицом Нины, ее закрытыми глазами, освещенными фонарем, который стоял на венском стуле в изголовье кровати. Лицо Нины было бледно, сквозь губы иногда прорывался бессознательный, пугающий Наташу стон. Оцепенев в страхе – мышцы ее свело от напряжения и ожидания, покрываясь холодным потом, Наталья снова принялась казнить себя за свою выдумку с поездкой и боялась подумать: «А вдруг… что случится?»
"А вдруг?.." – сердце Наташи зашлось. Она сделала то, чего никогда, ни с кем не делала, к чему не была приучена: схватила бледную руку Нины, свисавшую с кровати, и стала гладить ее, жалобно уговаривая подругу:
– Ну Нинуля, ну Нинулечка, ну потерпи немного, ну потерпи до утра…
Что будет утром, Наташа не знала – ведь они так далеко от всего живого, – но уже то, что будет день и свет, вселяло в нее надежду, что утром все должно быть хорошо, ведь утром всегда бывает легче – только бы дожить до утра! И Нина ее слышала и понимала, и Наташе казалось, что ее слова подруге помогают…
Вдруг в дверях спаленки – дверь ее не запиралась – появился голый Сема, прикрытый лишь своими выгоревшими за лето "плавниками". Наташа, целиком занятая подругой, не обратила на него внимания, а Сема, пользуясь моментом, без всякого на то соизволения, забрался на кровать и устроился рядом с Наташей. Ей было не до Семы – о нем она даже не подумала, но когда Сема обнял ее сзади, тяжело задышал в затылок и зашарил губами возле уха, Наташа обмерла и тут только поняла, что Семе требуется внимание. "Что это? Как это? Да что ему надо?!" Наташа попыталась отмахнуться от Семы, как от назойливого комара, но не тут-то было: Сема не пожелал расцепить рук и засопел еще яростнее… "Боже!" – Наташа была ошеломлена: и это – Сема, ее товарищ Сема, о котором она и слова плохого не могла сказать, подумать не могла о нем, как о чем-то грязном? Наташа отпустила безжизненную руку Нины, которую только что сжимала, резко оттолкнула потное мясистое тело и вскочила с кровати:
– Ты что это, скотина, удумал, тебе чего здесь надо?
Сема, решивший для себя, что после бани, где он предстал перед Наташей с голым задом, требуется "продолжение банкета" по обычному сценарию, опешил: он не ожидал от нее такого приема – и ответил неожиданно грубо и бесцеремонно:
– Я здесь буду спать!
– Катись отсюда в кухню – там твое место! – метнула рукой в дверь Наталья.
Но Сема совсем охамел:
– Сама катись!
Он не понимал, как это так: для чего же он сюда тащился по морозу за семь верст щи лаптем хлебать, если в пустом доме – подружка "отрубилась", не в счет, – быть с желанной женщиной да не переспать с ней! Нет, такой шанс упускать нельзя. Да ведь она же сама его сюда пригласила! Ясно, зачем. Чего ж теперь ломается, недотрогу из себя корчит? Да не бывает так, не бывает! Выходит, его провели?.. Сема начал свирепеть.
Наталья тоже побелела от гнева, аж задохнулась.
– Ты… ты… как ты можешь… Человек… почти умирает… а ты о себе только думаешь! Гад ты… гад… Убирайся!.. – голос Наташи почти сорвался на визг. Как это чудовище сейчас может думать и помнить еще о чем-то, кроме внезапной Нининой болезни? Ногтями она вцепилась в голое, ненавистное ей тело Семы и попыталась сдернуть его с кровати. – Убирайся! Убирайся!..
От дикости происходящего и собственного бессилия у нее началась истерика.
– Я… я убью тебя, если ты не уйдешь! – кажется, Наташа и в самом деле готова была сделать это…
Сему наконец проняло. Он соскочил с кровати и, уже откровенно мешая грязные и матерные слова ругани, ушел в кухню.
Наташа бессильно опустилась на свою кровать: "Чудовище, чудовище… Да все хоть сдохните тут – он и не вздрогнет, свои дела справит…"
Нина все так же, в тяжелом забытьи, со страдальчески сведенными бровями, постанывала на своей лежанке…
Наташу душили слезы: "Не слышала, Нинка… А он-то, подлец… – Наташа застонала: горькое разочарование в человеке постигло ее. – Негодяй…" Наташа кинулась на подушку и чуть не разрыдалась от только что испытанной беспомощности и дикости всей сцены. Впервые она столкнулась с дремучею мужскою силой – и где? Значит, ее приглашение в деревню Сема воспринял как предложение вместе провести ночь?.. Вот как он о ней думал? А она поверила, что он ее любит… Неужели все мужики такие – ни одного чистого помыслу, только похоть? А как же дружба, товарищеские отношения, просто помощь? Или им за все это надо платить? "Мерзко, мерзко все это…"
Немного успокоившись, Наташа подняла голову и снова всмотрелась в подругу. Нина перестала стонать, лежала тихо. "Кажется, она засыпает. Пусть поспит. Авось температура утром спадет…" Наташа не заметила, как и сама задремала.
***
Утром она проснулась и первым делом тревожно взглянула на Нину: та уже не спала, а, лукаво улыбаясь, примеривалась к Наташе, собираясь выкинуть над спящей подружкой одну из своих обычных штучек: пощипать или просто потузить ее.
– Ты что, оклемалась? – обрадовалась Наташа. – Слава Богу, значит, баня помогла, теперь хоть до дому нормально дойдем!
Она поднялась и пошла наставлять самовар. В кухне она хмуро прошла мимо Семы, как мимо пустого места. Скорей, скорей управиться здесь с делами – и бежать отсюда, вернуться к людям!
Они напились последний раз чаю в деревенском дому из настоящего самовара и принялись наводить надлежащий порядок в доме и бане: подмели полы, прибрались, вылили всю воду – чтобы не замерзла, закрыли печные трубы. Наташа принимала работу: полный порядок. Теперь можно было отправляться в обратный путь.
Сема последним вылез из дома через окошко в сенях – входная дверь им так и не поддалась, вставил раму, закрепил ее гвоздями и спрыгнул вниз с козырька над крылечком. Нацепив лыжи, он возглавил экспедицию.
День стоял очень ясный и морозный, да такой ветреный, что хоть не ходи никуда. Но надо было поторапливаться. Еще раз оглянувшись на желтый, обшитый по-городскому дом, лыжники, пробивая грудью встречный ветер, двинулись по звенящей, сияющей белой целине, оставляя позади опустевшую деревню и держа курс прямо на виднеющуюся вдалеке церковь.
Двигаясь замыкающей в их маленькой команде, сразу за Ниной, Наташа все еще беспокоилась: "Уж если Нинка и дойдет, так все равно сляжет", – слишком сильно пронизывал грудь встречный ветер, их куцые курточки, не приспособленные для такой погоды, не спасали; а в глубине души, даже не облекая это в слова, удивлялась безропотности и выносливости Нины и даже восхищалась ею: "Здоровская девка!"
Довольно быстро они добрались до села, посреди которого на высоком берегу Двины стояла церковь.
При ярком дневном свете, во время бега, мороз не ощущался. Почувствовали они, как замерзли, только в деревенской столовке, куда зашли погреться и "согреться": в соседнем магазинчике с этой целью они купили бутылку красного сухого вина. Расположились за отдельными столами: злой Сема, понимая, что отношения безнадежно испорчены, демонстративно уселся один со своей трапезой; подружки сели вместе, подальше от него. Наташа потихоньку отхлебывала вино из жестяной столовской кружки и, ощущая, как в желудке разливается тепло, следила за Ниной, чтоб та выпила все "лекарство". Нина, хоть и морщилась с непривычки от каждого глотка вина, все же послушно пила его, пока не выпила все до дна.
Немного согревшись, лыжники запахнулись поплотнее и снова вышли наружу: теперь им предстояла гораздо большая часть пути – через реку, и все время навстречу ветру. Но тут им "подвезло": на ту сторону отправлялся конный обоз, и лыжники, воспользовавшись оказией, разместились в дровнях и скоро уже были на другом берегу реки и стояли на остановке автобуса.
До города они доехали молча, без шуток, чего раньше никогда не было, а расставшись, устало разбрелись в разные стороны. Добравшись до дома, Наташа бухнулась спать и проспала весь вечер как убитая.
***
На другой день в институте была консультация перед экзаменом, но Нина на нее не пришла. «Значит, заболела все-таки», – решила Наталья.
Прямо из института она отправилась к Нине домой – попроведать больную; но, зайдя в квартиру, чуть не выскочила назад, увидев у постели подруги знакомую фигуру: спиной к ней сидел Роман.
Нина, завидев Наташу, смутилась, а Роман даже не повернулся на шаги. У Натальи снова сладкой мукой ревности захлестнуло сердце. Стоя позади Романа, чтоб не видеть его лица и как-нибудь не выдать себя, она, преодолевая навалившуюся одеревенелость, выдавила:
– Заболела все-таки…
– Да, температура снова – тридцать девять, врач приходил, сказал – грипп, – Нина виновато посматривала то на Наташу, то на Романа.
– Значит, ты уже болела, когда мы в деревню поехали, – деревянным голосом продолжала Наташа, – а там болезнь дала себя знать – после такой дороги… И я, наверно, от тебя заразилась – помнишь, температура была? Но у меня обошлось. Из-за бани. А ты, значит…
Роман наконец обернулся к Наташе:
– Так это ты соблазнила ее в эту поездку? Лягушка-путешественница… – презрительно произнес он.
Наташа вспыхнула от нежданной "ласки".
– Я и сама не знала тогда, что заболела, – вступилась за нее Нина.
– Ну ладно, Нин, завтра экзамен, готовиться надо, пойду, не буду вам мешать… – чувствуя себя вдвойне виноватой после слов Романа, бодреньким голосом заявила Наташа и направилась к двери. Ей хотелось исчезнуть, раствориться, скрыться с глаз – она здесь была такая лишняя, ненужная, особенно для него!..
– Да чего ты, посиди, – не очень настойчиво попыталась остановить подругу Нина.
Наташа скорчила прощающе-понимающую гримасу и махнула рукой на прощание: "Пока!"
Закрыв дверь, она остановилась на площадке лестницы, вцепившись побелевшими пальцами в перила. Недавние злость и обида на подружку и на весь белый свет снова накатили на нее. "Счастливая! Всю жизнь мне покорежила и балдеет! А я ее там, в деревне, жалела – для чего, спрашивается? Да лучше бы она… – Наташа вздрогнула. – Ах, видеть их не могу!" – Наташа махнула рукой, слезы хлынули у нее из глаз. С разрывающимся сердцем она сбежала по лестнице и, вылетев на улицу, не видя ничего перед собой, поплелась нога за ногу, желая сейчас только одного: умереть, сейчас же умереть – от зависти, любви и горя; чтобы ее пожалел Роман, а не Нину, чтобы он увидел, какая она была молодая, красивая – гораздо лучше Нинки… Умереть, лучше умереть! И она чувствовала, что уже близка к этому…
1987
Русский характер
Вера ворвалась в дверь довольно тесной комнаты, где размещался их сектор, а точнее – двенадцать женщин-конструкторов, технических работников (ИТР), или как там их еще принято называть, а проще – двенадцать обыкновенных теток, не лишенных, несмотря на все их технические познания, ничего человеческого.
Одиннадцать голов, всегда готовых обернуться на звук открываемой двери, в тот же миг повернулись к Вере. По виду Веры можно было определить, что она чем-то сильно взбудоражена: глаза вытаращены, с губ готовы сорваться слова, – и одиннадцать женщин, все примерно одного возраста, привстав в ожидании, замерли, словно гончие в охотничьих стойках. Вера остановилась посреди комнаты, в узком проходе между рядами столов, и, обращаясь ко всем и в сторону окна, а не двери, за которой обычно все их неслужебные разговоры имел обыкновение подслушивать чуткий на ухо начальник отдела (прогулки по коридору и подслушивание и были его основным занятием), сдавленно, но очень взволнованно, горя от возмущения, начала:
– Нет, вы только подумайте, опять!
– Ну что, что?? – женщины (конструкторы) от нетерпения сорвались со своих мест и окружили Веру: в их тихом с виду болотце (конструкторском отделе) иногда все же происходили чрезвычайные события, которые всегда обсуждались ими шепотом – ни в коем случае не на собраниях – и разрешались также незаметными для глаза усилиями администрации, которая старательно и поддерживала этот видимый покой: никакой демократии. Никаких обсуждений. Никаких митингов. Итак…
– Опять Мартышка проворовалась!
Все радостно ахнули: это же событие, и его можно теперь обсуждать!
Но Вериному возмущению и расстройству не было предела. Сама Вера страдала повышенной честностью, это никто не мог отрицать, и воровство было для нее самым гнусным из всех преступлений, к тому же болезненным для нее вопросом: соседи Веры по квартире тоже нагло и систематически воровали у нее – то продукты из холодильника, то всякие мелкие вещи из ее комнаты, от которой они, похоже, имели свой ключ, – и она не могла никак понять природы этого явления: как это человек способен тайком брать, присваивать чужое, ничуть не изменяясь от этого в лице (и у него не вырастали рога или хвост) и не пытаясь изменить свой образ жизни – скрыться например, провалиться от стыда сквозь землю, – и жить рядом с жертвой с тем же спокойствием и даже непременным чувством пренебрежения и превосходства над нею – дескать, существо низшего порядка… Воровство соседей настолько уничтожало Веру, выводило ее из равновесия, что после очередной покражи она каждый раз долго не могла прийти в себя от возмущения, а безнаказанность воров, да и невозможность наказать их или отомстить им – не воровать же в ответ, – совершенно ее обессиливала и опустошала. Так же на нее действовали и реликтовые факты воровства в рабочем коллективе.
Женщины в радостно-ужасающем волнении сгрудились вокруг Веры.
– Да ты что? Как это? Опять не удержалась, что ли? – со всех сторон загалдели они.
– Опять, опять, вот гадина, – Вера принялась за рассказ. – Вы ведь знаете – уже полгода она держится, не ворует! А тут…
***
Да, с последнего «похождения» Мартышки (или официально конструктора Екатерины Мартьяновой) – все его прекрасно помнили – прошло полгода. Тогда ее впервые разоблачили, то есть разоблачили-то ее давно, но лишь полгода назад ей впервые в отделе предъявили обвинение в воровстве. К тому моменту весь отдел уже об этом знал, и только все ломали головы, как бы поймать Мартьянову за руку, а особенно те, кто работал с ней в одной комнате – именно в ней-то и воровала Мартышка регулярно и бессовестно, причем, как все убедились, профессионально и даже виртуозно. Она приехала в город недавно из Одессы вместе с мужем, который, по слухам, тоже был мошенником – о его «чудачествах» уже многие были наслышаны заочно. Причем, как и все мошенники, оба они выглядели совершенно порядочными людьми, которых упаси Боже в чем-нибудь заподозрить! Мартьянова была скромна, серьезна, приветлива со всеми и даже обаятельна, так что многие, а особенно те, кто с нею близко был знаком или поддерживал дружеские отношения, наотрез отказывались верить в то, что она ворует.
А обнаружилось это "невинное" коллекционирование денег сотрудников нашей скромницей не сразу и воспринялось довольно болезненно. Известно, что у рядовой советской женщины, обыкновенно замученной тяготами жизни и работой и, в силу того, рассеянной, деньги в кошельке лежат бессчетно, то есть считает их далеко не каждая. Но тем не менее иногда этих денег начинает не хватать, или они просто кончаются, и тогда каждый рубль становится на учет. И вот в такие-то, безрадостные для себя дни, коллеги Мартышки начали обнаруживать в своих кошельках пропажу. Но случалось это редко, и суммы были небольшими, поэтому особого внимания на это не обращали: то ли пропал трешник, то ли был истрачен, а то ли его и не было совсем. Но потом и время пропаж определилось: обычно это происходило, когда в помещении начиналась уборка. В дверях, громыхая ведром и шваброй, появлялась уборщица, и женщины (конструкторы), водрузив свои тяжеленные стулья на столы с чертежами, выходили из комнаты в коридор, чтобы не мешать "помойке", а заодно поболтать и передохнуть от тягомотины рабочего дня. В комнате неизменно оставалась только Мартьянова и, естественно, уборщица. Но все равно, если после уборки и обнаруживалась пропажа, никому не приходило в голову грешить на Мартьянову (слишком она была не похожа на воровку), а винили во всем или уборщицу, или себя. Если очередная пропажа обсуждалась в присутствии Мартышки, с ней, как позже вспоминали об этом женщины, начинали твориться интересные вещи – она так болезненно реагировала, как будто ее уже в чем-то уличили: закатывала глаза, начинала задыхаться, покрывалась розовыми пятнами, пила успокоительные капли… О том, что это был защитный прием, рассчитанный специально на окружающих, женщины тогда не подозревали, поэтому спектакль пропадал впустую. Но в том, что Мартышка великолепная артистка, ее сослуживцам пришлось убедиться позднее, когда всем уже стало ясно, кто таскает потихоньку трешки и десятки из их сумок.
Возмущенные регулярными кражами (раньше воров в отделе не было), женщины стали придумывать способ, как бы поймать воровку за руку и тем самым ее уличить. Разговоры ползли по отделу, группки женщин горячо, но полушепотом, обсуждали происходящее, вспоминали также и прочие похождения "артистки", которая была не только не чиста на руку, но, в силу своей оригинальной натуры, не давала мирно спать администрации отдела: подкидывала ей штучку за штучкой и тем самым – хошь не хошь – заставляла нянчиться и возиться с нею, заглаживая очередные ее проступки – не выносить же сор из избы! Но дальше разговоров у сотрудниц (женщин) дело не шло. Начальство ими все-таки было поставлено в известность, но тоже ничего предпринять не могло, так как воровку поймать с поличным никак не удавалось. Все попытки бывших и потенциальных жертв проследить, как исчезают деньги из их кошельков, не приносили никаких результатов. А деньги тем не менее время от времени пропадали.
Мартьянова в самом деле умела воровать виртуозно. Поняв, что ее раскусили (во время злополучных уборок женщины демонстративно на ее глазах уносили кошельки с собой), она стала воровать прямо в присутствии всех – жадность ее одолевала или желание реабилитироваться, отвести от себя подозрение, – и в своем бесстыдстве доходила до невозможного. Как только кто-то из женщин отлучался из комнаты, она тотчас находила занятие за ее столом: смотрела справочники, перебирала бумаги, делала вид, что ищет какие-то документы, звонила по телефону, который стоял на столе, а деньги тем временем как бы сами собой пропадали. Женщин уже трясла охотничья лихорадка, они и думать забыли о работе, о плане, а хищница тем не менее и не собиралась попадаться и как будто смеялась над всеми. Совершенно хладнокровно, даже под перекрестным взглядом двух-трех наблюдательниц, которые неотступно следили за каждым ее движением, Мартьянова успевала одной рукой набрать номер телефона, а другой – открыть сумку, стащить кошелек, а из него уже деньги – одну бумажку, не более. И надо же так – ни у кого не хватало духа подойти к воровке в этот момент, взять ее за руку и остановить, каждый боялся – а вдруг обмишурится и останется сам в дураках. Вот это-то Веру больше всего и бесило.
Она не работала вместе с Мартьяновой, но ее сослуживиц осуждала за нерешительность. "Да как же вы терпите, как вы это допускаете? Я уже давно заявила бы в милицию о ее похождениях! Нет, вы подумайте: у них воруют, а они молчат; их обкрадывают, а они терпят!" – возмущалась она, слушая очередные сообщения о воровке.
Но женщины не шли в милицию – все по причине того, что улик у них не было, да и начальство упорно не разрешало поднимать какой-нибудь шум. Оно только решилось втихомолку провести беседу с непойманной воровкой, во время которой Мартьянова обильно плакала, хваталась за сердце, но настырно ни в чем не хотела признаваться. Уволить ее, чтобы избавить коллектив от нервной тряски, не могли – не было на то веских оснований, и она это понимала. На том дело заглохло, но после беседы с начальством кражи как будто сами собой прекратились, а Мартышке в отделе был негласно объявлен бойкот.
И вот, спустя полгода, она принялась за старое…
***
– Короче, – Вера вводила всех в курс дела, – на этот раз она проворовалась по-крупному: деньги нужны были, что ли? В общем, в день получки (и, естественно, во время уборки) она стащила у своей ближайшей соседки, у Алки (Аллы Григорьевны) из кошелька двадцать пять рублей.
– Двадцать пять рублей! – женщины были поражены наглостью Мартьяновой и ее непомерным аппетитом: на эти деньги семья могла прожить неделю.
– И еще японский микрокалькулятор, который там же лежал, – продолжала Вера. – Ну, пропажа, конечно, сразу обнаружилась – все ведь уже научены, бдят, но ей опять никто ничего не сказал – не видели, не усекли. А что после дела-то руками размахивать… Стоят, шепчутся по углам, а ей опять – ни гу-гу! Ну, она, кажется, сама поняла, что маху дала на этот раз, и что дело не вышло; подошла к Алке – первая! – и начала оправдываться: мол, это не я, что вы там опять обо мне шепчетесь… А Алка ей: "Да я ведь тебя еще ни в чем не обвиняла!" И не стала больше ее слушать – гордая! А та-то, дура, от страха забыла, что на воре шапка горит! И опять капли пьет, плачет, пятнами пошла – картина старая, да еще всем подряд в своей невиновности клянется. Ее наши уже не слушают, так она – до чего дошла – к теткам из других отделов на грудь кидается, защиты ищет, а они ведь и не знают ничего! И вот она им объясняет, рыдает, а народ шарахается от нее, брезгует: не воруй! И нашла время воровать – через месяц у нее договор с администрацией заканчивается, перезаключать надо – вышибут ее из отдела как миленькую, если до начальства опять дойдет. Да если бы… – с сомнением закончила Вера.
– Точно, избавимся наконец от воровки, – женщины, собравшиеся вокруг Веры, злорадствовали, – теперь Мартышке крышка, теперь-то ее точно уволят. Как она не смогла удержаться в такой момент? И почему ворует? Думает, что все такие же, что ли? А ведь ворует-то она одна! Клептомания у нее или такая уж острая нужда? Ну как специально подгадала под увольнение!
Но Вера не разделяла их оптимизма:
– Да, как же, уволят ее, начальство еще и вступится, поди, за нее – ведь покрывали же до сих пор все ее выходки… Помните, как дедушка у нее в Одессе якобы умер? Улетела, через два дня только телеграммой известила… Неделю прогуляла на "поминках", а потом бюллетень начальству привезла – так в Одессе чего не нарисуют!
– Да еще с таким диагнозом, что с ним надо не меньше месяца в больнице валяться, – авторитетно заявила Надежда Вадимовна (Надька). – А с бюллетенем шубу привезла, каракулевую, – не иначе, в наследство ей досталась. А может, и сперла где – за ней ведь не заржавеет. За шубой, наверно, и ездила!
– Вот-вот, а с пожаром – помните? Плакала, что вся комната у них выгорела, страховку сполна получила, а вещички-то все – ковры, телевизор, мебель – на новую квартиру они, оказывается, вывезли, мой муж их и перевозил, знаю, – подлила масла в огонь Нина. – Сами небось и поджог устроили, чтобы страховку получить. А как начальство за нее тогда вступалось: "Да вы ее не жалеете, у человека несчастье случилось, она вся гарью пропахла…" Да Бог-то шельму метит.
– Вот-вот, – Вера горячилась, – я о том и говорю: снова ее начальство покроет, вот увидите! Нет, я на месте девчонок давно бы уж в милицию заявила! Неужели снова терпеть? Вот если бы она у меня деньги украла, я бы ей не побоялась сказать, что она воровка, да еще и обыскала бы ее… Только хрен такую шельму поймаешь… Но она у меня все равно бы бедная была! Я б не посмотрела на ее благонадежный вид! Я бы ей проходу не давала, она бы у меня каждый день помнила, кто она есть! Ишь, пригрелась! – Вера, которая своим ворам-соседям за три года так ни слова и не решилась сказать, злилась все больше и больше, и женщины с нею вместе тоже начинали кипятиться.