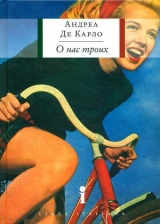
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
23
Я продолжал звонить Мизии домой по два-три раза в день; иногда спрашивал у ее брата, нет ли новостей, но новостей не было; иногда, снова услышав его голос, вешал трубку.
Я рисовал, но как-то странно, неуверенно, через силу. Мне не хватало разговоров с Мизией и ее советов, не хватало ее быстрых суждений и верного чутья, мгновенно мобилизовывавшего все ее творческие способности. Только сейчас я начал понимать, какую огромную роль она в последнее время играла в моей жизни, насколько ее настрой определял все мое поведение и образ мыслей, покуда наконец не вытолкнул меня из того пустопорожнего болота, в котором я, наверно, просидел бы всю жизнь. Я понимал, что без нее никогда бы ни на что не решился; что если бы я ее не встретил, то еще бог весть сколько оставался бы вечно недовольным, избалованным маменькиным сынком и бабушкиным внуком, безнадежно погрязшим в этой роли. Но от этих мыслей я только впадал в еще большее уныние, не с кем было поговорить, некому было оценить перемены, происшедшие во мне, и подтолкнуть вперед. Мизия пропала, Марко безвылазно сидел в монтажной, и теперь мне казалось, что, повзрослев и став независимым, я ничего не приобрел, что, наоборот, раньше было даже лучше. Я в одиночестве бродил по городу и каждый раз, встречая кого-то из знакомых, ощущал, что от моей пресловутой общительности не осталось и следа, а вместо нее возник критический взгляд, отбивавший у меня последнюю охоту общаться с внешним миром. Я возвращался домой, включал стереосистему на полную мощность и рисовал, пытался выбросить из головы все остальное, но не мог.
Я узнал у брата Мизии адрес их матери, записал его на листочке и немедленно отправился к ней.
Она жила в старом типовом коттедже с крошечным садиком, ограда и фасад выглядели самыми запущенными на всей улице. Я нажал на кнопку звонка, и тотчас по другую сторону маленькой ржавой калитки сбежалась целая свора хромых, больных, облезлых собак и кошек и загавкала, заскулила, зарычала, замяукала; потом вышла светловолосая девушка и впустила меня, даже не спросив, кто я такой.
Сестру Мизии звали Астра; они были похожи, только Астра чуть полнее, с более широкими скулами и менее внятным выражением лица. Но очень радушная – едва я успел представиться, как она уже вовсю восторгалась моим непальским беретом:
– Ой, какая прелесть! Дай посмотреть!
Я протянул ей берет и сказал:
– Я хотел спросить, может, вы знаете, где Мизия. Я уже несколько недель не могу ее разыскать.
– А, Мизия, – сказала она без особого интереса. – Спроси лучше у мамы.
Нацепив мой берет, она повела меня через маленькую, забитую разномастной мебелью гостиную, где среди разбросанной одежды, газет, старых книг, чашек, картин в примитивистском стиле и еще кучи самых разных предметов разгуливали другие кошки и собаки; там же валялась гитара, и вообще царил такой беспорядок, что квартире Мизии было до него далеко. У Мизии беспорядок казался продолжением ее жизни, осадком ее устремлений, решений и порывов; здесь же он выглядел всего лишь следствием безалаберности и забывчивости, планов, брошенных на полпути, предоставленных самим себе, словно лодки, пущенные по течению. Я смотрел на обивки всех цветов радуги, на разнокалиберные стулья, на тощих, наглых котов и собак и с болью думал, как же трудно было Мизии расти в подобной обстановке, скольких усилий ей стоило самой, без чьей-либо помощи, встать на ноги и вырваться отсюда, да еще и позаботиться о младшем брате и бог весть еще скольких близких людях, прежде чем встретить нас с Марко.
Мать Мизии была красивой белокожей блондинкой; в ее глазах светилась странная одухотворенность, почти как у дочери, но с оттенком фанатизма. Помешивая в большой кастрюле кашу для своих домашних питомцев, она сказала:
– Не могу поздороваться, руки заняты.
– Ничего-ничего, – отозвался я, ища, куда бы поставить ногу среди судков, стаканов, яблок, кусков хлеба, коробок, старых газет, полупустых бутылок, книг в обгрызенных обложках.
Сестра Мизии все никак не могла наглядеться на мой берет и теперь вертелась перед стеклянной дверцей кухонного шкафа, заставленного тарелками и стаканами, и всякими лекарствами для животных. Это была красивая девушка с золотистыми волосами до плеч и жизнерадостным лицом, но она внушала мне нескрываемый ужас: в ней ничто не напоминало Мизию с ее жгучим, напряженным интересом к миру, с ее быстрым, точным умом.
– Я только хотел что-нибудь узнать о Мизии, – сказал я. – Вдруг вы недавно с ней разговаривали или представляете, где она может быть.
– Мизи. Ты ее друг? – мать Мизии обратила ко мне отрешенный взгляд святой или сумасшедшей.
– Да, – ответил я, все еще надеясь найти утешение в том факте, что именно здесь, в этом месте, Мизия стала такой, какая она есть.
Ее мать сняла с плиты кастрюлю с кашей и спросила:
– Поможешь?
Я принес ей несколько мисок и плошек, вытащив их из завала на столе, и она разложила в них дымящуюся кашу. Астра, сестра Мизии, забросила мой непальский берет в общую кучу и тоже стала помогать. Она смотрела на меня с какой-то детской, но лукавой настойчивостью, и от этого ситуация выглядела еще более странно; пару раз она как бы невзначай коснулась моей руки, задела меня бедром, она улыбалась и сразу отворачивалась. Домашние кошки и собаки вертелись вокруг нас, требуя еды; их уличные собратья толпой напирали на стеклянную дверь.
– Она недавно пропала и не дает о себе знать, – сказал я. – И где она, никто не знает.
– Мизи такая шустрая, – отозвалась ее мать. – Она всегда все так быстро понимала, даже когда была маленькая. Раз в десять быстрей, чем все остальные, но, наверно, от этого все ее проблемы и пошли. – Деревянной лопаткой она соскребла со стенок кастрюли остатки каши и стала дуть на полные миски.
– Она вам не звонила? – спросил я, задыхаясь от подступающей тревоги, словно меня засасывало в зыбучие пески. – Вы не знаете, где она сейчас?
Мать Мизии покачала головой, не спуская с меня своих голубых нездешних глаз: – С Мизи всегда было трудно разговаривать. Она всегда была такая непримиримая. И упрямая. Всегда задавала такие серьезные, важные вопросы, даже когда была маленькая.
Сестра Мизии вынесла в запущенный садик две еще дымящиеся миски; уличные собаки и кошки запрыгали вокруг нее. Мать Мизии крикнула:
– Астра, не давай пока, каша горячая! Подожди, пока остынет!
– Да знаю, мама, знаю! – отозвалась сестра Мизии и опять как-то странно посмотрела на меня через стеклянную дверь.
– Что ж, мне пора. Так или иначе, спасибо, – я отыскал свой непальский берет, весь перемазанный в каше.
– Поставь повыше, на ограду! – крикнула Астре мать Мизии. – И смотри, чтобы Тимпер не запрыгнул! Смотри, чтобы Бибо или Нина миски не перевернули!
– До свидания, – сказал я, уже двигаясь к выходу через гостиную. Я помахал сестре Мизии, но она меня не видела.
Мать Мизии, по-прежнему стоя среди собачьих и кошачьих мисок, улыбнулась мне бесконечно нежно и отстраненно:
– Приходи, когда захочешь.
– Спасибо, – я был уже у входной двери, уже у маленькой ржавой калитки и, наконец, на улице, среди маленьких ветхих домишек, в тоске и изумлении размышляя о том чуде, какое Мизия сумела сотворить с собой сама, без всякой помощи.
24
Как-то под вечер ко мне зашел Сеттимио Арки с двумя большими алюминиевыми коробками для пленки, водрузил их на кухонный стол и сказал:
– Ну вот. Готово.
– И как? – спросил я, сердито глядя, как он расхаживает по квартире и глазеет по сторонам.
– Вроде ничего, – ответил он, обшаривая мой пустой холодильник. – Конечно, не совсем рождественская семейная комедия и не для среднего итальянского зрителя, но вторым экраном, наверно, может пойти.
– Я спрашивал, как фильм, – сказал я, – а не как его можно продать.
– Я и говорю, – Сеттимио уже держал в руке последнюю мою шоколадку с малиновой начинкой. – Вышел вполне запредельный бред, если нам удастся его пристроить, глядишь, кому-нибудь и понравится.
Он прошелся по моей квартире-пеналу, жуя на ходу мою же шоколадку и, как всегда, чувствуя себя в гостях как дома.
– А Марко? – спросил я.
– Говорит, что слышать о нем больше не хочет. Говорит, фильм готов и теперь он к нему не имеет никакого отношения. Ты же его знаешь.
Я подошел, отломил от плитки два квадратика, пока еще что-то оставалось, и сказал:
– Когда я последний раз его видел, он прямо жить без него не мог.
– Да так оно все и было, – отозвался Сеттимио. – Было до самого сегодняшнего утра. Е-мое, он последние недели вообще по ночам не спал. А сегодня вот фильм закончил, и – бац! – все. Убудет с него, что ли, если кто-нибудь фильм увидит и что-нибудь о нем скажет. Художник, что с него возьмешь!
– Ага, – сказал я, хотя особой симпатии к Марко сейчас не питал.
– А еще я не понял, что за фигня там у них с Мизией приключилась. Рассорились, что ли? К нему-то с этим не подъедешь, но и без того ясно, что крышу у него совсем снесло. Они весь фильм друг от друга оторваться не могли, а в итоге выть хочется. Не знаешь, что стряслось?
– Нет, – отрезал я. – Не знаю.
– Ну и ладно, сами разберутся, – пальцы у Сеттимио были перемазаны в шоколаде. – Сейчас главное – понять, как запустить фильм, черт его дери. Не класть же его на полку после всего, что я ради него сделал.
От тона Сеттимио меня разбирал смех; единственным его оправданием был тот энтузиазм, с каким он участвовал в создании фильма, и тот факт, что, судя по его виду, он до сих пор был уверен в успехе по крайней мере на сорок пять процентов. Но когда он направился к выходу, унося две круглые алюминиевые коробки, меня вдруг пронзила мысль, что там, внутри, лежат полтора месяца жизни Мизии и тысячи биений сердца, мыслей, жестов, чувств Марко, хоть он бы никогда в этом не признался.
Под вечер я пришел к дому Марко и позвонил по домофону, хоть и знал, что он терпеть не может подобных сюрпризов. Марко сказал:
– Я сейчас спущусь, тут слишком тоскливо.
Я ждал его минут десять; когда он наконец спустился, вид у него был такой, будто его только что сняли с центрифуги – бледный, измочаленный.
Мы двинулись по узкой улице в сторону проспекта, туда же, куда в тот вечер умчалась Мизия на мопеде брата.
– Сеттимио говорит, ты закончил фильм, – произнес я.
– Ага, – сказал Марко. – Я бы мог возиться с ним еще целую вечность, но тогда бы вышла уже полная чума. Знаешь, есть такие, стремятся к абсолютному идеалу, а он все время ускользает у них из-под носа?
– И что ты теперь собираешься делать? – спросил я.
– В смысле?
– Ну, с фильмом. Кому ты думаешь его показать?
– Я не думаю его никому показывать, – сказал Марко, прикрыв глаза, словно все эти разговоры его уже достали.
– Но, может, им заинтересуется какой-нибудь фестиваль, или продюсер, или еще кто, – я не сомневался, что Мизия гораздо лучше сумела бы зарядить его положительной энергией; но ее не было, и мне казалось, что я должен хотя бы попытаться, сделать хотя бы малую толику того, что она сделала для меня.
Марко, как обычно, шел на полшага впереди, засунув руки в карманы и глядя себе под ноги.
– Фильм готов. И точка. Ничего я никому продавать не буду. Закрыли тему.
Мы молча шли по забитому машинами проспекту; я сбоку смотрел на Марко и не мог понять, какие чувства вызывает во мне его коренастая, напряженная фигура – скорее раздражение, понимание, сострадание, или еще что. А потом на углу улицы он вдруг обернулся ко мне и спросил:
– Как там Мизия?
– Понятия не имею, – ответил я с какой-то непонятной смесью облегчения и вновь проснувшейся боли.
– Как это не имеешь понятия? – Марко смотрел мне прямо в глаза.
– Я с ней больше не общался, – сказал я. – С того дня, после выставки. Когда ты пришел и сказал, что вы расстались. Когда ты сказал, что тебя это больше не касается.
– И ты ее не искал? – спросил Марко так, словно это я был во всем виноват, в том числе и в его нелепом упрямстве, и в нежелании говорить.
– Искал, конечно, – сказал я. – Ни ее брат, ни мать ничего не знают. Отец сбежал в Грецию и уже больше года не дает о себе знать. Коллеги из Флоренции тоже не в курсе. Мизия совсем одинока, ей некуда податься.
Марко отвернулся, как будто глядя на дорогу, но я видел, что в глазах у него стоят слезы, он сдерживался из последних сил. Я тронул его за плечо, он вздрогнул:
– Давай обойдемся без этих душещипательных разговоров, ладно? Если уж на то пошло, я тоже одинок.
– Ну, семья-то у тебя есть, – возразил я, разрываясь между болью и раздражением.
Марко пошел дальше, словно пытаясь скрыться от моих слов в теплом, пыльном весеннем воздухе. Я двинулся за ним, приноравливаясь к ритму его шагов; мы миновали перекресток, старую арку, узкий проулок и наконец очутились в безлюдном и голом саду, над которым возвышалась церковь, надстроенная и перестроенная в самых разных стилях. Я не ощущал ни малейшего желания идти за ним, и вместе с тем мне казалось, что я обязан это делать; я сказал:
– Что у тебя все-таки случилось с Мизией? На самом деле?
Марко резко обернулся:
– Ничего не случилось, мы расстались, и все. – Он стоял, глядя на меня в упор, прищурившись, держа руки в карманах куртки из жатого хлопка.
Я положил руку ему на плечо, и на этот раз он не отстранился:
– Марко, черт тебя дери. Что стряслось?
– Ничего не стряслось, – сказал он. – Просто я слишком долго сидел взаперти за монтажным столом и пялился в этот хренов экран. За пару дней оклемаюсь.
– Может, пойдем куда-нибудь выпьем? – сказал я. – Или в кино сходим, или в пиццерию?
Марко покачал головой, он уже опять замкнулся в своей броне:
– Давай не сегодня, как-нибудь на днях. Я тебе позвоню. Сейчас мне просто надо отоспаться.
Я хотел сказать, что провожу его, но он хлопнул меня по плечу на прощание и пошел прочь через громадный пустырь, по которому бегала стая бродячих собак.
25
В первых числах мая меня на тротуаре у собственного дома едва не сбил крохотный «фольксваген» на огромных, раза в два больше, чем надо, колесах. За рулем сидел крайне оживленный Сеттимио Арки:
– Я тебя, мать твою, два часа ищу! – крикнул он. – Тут сногсшибательные новости, а ты шляешься неизвестно где!
Он заехал на бордюр, не обращая ни малейшего внимания на поток пешеходов, выскочил из машины и ринулся ко мне: оказалось, какой-то его приятель, директор кинотеатра, готов на один вечер предоставить нам зал, фильм Марко покажут в перерыве между двумя американскими. Сеттимио настаивал, чтобы я сообщил об этом Марко:
– Если уж ты его с места не сдвинешь, тогда я, мать твою, к нему с пушкой приду!
Мы встретились с Марко через несколько часов, но он не проявил ни малейшего интереса к моему рассказу: от фильма он как будто отключился раз и навсегда.
– Я не помню, что там наснимал. Это было так давно.
– Но ты закончил его месяцназад. – Мне стоило больших усилий не заорать во весь голос.
– И что? – сказал он. – Мне даже сегодняшнее утрокажется далеким прошлым.
Поэтому всю организацию мы с Сеттимио Арки взяли на себя: он сделал три афиши и сочинил страничку аннотации для прессы, я отстучал на бабушкиной машинке приглашения и адреса на конвертах. Мы разослали их во все газеты и всем знакомым, в том числе каким-то подозрительным дружкам Сеттимио и покупателям моих картин. Я слишком хорошо помнил, сколько сделала Мизия для моей выставки, но, конечно, даже не надеялся, что смогу хотя бы отдаленно сравниться с ней по количеству излучаемого оптимизма.
В четверг вечером Сеттимио Арки заехал за мной на старом «мерседесе», которым обзавелся при каких-то сомнительных обстоятельствах, и мы вместе поехали к Марко. Уламывать его мне пришлось целую вечность; пришлось кричать:
– Ты что, вообще не хочешь хоть раз увидеть свой же собственный фильм на настоящем экране? Тебе что, вообще не интересно?
Пока мы ждали у подъезда, Сеттимио был вне себя от нетерпения, обрушивал на меня пулеметные очереди своего хихиканья и подмигиваний, но стоило Марко наконец спуститься, как он сразу успокоился. У Марко всегда была способность без всяких усилий заражать окружающих своим душевным состоянием: одним взглядом останавливать легкую болтовню или поток шуток, одним жестом, или словом, или просто улыбкой оживлять самую тоскливую атмосферу. Но в тот вечер, когда показывали фильм, он всю дорогу молчал с таким видом, словно уступает силе обстоятельств или его везут на расстрел; даже Сеттимио догадался, что лучше помалкивать.
Кинотеатр его приятеля находился не совсем в центре, но и не то чтобы на дальней окраине; старинное здание в стиле модерн стояло на широком проспекте, по которому и днем, и ночью шел поток машин. Мы приехали меньше чем за полчаса до начала, а надо было еще проверить коробки с пленкой, и маску проектора, и все прочее; Марко сказал:
– Начинайте без меня. Я попозже подойду.
– Но это твойфильм, – сказал я. – Так нельзя.
– Почему? – сказал Марко, прищурившись. – Кто сказал, что так нельзя?
Но, наверно, на моем лице было написано такое отчаяние, что он все-таки вышел вместе с нами из машины, воровато озираясь, хотя ни перед кинотеатром, ни в холле никого не было, только висели безобразные афиши, на которых Сеттимио от руки написал: «Специальный Показ, Только Этим Вечером В Преддверии Мировой Премьеры „ПОХИТИТЕЛЬ СЕРДЕЦ“, Режиссер Марко Траверси»; рядом красовалась фотография Мизии – кадр из фильма, где она стоит обнаженная.
Увидев афиши, Марко рассвирепел:
– Какого черта?!
– Это кадр из фильма, – сказал Сеттимио с самым невинным видом. Марко схватил его за шиворот:
– Я тебе морду набью, подонок!
Я был взбешен не меньше, а может, и больше, но все-таки встал между ними и сказал:
– Спокойней, пожалуйста.
– Это кадр из фильма, – повторил Сеттимио.
– Мне без разницы, что это такое, – сказал Марко, не отпуская его. – Никто тебе не давал права делать из него эту похабень!
– Пожалуйста, – произнес я; мне наконец удалось оттащить его от Сеттимио. – Мы же здесь ради показа, черт возьми! Может, другого и не будет!
– Да плевал я на показ, – Марко весь трясся от ярости. – И я не собираюсь использовать Мизию, как приманку для зрителей, словно я низкий, грязный сутенер!
– Это кадр из фильма, – опять повторил Сеттимио, поняв, что за моей спиной Марко его не достанет.
– Запомни, ничтожество, фильм – это другое дело, – сказал Марко и опять попытался дотянуться до Сеттимио, но я перехватил его руку. – Знать больше не хочу этого подлого ублюдка!
– Слушайте, давайте сделаем так, – сказал я; надо было срочно спасать положение. Я сорвал фотографии Мизии со всех трех афиш и протянул Марко. Он стоял с фотографиями в руках и не знал, что с ними делать; наконец, порвал их на мелкие кусочки и засунул в карманы куртки, кусочки той обнаженной белокожей Мизии, какой мы оба запомнили ее в тот день на съемках.
Потом развернулся, чтобы уйти, но в этот самый момент прибыл директор кинотеатра и направился к нам со словами: «А, вот и наш творец!»
Провинившийся Сеттимио бросился представлять всех друг другу, последовали долгие рукопожатия, он улыбался не переставая, словно рекламный робот.
Директора звали Данило Даргопанно, у него было лошадиное лицо, очень узкое и длинное туловище и короткие ноги. Марко, казалось, вполне был способен вцепиться и в него, поэтому я на всякий случай потянул его за руку и сказал:
– Нам еще надо кое-что проверить в будке киномеханика, ты не забыл?
Все проверив, мы остались на балконе и стали смотреть вниз, в зал; Марко прятался за старой позолоченной колонной, остатком декора, сохранившимся еще с тех давних пор, когда здесь был театр. Внизу расстилалось море пустых кресел, среди которого в неловком молчании сидели человек пять-шесть; между тем до начала оставалось пять минут.
– Зря мы послушались Сеттимио, бредовая была идея, – сказал Марко. – Мало нам было забот, черт подери.
– Перестань, – возразил я. – Так его хоть кто-то увидит.
– То-то радости, – сказал Марко. – Чем устраивать всю эту показуху, в миллион раз пристойнее было бы не вынимать его из коробок или вообще сжечь. – Однако при этих словах в зал вошли еще какие-то люди, с нашего балкона мы увидели Сеттимио, лавировавшего между рядами кресел с видом радушного хозяина и указывавшего рукой то на экран, то в нашу сторону.
– Если сюда кто-нибудь поднимется, то полетит вниз, – сказал Марко.
Поэтому спустился один я; вокруг были лица, лица смущенные, и лица траурные, и лица политически озабоченные, и лица школьников, и лица местных выпивох, и лица членов студенческих союзов. Сеттимио каждого встречал у входа и провожал до кресла, хотя в огромном пустом зале любой мог без труда найти себе место. Но он сам выбрал эту роль, и она ему безумно нравилась: он без устали улыбался, подмигивал, всем оказывал знаки внимания, брал под руку мужчин, целовал в щечку женщин. Заметив меня, он тут же подбежал и заявил, что Марко непременно должен произнести речь или хотя бы сказать пару слов перед началом показа. Я возразил, что Марко и слышать об этом не захочет, но тут появился директор Даргопанно и поддержал Сеттимио: «Хотя бы пару слов, всего пару слов».
Мы втроем поднялись на балкон, я попытался мягко убедить Марко, и его реакция оказалась точно такой, как я и предвидел, но директор не успокоился и продолжал настаивать:
– Ну хоть каких-то паршивых два слова надо им сказать, раз уж они притащились сюда ради твоего фильма.
– Им же хуже, – сказал Марко. – Я никого ни о чем не просил.
Но директор не отставал, с другого боку напирал Сеттимио, и я тоже подключился, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки, и Марко наконец сказал:
– Ладно, – взгляд у него вдруг стал отсутствующий, и он направился к лестнице.
Я тоже спустился в партер, где сидело от силы человек двадцать – двадцать пять, и смотрел, как Марко вместе с директором поднимаются на сцену. Директор представил его, промямлил что-то невразумительное, потом сделал приглашающий жест и сказал:
– А теперь я передаю слово режиссеру.
Несколько секунд Марко стоял неподвижно с микрофоном в руке, я видел, как от волнения его бьет дрожь. Сам я чувствовал себя еще хуже, вдобавок меня мучила мысль, что в таком положении он оказался не без моей помощи; хотелось только одного: прекратить все это, выключить свет, разогнать всех по домам.
– Сказать мне особо нечего, – начал Марко, – иначе я бы написал речь, а не снял фильм. Хотя я все равно не знаю, почему его снял. Он получился таким, как есть, и совсем не похожим на то, как я его задумывал. Не знаю, как он будет смотреться со стороны. Но если есть в нем что-то заслуживающее внимания, то это, по меньшей мере, наполовину заслуга человека, которого вы увидите на экране, но которого сегодня здесь нет, – Мизии Мистрани.
Я сидел в продавленном кресле, обитом старым бархатом, и не верил свои ушам: я не ожидал этих слов, не ожидал услышать внезапную дрожь в его голосе, не ожидал, что ее имя прорвет броню ожесточения на весь мир, в которой он замкнулся. Никто не захлопал, никто ничего не сказал, и только слабый гул прокатился по огромному полупустому залу с немыслимо высоким потолком. Марко спустился со сцены и, поравнявшись со мной, сказал:
– Пойдем наверх. – Он был бледен; думаю, он уже тысячу раз раскаялся, что минуту назад вдруг проявил слабость.
Пока медленно гас свет, мы поднялись на балкон и снова укрылись за колонной. А потом на вспыхнувшем экране возникло черно-белое изображение: первый эпизод, субъективная камера, тротуар, старая подворотня, вход в подъезд, лестница, ступеньки, ступеньки. И сразу – бледное лицо Мизии с огромными глазами; и вся она, в полный рост, в брюках и черной футболке; и ее походка, когда она идет по пустой гостиной, словно по наклонной льдине. Передо мной было огромное, на весь экран, изображение Мизии, и не верилось, что когда-то я видел ее настоящую, в самых разных ракурсах, а потом ее уменьшенную копию на тусклом экране монтажного стола: в каждом кадре лицо Мизии излучало такую внутреннюю силу, что невозможно было оторвать взгляд, в ее глазах читались воля и ум. Странно было вновь и так отчетливо видеть все ее движения, мельчайшие жесты, которые с тех пор, как она исчезла, я, казалось, уже почти забыл и которые, увеличенные на пленке во много раз, могли заставить любого испытать то же потрясение, что испытал и я при первой нашей встрече. Странно было слышать все мельчайшие оттенки и интонации ее голоса, улавливать каждый ее вздох; и странно было думать об этом, сидя рядом с Марко, чья напускная отчужденность по ходу фильма мало-помалу рассеивалась. Я был настолько поглощен Мизией, что никак не мог сосредоточиться на самом фильме, а тот разворачивался передо мной, рваный, угловатый, исступленный, резкий, – непохожий на все, что я видел прежде. Это был странный и неожиданный фильм, он то растягивался, то вдруг сжимался и двигался скачками, подчиняясь ритму ударных инструментов, и электрогитар, и индийских ситаров, над этим ритмом Марко и трудился в те ночи, когда сидел взаперти, отрешившись от всего мира. Я с изумлением видел, что его наваждение перестало быть его личным делом, что плоды этого наваждения способны взволновать и тронуть сердце даже совершенно посторонних людей, пробудить в них мечтательность и воображение.
Все семьдесят минут, пока длился фильм, мы сидели молча, в таком напряжении, что когда по экрану поползли кустарного вида титры, и погас проектор, и загорелся свет, мои натянутые нервы сдали, и я вдруг захлопал в ладоши.
Марко схватил меня за запястье:
– Ливио, прекрати, – но снизу раздались еще хлопки, хоть их и трудно было назвать овацией или бурными аплодисментами. В другом конце зала кто-то спросил: «Что, уже кончилось?»; кто-то сказал: «А когда кино начнется?». Одинокие голоса доносились к нам из огромного полупустого пространства, не сливаясь воедино, с высоты мы видели в разных точках зала такие же одинокие, отдельные жесты: кто-то зевнул, кто-то надел куртку, кто-то что-то уронил и теперь шарил под креслом, кто-то поцеловал девушку, кто-то смотрел вверх. Народу было больше, чем перед началом, должно быть, они просочились в зал уже во время фильма; Сеттимио расточал вокруг еще больше радушных жестов и улыбок.
Марко стремительно сбежал по лестнице, я за ним, через служебный вход мы выскочили на запруженный машинами ночной проспект.
– Эй, может, подождем Сеттимио? – сказал я. – И с директором попрощаемся? И на реакцию зрителей посмотрим?
– Реакцию мы уже видели, – сказал Марко, не замедляя шаг. – Я ухожу, а ты как знаешь.
Мы перешли улицу, добежали до автобусной остановки, едва успели вскочить в уже закрывавшиеся двери, совершив за несколько минут резкий переход от полумрака и неподвижности кинотеатра к яркому свету, свободе и скорости. Когда мы отъехали на четыре или пять остановок, Марко сказал:
– Чтобы я еще хоть раз,твою мать. Чтобы я хоть раз еще вляпался в такое.
– Но почему? – удивился я. – Разве ты не для того снимал фильм, чтобы его кто-то увидел? Разве не для этого снимают фильмы?
Марко смотрел на убегающую вдаль свинцово-серую дорогу:
– Сам не знаю, для чего я его снял. Я и во время съемок не больно много об этом думал. Но точно не для того, чтобы все кончилось вот этим.
– Но фильм-то отличный, – сказал я. – Его, черт возьми, действительно стоило показать публике. И, между прочим, кому-то он понравился. Слышал аплодисменты?
– Слышал, – отозвался Марко чрезвычайно язвительным тоном, какой появлялся у него в минуты разочарования, когда он боялся разочароваться еще больше.








