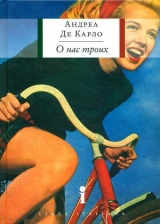
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– Я его видел, – сказал Марко, опередив меня с ответом, и махнул рукой в сторону комнаты маленького Ливио.
Мизия улыбнулась странной улыбкой, провела рукой по волосам и – чуть ли ни бегом бросилась в ванную комнату, заперлась там.
Мы с Марко пошли на кухню; он сел на старый деревянный стул и стал смотреть на шкафчики, плиту и холодильник, рассеянно переводя взгляд с одного на другое. Я поставил кипятить воду, чтобы приготовить растворимый кофе, следя за каждым своим движением, будто канатоходец: так же предельно сосредоточенно – и с затаенным страхом в душе. Мы не говорили и даже не смотрели друг на друга, не могли; я чувствовал, как пол плывет под ногами и как болят глаза и уши.
Потом пришла Мизия, опять бодрая и энергичная, как всегда в таких случаях, но уже не спокойная, как поначалу, а напряженная как струна. Она взяла приготовленный мной кофе, отошла к окну и повернулась к Марко, стараясь смотреть прямо перед собой.
– Так что? – сказала она!
– Так что? – повторил Марко, которого будто пригвоздили к стулу. Закашлялся, встал и повторил: – Так что?
Он не знал, каким тоном говорить и даже какую позу выбрать: прислониться к шкафчику, застыть посередине кухни, подойти к Мизии или отойти назад; опустить глаза, или поднять, или смотреть в другую сторону. Ни разу за все годы нашего знакомства я не видел, чтобы он был так неуверен и ждал, что разговор начнет другой.
– Вот он я, – сказал он, поднял вверх руки, тут же опустил, неловко попытался улыбнуться.
Мизия и не думала что-то предпринимать, у меня прямо сердце разрывалось при виде нее, столь неуверенной, во власти ностальгии и злобы: видно, эти чувства жили в ней давно, запрятанные куда-то глубоко, но то и дело овладевали ей вновь и вновь и снова отпускали.
– Поздновато, а? – сказала она.
– Не знаю, – ответил Марко, почти уже не следя за своим тоном. – Я ничего не знал. Думать не думал.
– Но и не стремился узнать, так? – сказала Мизия, и чашка кофе в ее руках задрожала. Выражение лица у нее все время менялось: вспышки переживаний сменяло резкое спокойствие, и тогда она уходила мыслями куда-то далеко.
– Так? – повторила она.
– Может быть, и так, – сказал Марко, и мне показалось, что он тоже дрожит. – Может, боялся сложностей, не знаю. Может, убегал от проблем. Или просто ни черта не понимал.
Мизия слушала его и постоянно двигалась, теребила волосы, они так играли на чувствах друг друга, что мне уже стало трудно дышать.
– Но вот я здесь. Я и не понял толком, о чем мне Ливио пишет, но тут же приехал, потому что речь шла о тебе.
– На редкость трогательно! – сказала Мизия; я очень остро почувствовал, какое ей приходится делать над собой усилие, чтобы держать удар.
Марко и не пытался противостоять ее беспомощной иронии, он просто смотрел на нее и смотрел в пол.
Мизию словно захлестывали мелкие, частые волны упрямства.
– Бог ты мой. На редкость романтично. С опозданием на пять с половиной лет, но чего уж там…
Марко потряс головой.
– Возможно, я ошибся и вел себя как идиот, но так уж вышло.
– Возможно, – сказала Мизия, и лицо у нее было по-настоящему взрослое, пожившее, разочарованное, не то что у него: лицо ребенка. Она хотела закурить сигарету, но зажигалка у нее дрожала.
И хотя я весь, до самой глубины души, был захвачен их разговором, мне показалось, что лучше оставить их одних; тихо и незаметно я направился к двери. Не столько из деликатности, а чувствуя себя виноватым: что не передал Марко слова Мизии в ночь ее свадьбы и что никогда не умел донести хотя бы до одного из них то, что я знал или думал о другом, потому что все время испытывал к ним противоречивые чувства.
– Можешь остаться, Ливио, – сказала Мизия. – У нас нет от тебя секретов.
Я остановился в дверях кухни, окончательно увязнув в их безнадежном разговоре. Все трое мы так устали и настрадались, что вообще уже были не способны сказать что-то толковое. А рядом спал маленький Ливио, он мог в любую минуту проснуться, прийти, и тогда все стало бы еще сложнее.
– Ты ушла.Оставила меня, как дурака, разбираться с фильмом и с бесконечными проблемами.
– А ты пытался меня вернуть? – ответила Мизия, словно то, о чем они говорили, происходило несколько часов назад – или веков.
– Ты и слышать ничего не хотела, – сказал Марко. – Я не мог до тебя достучаться. Ты захлопнула дверь – и все.
– И ты отказался от любых попыток, так? – сказала Мизия. – Что даже проще было, так?
– С тобой просто не бывало. С тобой одни сплошные сложности, – сказал Марко.
– Возможно, я не годилась на роль рабыни? – сказала Мизия, и голос у нее дрожал, как взгляд и пальцы. – Потому что я не молчала, не смотрела с обожанием, не соглашалась со всем, что ты делал?
– Неправда, – сказал Марко, – я хотел говорить с тобой, но больше не получалось. И все тут.
– Будто у меня с тобой получалось говорить, – сказала Мизия. – Ты был так увлечен самим собой и своим великим будущим. Все остальное было неважно.
Они замолчали, оглушенные своими же собственными словами; кухню заливал холодный утренний свет. Я смотрел на разделявшее их пространство и пытался понять: то ли оно вдруг резко сократится, и они чудом вновь приблизятся друг к другу, то ли, наоборот, начнет увеличиваться все больше и больше, и они уже не смогут его преодолеть.
– Мне жаль, – сказал Марко, и его слова завибрировали в воздухе, отлетая от стен, мебели, оконного стекла: мгновенным, едва заметным эхом наших взволнованных сердец. – Если ты хочешь, чтобы я попросил прощения, то я попрошу прощения. Мне как, встать на колени и сделать тебе официальное предложение?
Он улыбался, но неуверенно; я тоже улыбался, невольно заразившись его улыбкой, застыв в ожидании того, как пространство между ними внезапно сократится.
– Я выхожу замуж через две недели, – объявила Мизия срывающимся голосом.
Мы с Марко уставились на нее, категорически отказываясь верить в то, что она говорит, и вместе с тем ни секунды не сомневаясь, что она не шутит.
– Я решила час назад, – нервно и с отчаянием произнесла Мизия, стоя посреди кухни и изо всех сил стараясь сохранить нейтральное выражение лица.
Еще несколько секунд пространство между ней и Марко оставалось неизменным, а потом стало увеличиваться с такой бешеной скоростью, что нас троих чуть не сбило с ног и не раскидало в разные стороны, словно порывом полярного ветра при минус тридцати.
16
В Лондоне Марко жил совсем не там, где я искал его год назад, а в цокольном этаже двухэтажного здания в глухом переулке рядом с Темзой. Квартира была почти пустая: двухспальная кровать в его комнате и односпальная в комнате для гостей, да стол на козлах и три стула на кухне. На голых белых стенах – ни картин, ни фотографий, ни книжных полок; на деревянном полу валялись несколько книг карманного формата и какие-то письма. Остальные вещи Марко лежали в его дорожной сумке или у кровати, аккуратно разложенные, будто вещи моряка или странного монаха-авантюриста. Здесь царил тот же дух чистоты и отрешенности от мира, что и на старом чердаке в Милане: Марко инстинктивно стремился оставлять как можно меньше следов, не накапливать остатки прожитой жизни. Полная противоположность пестрому беспорядку, в котором я жил все последние месяцы в доме Мизии.
Поначалу мне казалось, что Марко уже не оправится: он не ел, не спал, не брился, ходил в одних и тех же вещах, не отвечал на телефонные звонки. Почти все время сидел у себя в комнате, если и выходил, то с отсутствующим лицом и в наушниках: он все время слушал одну и ту же кассету Боба Дилана периода его религиозных поисков. Всякий раз, когда я передавал, что ему звонят по срочному делу, или уговаривал пойти погулять, или приносил сэндвичи с тунцом и салатом, которые покупал на углу улицы, или хотел вместе с ним обсудить, что произошло и почему, чтобы понять наконец, как так получилось с Мизией, – он отвечал, не глядя на меня: «Мне не интересно, спасибо». Ту же самую фразу и тем же тоном не раз говорила мне Мизия: видно, они переняли друг у друга среди прочих привычек еще и эту.
Я старался не слишком на него наседать, хотя бы потому, что сам был не в лучшей форме и только следил за ним на расстоянии, оглядывал каждый раз, когда он проходил по коридору. Мне хотелось работать и дальше, и я и перевез из Парижа все холсты и краски, но не мог ни сосредоточиться как следует, ни как следует расслабиться. Март в тот год выдался холодный: отопление не работало, в квартире было влажно и темно. Но я не знал, как сказать об этом Марко, когда он в таком состоянии, и спасался тем, что надевал на себя по два свитера сразу, иногда еще куртку, да старался побольше двигаться.
Я скучал по маленькому Ливио, которому так долго был почти-отцом, почти-матерью, почти-братом; скучал по Мизии, хотя близость к ней и выбивала почву из-под ног. Волновался за них обоих и почти каждую минуту, днем и ночью, находил новые поводы для беспокойства. Хорошо ли ест маленький Ливио и что; играет ли он вдоволь, и во что; действительно ли Мизия собирается завязать с наркотиками, как обещала мне, или все будет еще хуже, чувствует ли она себя защищенной от мира и от самой себя? И правда ли Томас Энгельгардт – самый надежный и порядочный мужчина на свете, способный позаботиться о Мизии и ребенке, как она не раз заверяла меня перед моим отъездом?
Порой меня мучили сомнения: что, если я, как трус и эгоист, просто ухватился за первую попавшую возможность и, уехав от них, тем самым сбежал от все возраставших трудностей? Может, не напиши я письмо и не появись внезапно Марко, Мизия и не ухватилась бы за предложение Энгельгардта, а не окажись меня в ее доме в роли няни и «жилетки», у нее не было бы ни времени, ни настроения ходить по ресторанам и выслушивать предложения руки и сердца? Я гнал от себя воспоминания о том, сколь тщетны были все мои попытки защитить ее или в чем-то ее убедить, но в памяти вдруг снова всплывало, какая чудовищная паника охватила меня в ту ночь, когда приехал Марко, и мне казалось, что и впрямь ничего не оставалось, как уехать. Но как я ни успокаивал себя, этого хватало ненадолго, опять меня охватывали сомнения: выходит, я взял на себя ответственность за нее и маленького Ливио, а потом предал их? Я пытался понять, сколько можно терпеть ради друга усталость, отчаяние и свое бессилие, и когда дружба превращается в миссионерское служение или в безответную, двусмысленную, тайную любовь. И еще: зачем я переехал от Мизии к Марко и правильно ли, что я все время цепляюсь то за одного, то за другого, а не живу самостоятельно. И наконец: невидимая связь между нами помогала или же роковым образом каждому из нас мешала наладить свою собственную жизнь?
Весь день и большую часть ночи я мучился сомнениями, пытаясь работать в маленькой гостиной в пустом, холодном полуподвале, а Марко часами сидел на полу своей комнаты, не подавая признаков жизни.
Потом Марко пришел в себя, обескураживающе-резко – именно так у него обычно и менялось настроение. Он сам подошел к телефону, опередив меня, так что мне не пришлось в очередной раз говорить, что его нет дома: я слышал, как он с кем-то громко разговаривает и даже смеется у себя в комнате, за закрытой дверью. Около восьми вечера он зашел в гостиную – возбужденный, тщательно выбритый, в чистой одежде.
– А не поехать ли нам на вечеринку, а то сидим здесь, как больные кроты? – сказал он.
– На вечеринку? – повторил я.
– Давай же, собирайся, – сказал Марко, а сам уже стоял в дверях.
Мы вышли на улицу; Марко быстро шел, быстро говорил и размахивал руками, словно десятки световых лет отделяли его от состояния, в котором он находился лишь несколько часов назад.
– Ну что за сантименты, – говорил он мне, – пережевывать, что там было в прошлом, да еще и пытаться докопаться до первопричины, дать сегодня ответы на все те вопросы, на которые не ответил тогда. Посмотри со стороны, и тебе сразу станет легче и стыдно за себя. И если мальчик растет, не зная, кто его отец и ни разу его не видев, какая тут может быть особая, тайная связь с отцом? Ведь он же даже не знает, кто его отец?
– Наверно, – отвечал я, поддавшись его напору, хоть меня все равно царапали сомнения.
– Смешно да и только, – продолжил Марко. – Нам кажется, что мы хозяева своей жизни, но это не так. То немногое, что оказывается под нашим контролем, просто ерунда по сравнению со всем остальным. Посмотришь на себя со стороны – и смеятьсяхочется, не плакать. Надо идти вперед,черт побери, соскрести с себя всю эту накипь сочувствия самому себе.
Мы почти бежали по тротуару; он тряхнул меня за плечо.
– Что скажешь, Ливио? Что скажешь, мать твою?
Его переживания из-за Мизии и сына сменились яростной эйфорией; у Марко блестели глаза в свете фонарей, в его движениях была особая пластика – настоящее дитя городских джунглей.
Мы перешли забитую машинами улицу: он задирал водителей, кричал: «Стой, ублюдок». И шел вперед, не боясь попасть под колеса; это было типично для него: действовать не-осмотрительно, нерассудительно, как мальчишка.
Вечер выдался холодный, мы шли все быстрее, и я начинал отставать от Марко, а он опять прибавил шагу, словно убегал, в ярости и недоумении, от чувств, которые не хотел за собой признавать. Он протащил меня до самого конца по Кингс-Роуд, мимо пабов, баров, киосков с гамбургерами, битком набитых вегетарианских ресторанчиков, все это время говоря со мной и жестикулируя.
– Чтобы нормально жить, нужен самоограничитель мыслей, – говорил он мне. – Если хочешь, самоограничитель чувств. Главное, не потонуть в жизни других людей, согласен?
Я бежал рядом с ним, пытаясь понять, когда это он сумел потонуть в жизни Мизии, и легче мне станет, если я приму эту его установку, или только хуже.
Марко опять перешел дорогу, не обращая внимания на машины; теперь он тащил меня по какой-то аллее, пока, наконец, мы не оказались перед двухэтажным особняком, из каждой щелочки которого сочились свет, музыка, голоса. Он позвонил в дверь и повернулся ко мне.
– Повеселимся, а, Ливио, попробуем? Попробуем вспомнить, как это: жить здесь и сейчас, отдаться чувствам, ловить кайф, брать от жизни то, что она дает, пока дает? Ну сколько можно сидеть и мечтать, ловить мух, мучить самих себя?
– Попробуем, – сказал я.
Марко еще раз тряхнул меня за плечо; дверь открылась, и мы вошли.
Нас обожгло раскаленным – не то что дома у Марко – воздухом: особняк был забит людьми, живыми и энергичными, их связывали невидимые нити слов, жестов, улыбок, взглядов, вербального и невербального общения. На меня обрушилось разнообразие голосов и расцветок ткани, причесок и форм, пропорций, стилей одежды и типов поведения, словно я вдруг попал в мир на стекле микроскопа, увеличенный в тысячи раз. С каждой минутой я все сильнее осознавал, насколько же отвык от всего этого за последние годы, насколько же сузил круг своего восприятия, зажавшись в угол, откуда мог видеть лишь малую толику того, что происходит вокруг. Было страшно вновь оказаться на открытом пространстве, в хаосе бесконечных флюидов и токов, я не знал, как это выдержать, как этому противостоять. Оставалось одно: прятаться за Марко, плывя вслед за ним в море лиц, локтей, ладоней, улыбок, ног, сигарет, ботинок, юбок, декольте, галстуков, очков, грудей, взглядов, оскалов, улыбок.
Марко пожал руку хозяйке дома, познакомил меня с ней и двинулся дальше со мной на буксире; он выудил два бокала вина с первого же попавшегося под руку подноса, один дал мне, а второй выпил в два глотка и тут же вернулся за другим. Его тут многие знали: махали ему, улыбались, хватали за рукав. Какая-то высокая девушка бросилась его целовать, прижалась к нему всем телом и стала расспрашивать, как он поживает; высокий грузный парень, постриженный под ёжик, прокричал с другого конца комнаты: «A-а, так ты жив-живешенек!» Все они познакомились с ним в те годы, когда мы не общались, и все явно были от него без ума, судя по цепной реакции улыбок, по тому, как они поворачивались, ловя его взгляд, и расступались, стоило ему оказаться поблизости.
Марко отвечал на все эти приветствия, привычные любезности и вопросы, и все же мне казалось, что не так-то ему просто жить здесь и сейчас, испытывать чувства, ловить кайф, брать от жизни то, что она дает, как сформулировал он перед тем, как мы вошли. Я плыл за ним в потоке взглядов и жестов, оглушенный музыкой и голосами, утомленный, увлеченный, оробевший от многообразия людей и от того, что их запасы энергии неистощимы: они все время двигались, говорили, у них бесконечно менялось выражение лица. Все это время я осознавал, что Марко делает над собой усилие, и все время ждал, когда же он повернется и скажет: «Пошли отсюда?»
Но Марко так не сказал, а продолжал пить все, что только ни попадалось под руку, и постепенно заново обрел быстроту и легкость: так наконец-то отрывается от земли перегруженный самолет, долго бежавший по взлетной полосе. Два глотка – и бокал пуст; он пожимал руки, обнимался, бросал какие-то замечания, знакомил со мной всех подряд, алкоголь и адреналин в крови помогли ему вновь обрести блеск, цинизм, остроумие, вряд ли кто-то из присутствующих мог представить себе, что он две недели просидел на полу своей комнаты, парализованный отчаянием.
Мы постоянно переглядывались, и я поражался, как он запросто общается, чего я раньше за ним не замечал. Я-то помнил, что раньше у него вызывало неприязнь любое скопление людей, будь то в переполненном баре, на церемонии открытия какой-нибудь художественной галереи или даже на первом показе его первого фильма: толпа сразу вызывала у него желание сбежать и прихватить меня с собой. Теперь же общение с людьми вроде бы давалось ему легко, вот только двигался и говорил он чересчур быстро, часто перескакивая с одной темы на другую, вертел головой, старался перехватить взгляд собеседника и побыстрее пробраться сквозь толпу. Марко делал упор на женщин: он сразу шел к ним – и у них расцветала на губах улыбка, расширялись зрачки от возбуждения, и они поводили плечами, отступали на шаг, покачивались, изгибались, льнули к нему. Не одни только красотки его привлекали: я видел, как в очередной забитой людьми комнате он, подметив хоть в ком-то черточки своеобразия, тут же устремлялся вперед. Подходил к девушке, начинал что-то с жаром рассказывать, прихватывал ее за локоть, клал руку на бедро, наконец, обхватывал за плечи, жался виском к виску, шептал что-то на ушко, смеялся. И продолжал пить: хватал бокалы и проглатывал вино, не раздумывая, и чем больше пил, тем больше входил во вкус.
Я следовал за ним, как тень, а он время от времени поворачивался и подзывал меня к себе.
– Это мой необыкновенный друг Ливио, один из лучших итальянских художников нового поколения! – говорил он и, смеясь, толкал меня в объятья какой-нибудь девушки, которая шла за нами.
– Перестань, Марко, – говорил я ему, пытаясь хоть как-то сохранять спокойствие.
Но у него уже отказали тормоза.
– Нет, серьезно.Просто он стал такой застенчивый, – не унимался Марко, опять хватая меня за рукав. – А ведь раньше, когда мы познакомились, Ливио был самый общительный человек на свете, только через него я тогда и общался с людьми! А теперь все наоборот, вот странно! Не знаю, как это получилось, но мы поменялись ролями.
И толкал меня вперед, будто назойливый одноклассник, лишенный чувства меры:
– А человек он удивительно тонкий, и потрясающий любовник, серьезно.
Я отбивался еще яростнее: «Да перестаньже ты». А он уже не смотрел на меня, уже двигался в другую сторону Я извинялся, как мог, стараясь не втянуться в разговор, тоже пил, но как-то это на меня не особенно действовало, а в итоге все равно шел за Марко. Мне было не впервой испытывать к нему смешанные чувства: хотелось потягаться с ним – и дистанцироваться от него, пусть ведет себя как хочет, только без моего участия: ни в качестве дублера, ни в качестве зрителя.
И как раз когда я готов был сорваться, мне вдруг начинало казаться, что он себя не контролирует и весь натянут, как струна великолепной, но хрупкой гитары, – струна, которая вот-вот порвется. И это объединяло его с Мизией, думал я, и снова шел за ним в надежде защитить, и понимал, что толку от этого мало, но и поделать с этим ничего не мог – наверное, и впрямь все дело в том, какую роль ты на себя берешь, как говорил он.
В какой-то момент, все такой же взвинченный и стремительный, он внезапно схватил меня за локоть, прямо посреди лестницы – мы поднимались на другой этаж, в потоке лиц, взглядов, жестов, музыки, перекрещивающихся, наслаивающихся ритмов.
– Ты хоть понимаешь, Ливио, насколько этого глупо – страдать и убиваться по кому бы то ни было? Что, неужели на одном человеке свет клином сошелся?
Он настойчиво сжимал мой локоть и пристально смотрел мне в глаза, а я послушно кивал головой, но то, что он выпалил мне все это ни с того ни с сего, наводило на мысль, что он хочет сказал нечто прямо противоположное.
– А если все именно так? Может, тебе действительно есть из-за чего страдать и убиваться? – спросил я.
– Нет и нет, – яростно выпалил Марко и стал озираться, ища зацепку, и поддержку, и подтверждение своим словам. – Ты хоть понимаешь, что мы сами создаем себе проблемы? Что в Париже ты месяцами выполнял роль медсестры и няни, а толку от этого никакого? А жизнь уходит, утекает сквозь пальцы! Даже если все время об этом помнить, все равно тебе не понять, насколько же она коротка!
– Ты это к чему? – прокричал я ему сквозь музыку и голоса, бившие прямо по барабанной перепонке.
– А к тому, – ответил Марко, бросив на меня взгляд камикадзе, убившего в себе все чувства. – Главное, поменьшедумать, помнить, мечтать и ждать. Радоваться тому, что есть. Нужно жить мгновеньем, Ливио.
– Мгновенье – ничто, – сказал я. – Без всего остального оно пустышка. Мои картины и то не такие абстрактные, как это твое мгновение.
– Мгновенье – все,Ливио, – сказал он. – Все, чем мы владеем.
Я бы не удивился, если бы он тут же рванул к окну и бросился вниз или предложил руку и сердце первой попавшейся женщине.
Он направился к высокой девушке с очень короткими светлыми волосами и колечком в носу.
– Ты знаешь, что ты самая потрясающая девушка во всем Лондоне? – сказал он ей.
Она вздрогнула от удивления и восторга – а через минуту Марко уже обнимал ее, как человек, окончательно потерявший надежду, и целовал, будто все это время жил в ожидании встречи с ней.
Мне расхотелось заботиться о нем, я пошел бродить между людей, продолжая пить все подряд: вино, пиво, джин или водку, уже не разбирая, что пью, не чувствуя вкуса. Надо же было как-то компенсировать себе месяцы тревоги, ожидания, советов, самоотречения, бесплодных порывов помочь другим. Я пил и разглядывал людей, то прислонившись к стене, то стоя у окна, сидя на подоконнике, на диване, на краю стула, или опять стоя с чувством, что пол под ногами продавливается и шатается с каждой минутой все сильнее и сильнее. Мне не было плохо; я словно смотрел на все новым взглядом, все чувства сгладились и приглушились под воздействием алкоголя и бесконечных сомнений.
Потом я оказался возле миниатюрной девушки восточного типа, и мы с ней вовсю болтали, хотя я и не понял, как завязался разговор, не все понимал из того, что она говорила, но сам я изъяснялся без каких-либо трудностей, потому что отдался волне общения, которая несла вперед всех этих горланивших, жестикулирующих людей вокруг.
Я весь был здесь-и-сейчас, захваченный жаркой, самопроизвольной игрой выражений лица и интонаций, но то и дело мне вспоминалась Мизия в Париже с ее наркотиками и вспоминался маленький Ливио, рисующий на стене в гостиной зверей нашего сказочного зоопарка. Мне вспоминались то отдельные взгляды и жесты; то цвет какой-нибудь юбки или платка; то вдруг карандаш; то записка, нацарапанная в спешке на кривом кухонном столике.
Я пытался вернуться к разговору: на несколько минут – получалось, но потом меня вновь, рывками, уносило прочь: вновь я мучился, что, может, надо было выкинуть порошки Мизии, запереть ее дома и попытаться вылечить, а не потакать ей во всем, проявляя запредельное понимание. Я вновь решал для себя, где проходят границы дружбы, есть ли они вообще, и могу ли я считать себя настоящим другом и, в конце концов, не бывает ли так, что друг ближе, чем любовник, а его влияние и преданность важнее и существеннее? Я стоял сантиметрах в двадцати от миниатюрной девушки по имени Луиза, которая подробно рассказывала мне о техниках трафаретной печати, и нас разделяли сотни километров: я даже не слышал, что она говорит.
В какой-то момент она это поняла и пару раз щелкнула пальцами перед моим лицом.
– Ты еще здесь?
– Я здесь, я здесь, – сказал я, судорожно пытаясь вернуться назад. И увидел, что в нескольких метрах от нас Марко чересчур уж откровенно обнимается с высокой девушкой, и гипсовая колонна почти не спасает их от бесконечных взглядов, и все на них смотрят; все это казалось в порядке вещей, но мне все равно стало грустно.
Луиза проследила за моим взглядом.
– Это Марко Траверси. Который снял видео для Machine Head. [43]43
Machine Head– американская метал-группа, образованная в 1992 г.
[Закрыть]
– Это мой лучший друг, – сказал я, с невольной гордостью. – Мы дружим всю жизнь.
– Он классный, – сказала она, и мне показалось, что теперь я ей больше интересен. – Еще он снял шикарный клип для Uninstall,его все время крутили по MTV.
– Он снял три замечательных фильма, – сказал я. – Марко – великий режиссер.
Луиза кивала головой, но скорее из вежливости: фильмы она не смотрела и ничего о них не слышала: наверно, они так и не попали в Англию. Общительная, захмелевшая, она придвинулась ко мне вплотную.
– Ты тоже классный, знаешь? Ой, у тебя глаза разного цвета?
Так, отдавшись царящему вокруг настроению, мы поцеловались, хоть я так и не понял, кто она и нравится ли она мне. Но Мизия в сотнях километров от меня выходила замуж за бывшего игрока в поло из Аргентины, которого я ненавидел всей душой, а Марко в нескольких метрах от меня навалился на совсем незнакомую девушку, к которой ничего не испытывал; мне казалось, нет больше прямой взаимосвязи между тем, что чувствуешь, и тем, что делаешь.
Потом я обнимался с Луизой на диване, не сомневаясь, что если только разожму руки, то меня унесет в бесформенную, безымянную, бессмысленную тьму. Мысли и слова в моей голове ритмически спрессовывались в такт музыке, грудь жгло, спина была ледяная; при малейшей попытке оторваться от губ Луизы голова начинала кружиться, как на краю пропасти. Вокруг нас со всех сторон ходили люди, у них были одни и те же взгляды или жесты, это оказалось мучительно, и все, что попадало в поле моего зрения, доносилось до моего слуха, окончательно меня подавляло. Я прижимался к Луизе, зажмурив глаза, согнувшись в три погибели из-за того, что она была крохотного роста; больше всего мне хотелось отыскать какую-нибудь закрытую комнату или просто нишу в стене, а то и спрятаться в подпол и спастись от невыносимого давления этого мира.
Когда Луиза спросила, не хочу ли я поехать к ней домой, я решил, что это шутка; я не мог поверить, что она не скрылась в толпе прямо на лестнице и все еще идет рядом со мной по холодной, влажной, темной улице, открывает дверь своей маленькой японской машины, предлагает мне сесть.
Потом, у себя в комнате, разрисованной по трафарету, она повернулась на бок и стала меня изучать: я лежал, свернувшись клубочком, под натянутым до подбородка одеялом.
– У тебя вид человека, побитого жизнью, – сказала она.
– Вполне возможно. – Я не видел особого смысла это отрицать.
Она улыбнулась, и улыбка у нее была ехидная и чужая, хоть я и постарался этого не заметить.








