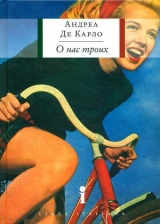
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
5
Я проснулся в офисе Марко, тело ломило: всю ночь я ворочался на жестком резиновом матрасе, скатывался на деревянный пол, ерзал в спальном мешке, скидывал его, изнемогая от жары. Марко уже давно встал, я слышал, как он разговаривает со своей помощницей где-то неподалеку. Я привел себя в порядок в крошечном туалете, а когда вышел, появился Марко с двумя стаканчиками кофе из автомата у входа.
– Эй, Ливионе, – сказал он.
– Эй, – сказал я; кофе обжигал пальцы, голова гудела от вчерашних разговоров.
Марко посмотрел на часы:
– До встречи с кайманами осталось меньше часа.
– Кошмар, – сказал я. – Хотел бы я посмотреть на их лица. Я провожу тебя.
Марко кивнул, отпивая маленькими глотками обжигающий кофе.
Мы поехали на такси, потому что припарковаться у здания «Панамакса» было негде и Марко не хотел растрачивать силы попусту. Говорил он мало, но я чувствовал, как с каждой минутой в нем нарастало напряжение: он то нервно посмеивался, то вдруг встряхивал головой.
– Представь, каково будет моему агенту. Все эти месяцы он бился как рыба об лед, чтобы хоть как-то договориться, найти компромиссные решения, снизить их требования, обойти расставленные ловушки. Я хотел позвонить ему утром, но не хватило духу, пускай это будет для него такой же неожиданностью, как и для стаи кайманов.
Я тоже засмеялся; казалось, что мы идем грабить банк, до того мы оба были напряженные и собранные, и мы так же не были уверены в успехе, но не признавались в этом.
– Как они поведут себя? – спросил я. – Как ты думаешь?
– Кто знает, – сказал Марко. – Может, промолчат. Закроются на все замки. А может, закатят страшный скандал, будто я оскорбил святыню. Может, предложат больше денег, решив, что дело именно в них. Может, пригрозят, что подадут в суд, что втопчут меня в землю.
– Главное, чтобы ты был ко всему готов.
– Готов я, готов. Не волнуйся.
Мы доехали до места, Марко показал водителю, где остановиться. Мы вышли у перекрестка; по тротуарам текла толпа, вливаясь в офисы, магазины, бары; мы замерли на несколько секунд, разглядывая деловых мужчин при галстуках, деловых женщин в строгих костюмах из хлопка и льна, со стороны казалось, что они думают о чем-то простом и понятном.
Марко указал мне на высокое стеклянное здание у самого перекрестка с кроваво-красной надписью «ПАНАМАКС».
– А вот и кайманы, – сказал он. Тут у входа остановилось такси, из него вылез белобрысый здоровяк в летнем пиджаке и встал, поглядывая то на часы, то по сторонам.
– Это Тед Фитцуотер, мой агент, – сказал Марко. – Ну, я пошел, – он перевел дыхание.
– Вперед, – сказал я, сердце бешено колотилось. – Срази кайманов наповал. Покажи, что не все готовы плясать по их указке.
– Не все. – Марко хлопнул меня по плечу. – Хорошо, что ты рядом.
– Я тебя здесь подожду, – сказал я, махнув рукой в сторону бара в псевдоитальянском стиле за нашими спинами. Мы обменялись долгими взглядами, он своим энергичным шагом перешел перекресток, пожал руку агенту и скрылся с ним за дверью стеклянного здания.
Я зашел в бар, заказал капуччино и слоеное пирожное с кремом, проглотил их в два счета, не отходя от стойки, и даже не почувствовал вкуса. Я все время дергался, вертел головой, высматривая Марко через окно. Я думал, насколько может затянуться встреча: придется ли ему пожимать всем руки, садиться за длинный стол, выслушивать какие-то речи, прежде чем сказать, что с фильмом покончено, или же он огорошит их прямо с порога, без всяких преамбул и протоколов? Накинутся ли на него американские кайманы с угрозами или станут уговаривать его до изнеможения, уставятся ли молча друг на друга, когда он выйдет за дверь? Вмешается ли его агент, запутает ли все еще больше; совладает ли Марко со своим импульсивным характером и не примется ли осыпать их оскорблениями, швырять бумаги и все, что подвернется под руку; вызовут ли кайманы охранников или, может, сразу позвонят в полицию? Я был готов ко всему, как давным-давно в Цюрихе, когда караулил на улице, пока Марко обыскивал бывший дом Мизии; я думал, что еще может произойти, смотрел по сторонам, наблюдал за улицей, чтобы не пропустить появление Марко.
Минут через двадцать я понял, что задача оказалась куда труднее и неприятнее, чем мы ожидали; я представлял себе Марко, загнанного в угол, сражающегося в одиночку против единого фронта ожесточенных взглядов, криков, жестов. Я, словно наяву, слышал, как кайманы угрожают ему, шантажируют, льстят, чтобы добиться своего; видел, как он отбивается из последних сил. Я еле сдерживался, чтобы не рвануть в «Панамакс» к нему на подмогу, но понимал, что это выглядело бы крайне глупо, что Марко и сам прекрасно справится, ему достаточно моей моральной поддержки.
Я так нервничал, что вышел из бара и принялся мерить шагами тротуар, потом вернулся внутрь. Я тупо смотрел на окружающих: смотрел на руки барменов, наливающие напитки, на руки клиентов, нетерпеливо постукивающие по стойке, берущие бриоши и слоеные пирожные, на рты жующие, на глотки проглатывающие, на губы облизываемые. Я смотрел, как люди приближаются друг к другу и отдаляются, как обживают пространство и как отодвигаются, уступая место вновь пришедшим. Я смотрел на свое отражение в зеркале и думал о том, что мне гораздо тяжелее найти общий язык с миром, чем многим другим, от моей знаменитой сверхобщительности не осталось и следа. Но мысль, что мы с Марко и Мизией вот-вот ввяжемся в новую авантюру, как двадцать лет назад, будоражила кровь и грела душу; казалось, что наконец-то я отыграюсь за все поражения, задушенные протесты, разочарования, которые разрушали меня в течение стольких лет, за всё, что мне не нравилось, мне не принадлежало, портило жизнь. Я вспоминал детство, когда чувствовал себя страшно несчастным и чужим в предназначенном мне сценарии, и думал, что именно к этому я всегда стремился: избавиться от одиночества, примкнуть к близким по духу людям, обрести укрытие, пойти за кем-то, найти свою нишу и выпустить на свободу дремавшие во мне способности.
Я смотрел в окно: машины на дороге, люди на тротуаре, огни стоп-сигналов, сизые облачка выхлопов, взгляды в упор, взгляды искоса и вскользь, маленькие толпы на переходах, шаги быстрые, шаги медленные, шаги, замирающие перед витринами. Я все чаще смотрел на часы, чувствуя, что теряю ощущение времени.
Потом я в очередной раз посмотрел на дверь и увидел Марко: он уже подходил ко мне, криво улыбаясь, и выглядел так, будто только что побывал на поле боя.
– Ну, как все прошло? – спросил я, не отрывая взгляда от его лица.
– Давай выйдем. – Марко показал рукой на дверь. – Пройдемся, и я все тебе расскажу.
Он не ответил на мой вопрос, и от неприятного предчувствия меня прошиб холодный пот; у выхода я схватил его за руку:
– Как они отреагировали? Закатили скандал?
– Нет, – сказал Марко, не глядя мне в глаза. Он вышел на улицу, я за ним.
– Как нет? Что же тогда произошло? – Я так настойчиво требовал от него ответа, что прохожие оборачивались нам вслед.
Марко остановился, засунул руки в карманы; он продолжал улыбаться, но улыбка его была адресована не мне.
– Я подписал, вот что произошло, – сказал он.
– Что подписал? – спросил я, соображая как никогда медленно.
– Контракт на фильм. – Марко смотрел мимо меня, на проезжую часть.
– К-к-какой фильм? – пробормотал я, чувствуя, что лицо окаменело, а руки и ноги словно парализовало.
– Их фильм, – сказал Марко. – Мой.В общем, тот, который они продюсируют.
Наши взгляды встретились, мы стояли на залитой матовым желтым светом улице, которая вибрировала от снующих туда-сюда автомобилей и пешеходов; я словно видел всю эту сцену со стороны и рывками отдалялся от нее и от чувств, которые она во мне вызывала.
– Они отреагировали совсем не так, как я думал. – Марко сначала с трудом подбирал слова, но потом его будто прорвало: слова наталкивались друг на друга, как прохожие, которым мы загородили дорогу, так что им приходилось резко останавливаться и брать в сторону.
– Я ждал, что попаду в настоящую мясорубку, что они будут сверкать глазами, скрежетать зубами, демонстрировать всю ту наглость, которую дают только деньги. Но, когда я отказался снимать фильм, они расстроились.Они стояли передо мной, как в воду опущенные, будто команда инженеров перед сверхсложной машиной, которая выходит из строя по непонятным причинам, когда все, казалось, налажено и готово к работе. И мне вдруг стало их жалко.
– Кайманов? – спросил я, почти не слыша собственный голос, с трудом понимая, о чем мы говорим.
– Да. Я вдруг понял, что не могу вот так взять и отправить год работы псу под хвост. Ливио, я подготовился к встрече с врагами, но все оказалось не так просто. Я увидел, что они на самом деле верят в меня и в фильм, на самом деле ценят мое творчество. Да, они типичные американские продюсеры, но они такие, какие есть. Такая у них роль. Фильм все-таки важнее всего.
– А как же наш фильм об Италии? – спросил я. – Наш злой, честный, черно-белый фильм, с Мизией и без всяких продюсеров?
– Мы снимем его потом.После блокбастера, который увидит весь мир. Мы донесем свои идеи до миллионовлюдей, а не до нескольких тысяч, и это сделает нас сильнее.
Вся сцена выцветала, немела и съеживалась прямо у меня на глазах с пугающей скоростью. Казалось, что передо мной картинка из старого черно-белого телевизора, размытая, плоская, тесная, на которой все планы сливались в один: Марко с его кривой улыбкой, мельтешение прохожих и автомобилей за его спиной и фон из витрин, дверей и окон на другой стороне улицы.
Марко, все больше горячась, говорил, что не может взять и выгнать на улицу своих сотрудников, что развод с Сарой обойдется ему в целое состояние, что нам уже за сорок и глупо вести себя, будто нам все еще двадцать; но его слова доносились до меня издалека и были лишены смысла, еще немного – и я вообще перестал их слышать. Он хотел положить руку мне на плечо, посмотрел на меня, но я уже не понимал, что означает его взгляд; я повернулся и бросился бежать, не чувствуя ног, прочь из старого черно-белого телевизора, подстегиваемый паникой, тоской и невозможностью принять то, что случилось.
6
Тот период в Милане был худшим в моей жизни; я до сих пор с содроганием вспоминаю не покидавшее меня чувство опустошенности. Казалось, небо затянуло тучами и не осталось ни одного просвета, хотя раньше, как бы все ни было плохо и безысходно, я всегда видел хоть клочок голубого неба. Это было не просто разочарование: я перестал на что-либо надеяться.
Был август, и было, как и каждый год, повальное бегство из города, как будто в нем разразилась эпидемия. Моника, моя девушка, оставила письмо на кухонном столе, в котором, поблагодарив за то, что я так и не позвонил ей из Лондона, сообщала, что уезжает с двумя подругами в туристический поселок на остров Форментера. Я расстроился, но не удивился: это показалось мне таким же естественным, как изнуряющая жара, придавливающая меня к земле, или назойливые комары, которые каждый вечер наводняли квартиру. Как и сообщение от Мизии на автоответчике, оставленное именно в те десять минут, когда я от отчаяния вышел на улицу размять ноги; она говорила, что планы изменились и во Флоренцию она не приедет, передавала мне приветы и поцелуи (теплота в ее голосе, ощущение непреодолимого расстояния между нами у меня в душе).
Дети отдыхали в Лигурии вместе с моей бывшей женой и ее другом, адвокатом; когда я позвонил и сказал, что через неделю заберу их и мы тоже поедем куда-нибудь отдыхать, они оба разревелись с самым искренним отчаянием. Я позвонил еще пару раз, но с тем же результатом, и, наконец, Паола сказала, что будет лучше, если в этом году дети останутся с ней, им здесь хорошо и очень весело; я согласился. Мама отдыхала со своим мужем на Сардинии, бабушка умерла, все соседи разъехались; я погрузился в пустоту покинутого города, словно впал в кому. Я ничего не делал, питался шоколадными вафлями, которые держал в холодильнике, и холодным чаем, лежал на полу в гостиной перед телевизором, включенным круглосуточно, и размеренно дышал, а тяжело больная страна дефилировала передо мной со всей своей музыкой, лицами и голосами.
В сентябре мне стало только еще хуже. Я вернулся к живописи, чтобы хоть как-то хватало на алименты Паоле и собственное существование, но мои картины вызывали у меня отвращение, как и мысль о том, что я участвую в торговле искусством. Моника вернулась, от восторженных рассказов о Форментере мне стало до того тошно, что пропало всякое желание ее видеть, она пыталась перезвонить, но я каждый раз бросал трубку. Милан казался мне на редкость уродливым и враждебным, при виде знакомых улиц и зданий, серых и хмурых, на меня наваливалась невыносимая тоска. Я выходил из дома только в случае крайней необходимости, но на каждом шагу натыкался на какую-нибудь мелочь, которая пробуждала воспоминания о тоскливом детстве, пустой юности, кошмарных годах одиночества и неудовлетворенности, закончившихся только с появлением в моей жизни Марко и Мизии, вместе с которыми я погрузился в мир иллюзий. Иногда я останавливался на полпути и возвращался домой; иногда шел куда глаза глядят, пока не чувствовал, что вот-вот растворюсь в грязном асфальте или в покрытой черной пылью автомобильной дверце.
Мизия позвонила из Флоренции, но не успел я толком обрадоваться, как она сказала, что уезжает в Амстердам – реставрировать одну частную коллекцию. Она уже съездила туда и посмотрела картины, нашла квартиру и школу для детей; она радовалась, что ее ждет такая интересная работа, ей нравился город и хотелось перемен. И еще она рассталась с американцем, их роман быстро сошел на нет, стоило им пожить вместе в Греции. Сказала, что теперь она в таком возрасте, когда ей не хочется меняться, чтобы соответствовать желаниям мужчины; она уже была актрисой для Марко, образцовой домохозяйкой для первого мужа, пастушкой из необуколики для своего козопаса, просвещенной помещицей для Томаса; сейчас она хочет одного – быть самой собой. Она рассказала, как Томас давил на нее, шантажировал, угрожал забрать маленького Макса, и теперь ей совершенно непонятно, как она могла так долго прожить с ним в Аргентине, как столько лет играла совершенно не свою роль, и даже благодарность за спасение от наркотиков этого не объясняет. И как это странно, что только мое появление вырвало ее из этой тюрьмы, и каждый раз, думая об этом, она благодарила судьбу за такого друга, как я. Она написала отцу, матери, сестре и брату: пусть они считают, что ее просто нет в живых, пусть оставят ее в покое и, наконец, займутся своими делами. Написать такое письмо было нелегко, но зато сейчас она чувствует себя совершенно свободной, чего с ней не случалось с четырех лет. И как это трудно – избавиться от того, что связывает тебя по рукам и ногам, но рано или поздно нужно хотя бы попытаться, иначе ты не сделаешь этого никогда. И я обязательно должен приехать к ней в Амстердам: у нее есть комната, где я смогу жить сколько захочется, и там столько всего можно посмотреть, и Ливио с малюткой Максом будут очень рады.
Я ответил, что приеду, не сказав ни слова о Марко, потому что мне не хотелось ее огорчать. Когда я положил трубку, лучше мне не стало: ее оживленный, веселый, независимый, уверенный голос лишний раз напомнил мне, какой пустой, тусклой и однообразной жизнью я живу.
Каждые две недели я заезжал за детьми и забирал их на выходные, но меня не хватало даже на то, чтобы сводить их в кино или на детский спектакль. Все время, отведенное нам, чтобы побыть вместе, они проводили перед телевизором; иногда я пристраивался к ним на диван, хотя они не проявляли особенного дружелюбия, и вместе с ними погружался в состояние транса, глядя на танцовщиц в крошечных стрингах, на дикторов, похожих на марионеток, на женщин-ведущих, чьи носы, губы, скулы безжалостно разрезали, опустошили, заполнили, сшили, на старых политиканов, вырядившихся политиками новой волны, которые в каждой передаче устраивали балаган, кривлялись и заигрывали со зрителями, жонглировали словами, напрочь лишенными цели и смысла, – им бы только мелькать в телевизоре.
Когда по воскресеньям я привозил детей обратно и видел сад, дом, яркий свет, мебель из светлого дерева, то иногда страшно хотелось броситься перед Паолой на колени и попросить взять меня обратно, а я бы ходил за покупками и приносил в дом все заработанное до последней лиры. Но она вела себя слишком враждебно: я передавал ей детей с рук на руки, она, встретив их у ворот, сухо бросала «до встречи», после чего тут же закрывала ворота. На своей французской машине со слабым движком и севшими амортизаторами я пускался в обратный путь к ядовитой впадине Милана, и мне казалось, что я скатываюсь по склону из пустых иллюзий, утрамбованных катком действительности.
7
В середине октября я отвез несколько картин своей новой галеристке и по дороге изо всех сил старался не замечать ничего вокруг – лица, пейзаж, детали. Галеристка разглядывала мои картины, которые я выставил в ряд у стены, то и дело посматривая на меня, как на безнадежного больного; наконец, она спросила, почему я рисовал в такой параноидальной манере. Я сказал, что, возможно, так было всегда; она заметила, что сейчас дело совсем плохо, с полотен исчезли все яркие и жизнерадостные цвета.
– Нет больше красного, желтого, синего, зеленого, голубого. Нет света, нет движения, почти нет жизни. Если будешь продолжать в том же духе, может, мы и найдем какого-нибудь влиятельного критика, который объявит это новым словом в искусстве. Главное, чтобы ты не застрелился на днях. Продажи от этого пойдут лучше, но по-человечески мне будет жаль.
Ее беспокоило что-то еще, и она ходила взад-вперед в сером брючном костюме от ее друга-стилиста, упершись взглядом в пол; я спросил, в чем дело. Поколебавшись секунду, она сказала:
– Ливио, может, ты еще не понял, что быть художником – это не только писать картины, будь они хорошими или плохими.
– Что же еще? – спросил я; по левому виску стекал пот, мне не хватало воздуха.
– Еще много всего, – сказала галеристка. – Надо общаться с людьми. Хоть немного работать над имиджем: ты должен вызывать интерес и иметь товарную привлекательность. Ходить и на чужие выставки, вращаться в этих кругах. Появляться на людях, беседовать с коллегами и журналистами. Звонить время от времени кому-нибудь из известных критиков и просить совета. Приглашать его в свою студию, дарить иногда картины. Заставь себя хотя бы быть подружелюбнее с асессором по культуре, когда сталкиваешься с ним у меня в галерее. Поддерживай связь с редакциями газет. Если у тебя есть знакомства в муниципалитете, в департаменте выставок, то, само собой, это очень кстати. Знакомства с людьми, которые могут что-нибудь сделать на телевидении, даже на региональном, тоже очень кстати.
– Я художник, а не сутенер и не проститутка, – сказал я.
– Но свои картины ты продать хочешь, – сказала галеристка. – Иначе ты бы здесь сейчас не стоял. А раз ты их продаешь, то не помешало бы, чтобы их рыночная стоимость росла от выставки к выставке, из года в год, а не оставалась бы неизменной, как цена на хлеб.
– Я уже не уверен, что хочу их продавать. Я уже не уверен, что вообще хочу что-то делать в этой стране.
– Мой дорогой Ливио, везде будет то же самое. Чтобы вести себя как дикарь и нелюдим, нужны средства. Если их нет, то, поверь мне, участь твоя незавидна. Очереди из желающих понять тебя, мой дорогой, пока не видно.
Я вышел на улицу в таком состоянии, будто у меня в кармане лежало медицинское заключение о моей неизлечимой болезни: казалось, я наглотался яда и он сжигает мне горло и легкие; я шел, согнувшись и еле дыша. Мне казалось, что я достиг мертвой точки моих взаимоотношений с миром, и виноват в этом был не мир, а я; казалось, что я целиком растерял дарованные мне любопытство, интерес, порывистость, прошел мимо всех приоткрытых и распахнутых дверей на моем пути и при этом не получил взамен ни удовольствия, ни удовлетворения, ни ключей от другой жизни. Казалось, я двигался вперед, придавая значение только мечтам, обманчивым ощущениям, искажению реальности, не обращал внимания на очевидные вещи и даже не пытался подготовить хотя бы самый скромный арсенал для защиты и нападения в случае необходимости. Все дело в том, что я не хотел взрослеть до тех пор, пока жизнь не навалилась на меня всей своей тяжестью, но и тогда я не перестал вести себя как ребенок: не желая ничего понимать, не желая меняться и продолжая упорно идти навстречу миражам. Дальше пути не было, и резервы исчерпаны до конца.
Домой я добирался целый час: поехал кружным путем и полз в потоке машин, как таракан, отравленный инсектицидом. Но мне и не хотелось доехать: я бы предпочел навсегда остаться в салоне автомобиля, распавшись на составные части.
Но я доехал и даже смог найти свободное место у тротуара, смог дойти до дома. Я задержался перед уродливым зданием, выстроенным в типично фашистском стиле: помню, какими отвратительными показались мне эти карнизы, когда я впервые их увидел. Меня затошнило при одной мысли о зеленоватом мраморе в холле, я сбился с шагу, вспомнив бледное лицо консьержки за стенками ее аквариума. Я подошел к стеклянной двери, надеясь, что хотя бы не увижу собственное отражение, и тут от оглушительного автомобильного гудка у меня чуть не лопнули барабанные перепонки; я дернулся как припадочный и резко обернулся.
Старый зеленый праворульный «ягуар», стоявший на другой стороне улицы, выглядел более потрепанным, чем «ягуар» Марко, но это был именно он, потому что сам Марко бежал ко мне, яростно размахивал руками, и кричал:
– Ливио!
Все мои не-чувства разом сжались внутри, я сглотнул, прищурил глаза, отвернулся и пошел ко входу в подъезд.
Марко догнал меня на середине тротуара и схватил за руку:
– Подожди!
Я оттолкнул его, отвернувшись в сторону, что было непросто, потому что мы стояли вплотную друг к другу.
– Оставь меня в покое. Нам не о чем говорить.
Марко отпустил меня, но через два шага опять догнал и загородил дорогу.
– Ливио, постой, – сказал он. – Дай мне хоть минуту, я же специально приехал, черт возьми. Я со вчерашней ночи за рулем.
– Это твои проблемы. – Я не сводил глаз с ручки стеклянной двери, но он все равно оказывался у меня перед глазами, усталый, небритый, с всклокоченными волосами.
– Поздно. Всего хорошего. – Я оттолкнул его плечом, и у меня больше ни на что не осталось сил.
– Черт тебя дери, остановись на секунду и послушай! – закричал Марко так оглушительно, что в любых других обстоятельствах я бы поразился сходству с моим прежним голосом-мегафоном. Мы уже подошли к подъезду, и на меня неудержимо надвигались стеклянная дверь, зеленоватый мрамор и аквариум с консьержкой.
– Подожди, сукин ты сын! – кричал Марко. – Кем ты себя возомнил, образцом непогрешимости? Стоит оступиться, и ты тут как тут? Вынес приговор и всё, разговор окончен?
– Это был не просто разговор. Во всяком случае, для меня. – Я уже прошел через стеклянную дверь, консьержка уже смотрела на меня исподлобья из-за стенок своего аквариума, встревоженная происходящим за моей спиной. Я двинулся к лифту, разрываясь между желанием исчезнуть и желанием броситься на Марко с кулаками, чтобы расквитаться за чувство опустошенности, от которого у меня перехватывало дыхание. Дрожащим пальцем я нажал на кнопку вызова лифта, зрение сузилось до одной точки – красного огонька передо мной.
Марко ворвался в холл, будто грабитель в банк, с криком:
– Если хочешь знать, я их послал ко всем чертям! Сбежал со съемочной площадки через пять дней, если хочешь знать! На мне теперь висит неустойка в два миллиона долларов, если хочешь знать! Большое кино закрыто для меня навсегда, если хочешь знать!
Лифт уже приехал, огонек стал белым, как маленькое зимнее солнце, от него так же чуть слезились глаза. Я повернулся к Марко.
Он стоял на лестнице из зеленоватого мрамора, на три ступеньки ниже меня: руки в карманах куртки, взгляд такой же потерянный и разочарованный, как во времена нашего знакомства, но сейчас в нем отчетливее проступали отчаяние и ирония; он казался нищим, который когда-то был принцем.
– Я такой, какой есть, и пусть меня бросает из стороны в сторону, но предложить мне больше нечего, если хочешь знать, – крикнул Марко.
Я смотрел на него с высоты трех разделявших нас ступенек, консьержка смотрела на нас, высунувшись наполовину из своего аквариума, как огромная глубоководная рыба; я шагнул ему навстречу и чуть не скатился кубарем по лестнице: у меня подкашивались ноги, слезы наворачивались на глаза, и я ничего не мог с ними поделать.
Через два часа, когда мы уже выехали на автостраду Милан-Турин, за которой нас ждала Франция, а потом и весь мир, я рассказал Марко о Мизии и Амстердаме.
Он бросал на меня беглые взгляды, вокруг губ легла складка.
– Она там одна? – наконец спросил он. – То есть только с детьми?
– Да, – сказал я. – Во всяком случае, была одна, когда мы разговаривали по телефону две недели назад.
Марко смотрел на дорогу, руки крепко держали руль. Из динамиков лилась песня «Ramblin’ on my mind» [51]51
«Ramblin’ on ту mind»– Блуждая в мыслях (англ.).
[Закрыть]в исполнении Эрика Клептона, – концертная запись семидесятых: в первой части голос плывет по упругим и напористым волнам блюза, они набегают и откатываются назад. Марко медленно, очень медленно повернулся ко мне, я не мог разглядеть его глаза за темными стеклами очков, но все равно чувствовал его взгляд.
– Ты очень расстроишься, если мы сделаем крюк и навестим ее? – спросил он.
– Очень, – сказал я.
Первая часть подошла к концу, теперь электрогитара взбиралась по полутонам на каждый следующий виток, и переход к «Have you ever loved a woman» [52]52
«Have you ever loved a woman»– Любил ли ты когда-нибудь женщину? (англ.).
[Закрыть]искрился и переливался, как хрусталь, вода и сталь, сплавленные воедино; звуки лились так свободно, что казались неуловимыми, но гитара твердо прокладывала свой намеченный нотами путь, и ее мягко, настойчиво и неотступно поддерживали фортепьяно, бас-гитара и ударные.








