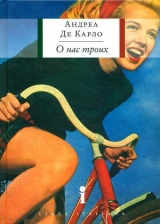
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
18
Мизия, однако, не шутила, говоря, что мы сами должны устроить мою выставку, и не отказалась от своей идеи. Она пришла ко мне в субботу под вечер: на голове черный шерстяной беретик, щеки раскраснелись от холодного ветра – она приехала на мопеде брата. Мизия привезла рулетку, и мы измерили дворик, галереи, лестницы, мою квартиру-пенал, чтобы понять, сколько картин сможем развесить и где.
Потом мы устроились в баре напротив и занялись списком приглашенных.
– Не друзей, – повторяла Мизия. – Покупателей.
– А нельзя позвать и тех, и других? – сказал я, чувствуя, что после капуччино кровь в моих жилах побежала быстрее.
– Это сложно, – сказала Мизия. – Вспомни самых неприятных людей, каких только знаешь.
– Но таким людям не нравятся мои картины, – сказал я. – По крайней мере, я надеюсь.
– Картины никогда не покупают потому, что они нравятся, – сказала Мизия. – Ну, или почти никогда.
Я припомнил самых неприятных бывших одноклассников, приятелей приятелей и случайных знакомых и продиктовал Мизии их имена, она добавила их к списку, который уже начала составлять в своем блокноте в линейку, куда во время съемок фильма Марко записывала мысли, реплики, отдельные слова. Она усердно выводила фломастером округлые буквы, и в ее взгляде и позе не было ни тени рассеянности. При мысли, что Мизия, забыв обо всем, занимается мной, я боялся только одного – ее разочаровать, и из-за этого говорил и двигался все быстрее.
Вечером я продиктовал ей по телефону другие имена, не сразу пришедшие на ум, и еще те, что назвали мама и бабушка. Сама Мизия тоже кого-то вспомнила:
– Знаешь, Ливио, у нас получается довольно внушительный список.
Я едва сдержался, чтобы не предложить ей встретиться; меня остановило только то, что я и так ощущал ее близость, тепло ее тела доносилось до меня по проводам, тянущимся через весь ночной город.
В воскресенье около полудня Мизия снова пришла ко мне со списком приглашенных на выставку, который она аккуратнейшим образом напечатала на машинке, расставив фамилии в алфавитном порядке. Мне даже не верилось, что она потратила на меня столько времени, даже когда мы не виделись; вне себя от возбуждения, я метался взад-вперед по своей квартире-пеналу, пока Мизия не засмеялась и не сказала:
– Успокойся,Ливио. Сейчас главное не терять голову.
Вместе мы сочинили простенькое приглашение, затем нарезали два больших листа тонкого картона на десятки узких полосок и стали писать на них от руки придуманный текст. Мне невероятно нравилось работать бок о бок с Мизией под тягучий электрический блюз Купера и Блумфилда, расчистив среди диких джунглей, наваленных на моем столе, две крохотные полянки. Я мог бы просидеть так всю жизнь, мне ничего не было нужно, только обмениваться с ней иногда взглядами и улыбками. Закончив, мы дружно расхохотались: настолько не похожи были приглашения, написанные ее ровным, округлым почерком, в котором она временами, для разнообразия, меняла наклон, и моим, острым, угловатым и кособоким до ужаса, но почти везде одинаковым. Казалось, на столе и на полу, куда мы бросали готовые приглашения, валяются вперемешку графические воплощения наших с ней характеров.
Потом Мизия потащила меня на галерею, еще раз оглядеть почерневший от смога двор. С виду он мало походил на место, где можно развесить картины, да еще и надеяться, что их кто-нибудь купит, и я спрашивал себя, не ждет ли нас обоих разочарование, не кажется ли мне затея с выставкой такой удачной только потому, что все, связанное с Мизией, приводит меня в восторг.
– Мы должны его перекрасить, – сказала Мизия.
– Но это невозможно, – возразил я. – Он же не мой собственный. Надо сначала посоветоваться с жильцами, устроить собрание, и все такое.
Мизия посмотрела на меня своими светлыми глазами и сказала:
– Это тымне говоришь?
И я тотчас устыдился, почувствовал себя мягкотелым лентяем, послушным маменькиным сынком, который строит из себя художника, имея вдвое меньше, чем нужно, веры в себя и втрое меньше смелости. Я тут же ринулся спасать положение, словно домашний кот, изо всех сил карабкающийся наверх из колодца, чтобы не утонуть, и спросил:
– В какой цвет будем красить?
– Посмотрим, – сказала она. – Ты пока начинай раздавать приглашения. У нас еще двенадцать дней. – Она смотрела вниз, во двор, и, по-моему, уже вполне ясно представляла себе мою выставку.
На следующий день она позвонила из Флоренции и сказала, что подобрала в мастерской правильное сочетание цветов, исходя из пропорций моего двора и преобладающей гаммы моих картин.
– Только подожди меня, – сказала она. – Покрасим вместе в следующую пятницу, а то все опять успеет почернеть.
Я помчался в магазин закупать банки с красками, какие назвала мне Мизия, как будто узнал рецепт волшебного зелья.
Мизия появилась у меня в пятницу утром, она выглядела усталой, потому что из Флоренции ей пришлось выезжать ни свет ни заря. Я сказал, что мне очень жаль, в ответ она мне велела не изображать заботливую мамашу.
Вот уж кем мне меньше всего хотелось для нее быть, так это заботливой мамашей; я тут же сменил тон и манеры, сделался развязным, небрежным и грубым.
Мы смешали в тазике купленные мной синюю и белую краски, и Мизия опробовала получившийся цвет на стене рядом с моей дверью. Она окунала кисть в тазик – так, чтобы получились синие полосы на голубовато-белом фоне, потом делала аккуратный мазок на стене и отходила обратно, оценивая результат, спрашивала: «Ну как?». «Очень красиво», – говорил я, прекрасно понимая, что когда она стоит так близко, мое мнение далеко от объективности.
Наконец, она нашла нужные оттенки, мы позвонили Сеттимио Арки, позвали его на помощь и все втроем стали красить стены во дворе.
Сеттимио всем своим видом показывал, что работа валиком не соответствует его нынешнему высокому положению; он настолько вжился в роль продюсера и менеджера фильма Марко, что никак не мог из нее выйти. Пока мы красили, он рассказывал нам последние новости:
– Он работает не покладая рук, забыл обо всем на свете. Научился монтировать и теперь хочет делать все сам. Оно и к лучшему, а то монтажер возомнил о себе невесть что. И потом, Марко терпеть не может, когда рядом кто-то ошивается. Даже я больше получаса у него не провожу – выставляет за дверь.
– Да, я заметил, – сказал я. – С ним уже и по телефону не поговоришь, не отвечает.
– Но ты все равно ему звони, – сказал Сеттимио. – И заходи иногда, ты ведь его лучший друг. Иначе он слишком уходит в себя, прямо одержимым становится. Фильм у него выходит уж очень сложный, прямо как у немцев, черт возьми. Его потом от силы два с половиной человека смотреть будут.
Мизия расхохоталась:
– Неудивительно, что он тебя выставляет за дверь.
Она развеселилась, вставала на цыпочки, чтобы дотянуться валиком как можно выше: казалось, работа и наша компания справились с ее утренней усталостью и легким унынием.
Дело у нас спорилось; из открытой двери моей квартиры доносилась музыка, мы работали быстро и слаженно, как часовой механизм, и за четыре часа покрасили весь дворик. Закончив, мы поднялись на галерею второго этажа, посмотреть, что получилось: дом теперь выглядел как обложка психоделического диска шестидесятых годов.
Сеттимио удалился на какую-то чрезвычайно важную встречу, а мы с Мизией стали красить галерею. Сосед с четвертого этажа вошел во двор и остолбенел от ужаса, потом поднял глаза и увидел нас с кистями и валиками в руках.
– Что здесь происходит? Кто вам разрешил? – крикнул он мне.
Пока я раздумывал, извиниться перед ним или наорать во всю мощь моего голоса-мегафона, Мизия сказала:
– Раньше здесь было так уныло!
Сосед с четвертого этажа в своем плаще цвета детского поноса, задрав голову, уставился на Мизию; его так и распирало от желания закатить скандал, кому-нибудь нажаловаться, но он не мог. Мизия улыбалась как ни в чем не бывало, с интересом наблюдая за его реакцией; соседа хватило только на то, чтобы фыркнуть, пожать плечами, а потом, не попрощавшись, подняться по лестнице на свой этаж.
Потом мы ходили в магазин за ингредиентами для коктейля: бабушка хотела выбрать себе картину и дала мне деньги вперед. Мизия решила, что лучше всего будет предложить гостям водку с апельсиновым соком.
– Если не дать им слегка расслабиться, они так и будут стоять истуканами и ничего не купят, – говорила она, еще когда мы красили стены. – А наш коктейль они выпьют залпом, чувствуя только вкус апельсинов и не замечая последствий. – Сеттимио Арки был с ней полностью согласен.
– Ясное дело, – говорил он тоном бывалого повесы, который у него всегда появлялся в присутствии Мизии, и подмигивал своими маленькими темными глазками.
В качестве личного вклада Сеттимио принес пять бутылок водки, разлитой в Лоди, которые мы присовокупили к тем, что купили сами на ближайшем рынке, вместе с килограммами апельсинов и соленым миндалем; теперь все это стояло рядом с моими темперами, к которым мы уже подобрали рамы, их оставалось только повесить на уже вбитые в стены гвозди. Все остальное тоже было готово, вплоть до колонок от моего проигрывателя, которые мы собирались поставить на галерее, и афиши, которую собирались повесить на двери подъезда. Мизия вымыла руки, сказала: «Ну все, увидимся завтра после обеда», – поцеловала меня в щеку и ушла домой.
Я снова стоял у окна и провожал ее взглядом: благодарность, восхищение и чувство одиночества метались во мне, как стайка вспугнутых рыбок.
19
Беспокойство и напряжение не давали мне ночью покоя: я не мог спать, не мог читать, не мог ничем заняться. Меня угнетала мысль, что мои картины окажутся на выставке, словно осколки моего «я» в рамах и под стеклом, а совершенно незнакомые люди, если вообще кто-нибудь придет, станут о них судить. Затея с частной выставкой казалась мне ребячеством, пафосным, а может даже и незаконным; мне хотелось еще раз поговорить об этом с Мизией или еще с кем-нибудь близким вместо того, чтобы ворочаться с боку на бок в своей кровати на колесиках.
Я вспомнил, что говорил Сеттимио, и подумал, что в последнее время особо не пытался связаться с Марко, разве что несколько раз ему звонил. Теперь, когда я сам чувствовал себя словно выставленным напоказ, я понял, что должен был ощущать Марко со своим фильмом, и подумал, что на деле не был ему настоящим другом, не помогал ему, когда он особенно нуждался в поддержке.
Я попробовал дозвониться в монтажную мастерскую, но никто не ответил, да и время уже перевалило за полвторого, поэтому я оделся и отправился прямиком к нему домой. Я припарковал свой «фиат» у подъезда и при слабом свете фонаря стал вглядываться в таблички с фамилиями у кнопок домофона. Это занятие всегда завораживало меня: я произносил про себя имена, пытался прочесть их задом наперед, пытался представить тех, кому они принадлежали, и какие у них квартиры, какая мебель и картины на стенах. Вдруг замок щелкнул, и старая деревянная дверь подъезда отворилась; я ожидал увидеть пожилого господина с собачкой или тощего бледного паренька, но вместо них прямо передо мной стояла Мизия с открытым ртом и расширившимися от удивления зрачками.
Она взяла себя в руки, но не сразу, и это меня удивило, обычно она реагировала мгновенно.
– Что ты здесь делаешь? – спросила она.
– Хотел повидать Марко, – ответил я. На меня разом обрушилось слишком много всего, что нужно было понять: я как будто пытался расслышать тихую мелодию в уличном шуме.
Мизия рукой указала на двор, второй она по-прежнему придерживала дверь, и сказала:
– Я как раз от него, – словно сам я никогда бы не догадался.
Правда, я действительно соображал с трудом и чувствовал себя как в вязком, расплывчатом кошмаре.
– Хотел напомнить ему про выставку, – произнес я с идиотской улыбкой, нелепо помахав рукой.
В полутьме я видел ее лихорадочно мечущийся взгляд: она разрывалась между стремлением все мне объяснить и желанием убежать без оглядки, исчезнуть. Победило второе; она кивнула в сторону улицы и сказала поспешно:
– Мне пора, а то завтра не встану. Встретимся в четыре у тебя и все подготовим. – Коснулась губами моей щеки и через мгновение уже мчалась прочь на мопеде своего брата.
Минут пять я стоял, придерживая рукой открытую дверь, и, уставившись в одну точку, прокручивал в памяти эту странную встречу. Я чувствовал себя неспособным разобраться в загадках жизни и таким усталым и продрогшим, будто исходил пешком всю Сибирь. Я ни в чем не был уверен: пытался вспомнить слова Мизии, ее взгляд – и не мог, толкованиям не было числа, и одно исключало другое. Я сомневался даже в том, что Мизия действительно вышла из подъезда несколько минут назад, ничто не напоминало о ней на этой узкой грязной улице, утыкавшейся в проспект, по которому с ревом проносились редкие ночные машины.
Но постепенно чувство потерянности отошло на второй план, его смела волна чистой ярости, такой мощной и неистовой, что сердце забилось быстрее, руки и ноги задрожали, я больше не мог стоять на месте. Я влетел во двор и помчался по лестнице, перепрыгивая за раз через три ступеньки, чувствуя, как в груди разрастается боль от предательства и жгучая ревность. Добравшись до чердака Марко, я был так взбешен, что мог бы вышибить дверь ногой или плечом; но я изо всех сил заколотил в нее кулаком и заорал: «Ма-арко! Откро-ой!» во всю мощь своего голоса-мегафона.
Марко открыл почти сразу: чердак был крохотный, и из любого места до двери было два шага; увидев меня, он отступил назад, но не изменился в лице и смотрел мне прямо в глаза. Я ворвался в его комнатушку на волне дикой злобы; кругом горели лампы на прищепках, те самые, что я таскал на съемках.
Он поднял руки в каком-то непонятном жесте и сказал неожиданно бесцветным голосом: «Ливио». Он был босиком, словно едва успел натянуть джинсы и старый свитер; один его вид причинял мне боль.
– Молчи, молчи, все бесполезно! – закричал я так громко, что по лестнице прокатилось эхо. – Бесполезно, бесполезно, бесполезно! – казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут; я не мог произнести внятно ни слова, не мог стоять на месте и в то же время понимал, что веду себя нелепо, и еще больше сходил с ума от ревности и злости. Я не понимал, как мог позволить Мизии уйти, ничего ей не сказав, не спросив, что все это значит, почему не задержал ее и не заставил подняться вместе со мной к Марко, чтобы мы поговорили втроем.
Я метался по тесной мансарде, которую впервые увидел вместе с ним, когда она еще не превратилась в логово изменников, искал следы Мизии – и боялся их найти, боялся их искать. Кровать была застелена, но явно только что; в воздухе стоял – нет, не запах Мизии, но нечто вроде остаточного напряжения, не успевшего рассеяться электричества. Любой предмет, книга, стакан, ручка, казался мне виновником или, по крайней мере, соучастником случившегося; я словно кружил среди кошмарных декораций, молчаливых свидетелей и улик, притворявшихся, что они ничего не значат.
– Ненавижу, – сказал я.
Марко стоял метрах в полутора от меня, и его манера всегда смотреть противнику в глаза только усугубляла ситуацию.
– Ливио, мне очень жаль, – сказал он.
– Только не говори теперь, что тебе очень жаль! – заорал я не своим голосом. – Все, что угодно, только не это! – я кричал так, будто на моих глазах ушел автобус со всеми близкими мне людьми и я уже не могу его догнать, а следующего не будет.
– Ладно, не буду, – сказал Марко; от смущения и чувства вины он был преисполнен достоинства и казался чуть ли не жертвой.
– Какого черта ты строишь из себя страдальца? – захрипел я хуже любого испорченного мегафона. – Какой ты друг после этого? Предатель!
Марко потупился; потом сказал:
– Мы были уверены, что ты давным-давно понял.
– Что значит «давно»?! – закричал я, задыхаясь под лавиной запоздалых прозрений, под низким потолком почти нежилой мансарды, где пахло сыростью, а еще ладаном и имбирем, их, наверно, принесла Мизия или Марко купил для нее, они оба были невероятно внимательны к мелочам, и кто знает, когда это стало их общей игрой.
Я, как полоумный, ходил взад-вперед по комнате, а Марко не сводил с меня взгляда:
– Тебе что, нужна точная дата? По-твоему, это важно? – спросил он.
– Да, важно! – крикнул я. – Чтобы хоть знать, сколько времени вы меня обманывали и надо мной смеялись, покуда мы все так вдохновенно изображали великую дружбу и верность искусству. Все такие из себя родственные души, искренние и открытые, да?!
Марко попытался положить мне руку на плечо:
– Ливио, пожалуйста, попытайся понять.
– Не хочу я ничего понимать, – сказал я. – Оба вы ублюдки, предатели, обманщики и лицемеры!
Я двинулся было в тот угол, где находилась кухонька, но Марко преградил мне дорогу; теперь в его глазах читался вызов.
– Хорошо, – сказал он. – Да, я должен был тебе сказать, но все не мог улучить момент. Я был слишком поглощен фильмом и тоже не понимал, что происходит. Мизия хотела с тобой поговорить. Это я просил ее подождать. Я не мог заниматься еще и этим, помимо всего прочего. Потом ты ушел, бросил съемки и исчез, общаться стало совсем трудно.
Что-то во мне все еще отказывалось признавать очевидное, я предпочел бы остаться в неведении и удовлетворился бы любым объяснением; но теперь все мои оскорбленные чувства слились в одно и швырнули меня к Марко с единственным желанием: уничтожить его.
Он был крепче меня, хоть и ниже на десять сантиметров, но я застал его врасплох: завязалась драка, яростная и смешная, драка двух людей, всегда считавших себя неуязвимыми для законов, правящих низким земным миром. Вцепившись друг в друга, мы со всей силы стукались о потолочные балки, задыхались и хрипели от напряжения, от боли в сведенных мускулах.
Наконец Марко вырвался и прислонился спиной к двери, пытаясь отдышаться.
– Но ведь у вас с Мизией ничего не было, – сказал он.
– Но это я с ней познакомился, – возразил я, не оставляя здравому смыслу ни малейшей лазейки. – Это я привел ее на съемки. Ты вообще не хотел, чтобы она приходила. Без меня ты бы и не узнал о ее существовании.
– Ну да, но ведь между вами ничего не было, – сказал Марко.
– Откуда ты знаешь? – крикнул я сипло, голос почти сел. – Еще десять минут назад мы были связаны миллиардаминитей, куда крепче, чем вы. Чихать я хотел на вашу наглую, дурацкую уверенность, что против фактов не попрешь.
В его глазах мелькнул какой-то непонятный блеск, но я сам до конца не верил своим словам: перед глазами стояли мучительные картины, вот они стоят рядом на виду у всей съемочной группы, вот они лежат рядом, наедине, в крохотной сырой мансарде. Я видел, как глубокой ночью они спешат друг к другу, подгоняемые жаждой близости, как по очереди поглощают и насыщают друг друга в лихорадочном возбуждении, которое я упорно принимал за чисто творческое взаимопонимание. Я казался себе невообразимо наивным и неискушенным, совершенно не готовым к жизни и безоружным перед нею.
У меня больше не было сил думать, что бы еще сказать; стоя здесь, среди осколков нашей дружбы и моей любви к Мизии, я чувствовал, что слишком разгорячился, запыхался, раскраснелся, что я чересчур длинный, нескладный, непрактичный, бесполезный неудачник.
Невероятным усилием воли мне удалось слегка остудить взгляд, остудить тон; я сказал:
– Ладно, что ни есть, все к лучшему, верно? – эти слова должны были прозвучать горько и многозначительно, но, похоже, в эту минуту они вообще не имели смысла. Я вышел от Марко, грохнув дверью, и бросился вниз по лестнице, мимо какого-то жильца, который, проснувшись от моих криков, высунулся посмотреть, в чем дело.
20
На следующий день при одной мысли о выставке меня начинало тошнить. Хотелось одного: неделями лежать в постели, накрыв голову двумя подушками, не вставать, не открывать ставни, никого не видеть, не отвечать на телефонные звонки.
Но телефон продолжал трезвонить, его трели отдавались в деревянной столешнице, впиваясь мне в уши, так что в конце концов я встал и снял трубку. Это была Мизия; она сказала:
– Ливио, мне очень жаль.
– И ты туда же! Давай не будем, а? – я никогда не думал, что могу разговаривать с ней так сухо.
– Но мне действительножаль, – сказала Мизия. – Что мы так и не нашли времени обо всем поговорить. Мы не знали, как ты к этому отнесешься.
Голос у нее был страдальческий, но она по-прежнему говорила «мы», и от этого мне становилось еще хуже, я чувствовал себя невротиком, которого всячески стараются уберечь от нового припадка.
– Не волнуйся, – сказал я. – Ничего не случилось, это все пустяки. – Я положил трубку, пошел и съел целую плитку шоколада с кусочками ананаса, такую приторную и напичканную ароматизаторами, что у меня на глаза навернулись слезы. Я смотрел на свои картины, стоявшие у стены в ожидании выставки, и мне хотелось вышвырнуть их в окно; хотелось запереться в квартире, чтобы гости явились в пустой двор и переглядывались в недоумении, спрашивали, что случилось. Хотелось, чтобы дом не выдержал постоянной вибрации от уличного движения и рухнул, накрыв меня обломками, как одеялом, под которое я залез с головой.
Однако не прошло и часа, как начал настойчиво дребезжать домофон; я выглянул в окно и увидел на тротуаре Мизию и Сеттимио с огромными коробками в руках. Сеттимио крикнул:
– Может, откроешь? Тяжелые все-таки!
Пришлось им открыть, пришлось поздороваться, потому что устраивать сцену на глазах у Сеттимио было бы смешно. Я злился на Мизию за то, что она использовала его как отмычку, как живой щит, и чувствовал, что закипаю.
Мизия была сама деловитость и благожелательность, от сожаления и неуверенности, звучавших утром в телефонной трубке, не осталось и следа. Она извлекла из коробок, принесенных ими с Сеттимио, три громадных чаши для коктейля, достала из холодильника апельсины и принялась их резать, попросив меня помочь. От ее подчеркнутого практицизма я еще больше сердился, помощь из удовольствия превращалась в насилие; я принялся кое-как выжимать апельсины, а она объясняла Сеттимио, как развесить картины во дворе и на галерее. И их отношения меня тоже раздражали: она играла с ним, пользовалась своим на него влиянием, заставляла делать то, что нужно ей, и чувствовала себя главной. Я давил и остервенело прокручивал апельсины на своей старенькой соковыжималке, и все то, что еще вчера казалось мне в Мизии чудесными достоинствами, теперь представлялось чудовищными недостатками. Я смотрел, как она расхаживает взад-вперед, полная неукротимой энергии и самоуверенности, и мне казалось, что я еще не встречал такой бездушной и ветреной девушки, и все ее жесты и взгляды были заранее продуманы и просчитаны.
Когда все картины были на своих местах, она позвала меня:
– Иди сюда, посмотри.
Я подошел, но никакой радости не ощутил: мне только казалось, что она из-за своей легкомысленной и бездумной жажды деятельности втянула меня в опасную авантюру. Казалось, что если бы я не отказался от обычной своей сдержанности, то ни за что на свете не рискнул выставить свои картины ради чьего-то одобрения или привлечения покупателей, затаился бы в убежище собственного недовольства, и никто бы меня не достал.
– Ну как тебе? Ты доволен? – спросила Мизия.
– Нет, – сказал я. – Ни капли, – ответил я, не глядя на нее, но совершенно не таким тоном, как хотел.
Но, по-моему, ей сейчас было не до моего тона: она с головой ушла в подготовку, нарезала ломтями хлеб и кубиками – острый овечий сыр, насыпала соленые крекеры в раздобытые где-то миски. Говорила:
– Их должна мучить жажда, иначе они не станут пить.
Сеттимио Арки и здесь не отставал от нее: щедро посыпал солью орешки, жареный миндаль, острый овечий сыр; подмигивал своими маленькими, как у хорька, глазками и все ловил ее одобрительную улыбку.
Я ненавидел их обоих за то, что они с таким энтузиазмом занимались моей выставкой; я был готов на все, лишь бы помешать им и все испортить, разнести к чертям всю красоту, какую они тут устроили. Я прятал по ящикам платяного шкафа свою небогатую кухонную утварь, ронял миски на пол, клеил не на те картины ярлыки с названиями, которые Мизия напечатала дома на машинке. Мысль о том, сколько времени и внимания она мне посвятила, совершенно перестала меня волновать; теперь я видел в этом лишь настырность, желание по-прежнему иметь в своем распоряжении сентиментальную куклу, с которой можно отдохнуть от эгоцентризма и перепадов настроения Марко.
Она потратила минут двадцать, чтобы с помощью Сеттимио найти правильное соотношение водки и сока для коктейля. Когда она энергично и решительно, словно герлскаут, призывала меня на помощь, я немедленно выходил из комнаты, спускался во двор и переклеивал наугад еще несколько ярлыков. Я вел себя как непослушный ребенок, упрямый и вредный; шаркал ногами, прятался за ветхими колоннами, выкрашенными в психоделический сине-голубой цвет. Ночью я спал часа два, урывками, беспрерывно ворочаясь; время от времени в памяти всплывал образ Мизии, выходящей из подъезда Марко, живой и в то же время бесплотный, словно постер на стене. Я уже не верил улыбке, с какой она натолкнулась на меня у подъезда, не верил радостным фантазиям, которыми она наполняла мою квартиру-пенал; я словно попал в мир наизнанку, мир искалеченных смыслов, недомолвок и иллюзий, тщетных надежд и беспочвенных идей.
Когда Сеттимио вынес во двор мой стол и в несколько заходов перетащил на него чаши с коктейлем, я достал из заначки еще три бутылки водки и вылил туда, а сверху посыпал молотым красным перцем, который бабушка привезла мне из Турции. Выпил полстакана, чтобы проверить, получилось ли все испортить; алкоголь сразу ударил в голову. Я немедленно выпил еще полстакана, заливая ненависть к Мизии, жестокую панику при мысли, что выставка скоро начнется, общую бессмысленность и неразумность мира, беспросветное отчаяние в душе. Сеттимио и тут внес свою лепту – десятисантиметровый косяк с гашишем; после второй затяжки я улетел. Стоя в облаке дыма, я не хотел даже смотреть на Мизию и не отвечал на ее искательные улыбки. Я помог Сеттимио поднять мою кровать на колесиках и прислонить к стене, чтобы освободить место, и это показалось мне таким же абсурдом, как и все остальное; мне показалось, что сама жизнь на ощупь такая же, как мой пружинный матрас: тяжелая, неповоротливая и не слишком гибкая.
А потом, без всякого предупреждения, вдруг оказалось семь часов. Вот только что оставалось еще больше часа до возможного появления первых гостей, и раз – уже четверо или пятеро звонят в домофон. Мизия отправилась в ванную переодеваться и краситься и крикнула Сеттимио из-за двери, чтобы он шел открывать и принимать гостей. Она даже не пыталась заговорить со мной, видя, что я не заговариваю с ней: так она вела себя всегда, и эту ее манеру я тоже ненавидел. Я смотрел в окно и думал, что хорошо бы спрыгнуть вниз, но второй этаж недостаточно высок для радикальных решений.
Наконец, Мизия появилась из ванной, невыносимо изящная и красивая, подошла к стереосистеме, поставила альбом Дилана «Blonde on Blonde», [21]21
«Blonde on Blonde»– Блондинка на блондинке (англ.).
[Закрыть]и мелодия «Rainy Day Woman» [22]22
«Rainy Day Woman»– Женщина дождливого дня (англ.).
[Закрыть]загремела по всему двору. Потом вернулась ко мне и сказала: «Веди себя как художник. Никаких объяснений. Поменьше любезностей и побольше загадочности».
– Не волнуйся, – сказал я, не глядя ей в глаза.
Меня так унесло, что я не понимал, о чем она говорит; когда же я глянул вниз с галереи, дворик показался мне прудом во время бури. Всюду было полно людей: люди на лестницах и люди на галереях, люди здоровались, жестикулировали, рассматривали мои картины, разговаривали с Мизией, смеялись, пили водку с апельсиновым соком, которую подливал им Сеттимио Арки, похожий на гангстера времен сухого закона на крестинах племянника. Музыка гремела, фонари подсвечивали сине-голубые стены, и дворик выглядел как притон в Амстердаме. Какие-то люди подходили ко мне, и жали мне руку, и задавали вопросы, но я не совсем понимал, что они хотят сказать и почему так смотрят. Потом вдруг я обнаружил в толпе мою маму, а следом и бабушку с двумя подружками, помоложе нее, но такими же чокнутыми, они подошли ко мне и расцеловали, они оглядывались вокруг и затыкали уши из-за громкой музыки, пили водку с соком. Бабушка показала на Мизию, стоявшую поодаль, и сказала что-то вроде «Красивая девушка», или «Славная девушка», или «Это твоя девушка?», но сколько бы она ни повторяла вопрос, я мог опознать только слово «девушка»; я согласно кивал, по всему моему телу прокатывались судороги, внутри как будто сжималась и разжималась пружина.
Я спустился по лестнице в толпу: это казалось невероятным, но весь дом до самого последнего уголка был битком набит людьми, к тому же людьми, которых я ни разу в жизни не видел, людьми в стельку пьяными из-за усовершенствованного мной коктейля и пересоленных крекеров, вызывавших у них неутолимую жажду. Пьяные дети с хохотом съезжали на животе по лестнице, пьяные женщины подходили ко мне вплотную и долго говорили комплименты, смотрели рыбьими глазами, пьяные мужчины снова и снова жали мне руку, не узнавая, и на галерее второго этажа, и во дворе, и в квартире-пенале. Среди толчеи незнакомых лиц иногда вдруг всплывали лица, которые я узнавал, но не понимал, откуда я их знаю, то ли это бывшие одноклассники, то ли соседи, то ли еще кто. Пару раз появлялись жильцы с жалобами на громкую музыку и беспорядок, но Мизия что-то им говорила и что-то показывала, и они начинали улыбаться и тоже брали у Сеттимио по стакану водки с соком. Я словно очутился в шапито: взбудораженные одноклеточные были смешны и трогательны в своей простоте, как герои мультфильмов сороковых годов. Теперь, когда ситуация так сильно изменилась, я начал развлекаться: отдавался на волю круговых течений, поднимался и спускался, расхаживал туда-сюда между картинами, покуда Мизия сосредоточенно наклеивала в углу рамы красные ярлычки. Я уже не понимал, что именно чувствую, но это было неважно; меня уже не волновало, что я в любую минуту могу наткнуться на Марко и надо будет что-то делать, что-то говорить. Я поднимался и спускался по истертым каменным ступеням и улыбался, кивал, строил из себя художника, как просила Мизия, опрокидывал в себя стакан за стаканом, придумывал самые немыслимые пояснения к картинам, если меня кто-нибудь спрашивал, а если спрашивали еще раз, я придумывал новые, потому что уже не помнил, что говорил раньше. Мое сопротивление слабело, я чувствовал себя машиной, слишком долго стоявшей на ручном тормозе, и хотя ничего не соображал, все же знал, что это целиком заслуга Мизии, и потому злился на нее еще больше. Я говорил со всеми, кто подворачивался под руку: о живописи, о восприятии времени, о галеристах, которые хуже мафии, и об ужасах Крестовых походов, и о том, как естественно ведет себя Мизия перед камерой, и о том, что прошлой ночью чуть не подрался с лучшим другом, но непохоже было, чтобы кто-то что-то понял. Вокруг царила такая сердечная, располагающая и бестолковая атмосфера, что слова стайками летали в воздухе, вызывая одну-единственную реакцию: выражение живейшего интереса на лицах. Я прикасался к людям, упирался лбом кому-нибудь в плечо, брал кого-то за руку, пожимал пальцы, обнимал всех хорошеньких девушек, какие попадались в толпе, но ни одна даже отдаленно не могла сравниться с Мизией; мне нужен был ободряющий телесный контакт, ощутимый ответ на сигналы бедствия, рассылаемые по всем направлениям.








