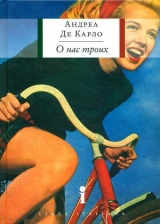
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
5
По мере того как поезд удалялся от побережья, пейзаж терял свою живописную мягкость, становился суровым и диким; плавные гребни холмов сменялись скалами и огромными валунами, загораживавшими солнце, обрывались крутыми склонами, между которыми бурлили горные потоки, текли речушки. Я стоял в коридоре у открытого окна, дышал уже холодным воздухом и пытался вспомнить названия городков, которые видел в старом географическом атласе, на Менорке, и прикинуть расстояния между ними; я надеялся сойти с поезда до того, как исчезнет всякая растительность и все вокруг окончательно погрузится во мрак.
На крохотной станции в Нимо оказалось, что автобусов до Сен-Годмара, где жила Мизия, не будет до утра. Такси или другого транспорта тоже не было, так что я просто пошел пешком по дороге, которая должна была привести меня к Мизии, голосуя проезжавшим изредка машинам. Скоро я оказался в таких местах, где присутствие человека выдавал лишь асфальт, по которому я шел, а вокруг, насколько хватало глаз, были скалы, плотная земля, редкая трава и кусты, простор и головокружительные склоны; ветер – такой, что свистело в ушах и приходилось идти, сгибаясь в три погибели; я постоянно оборачивался назад и думал, не вернуться ли обратно в Нимо и переждать до завтра. Но мне очень хотелось увидеть Мизию – тем сильнее, чем отчетливее я понимал, в какую глушь ее занесло.
Наконец рядом остановился небольшой грузовичок, и старый крестьянин с красным лицом согласился меня подвезти. Я спросил его на своем ужасном французском, не слышал ли он случайно про семерых юношей и девушек, которые живут вместе в Сен-Годмаре, он сказал, что слышал, и несколько раз повторил какую-то фразу, видимо, пытаясь сострить, только я ничего не понял. Он показывал на мои спутанные волосы, свисавшие сосульками, махал ладонью у подбородка, как бы показывая козлиную бородку, и смеялся. От старика несло перегаром, потом и навозом, все лицо у него было изрезано морщинами от солнца, ветра и мороза, но – никакого сомнения – нелепыми дикарями казались ему мы, те ребята и я, он просто не мог удержаться и не показать этого. Я пытался спросить его жестами про детей, он кивал головой, говорил «Бе-е-е, бе-е-е» и показывал рожки, продолжая смеяться. Я тоже смеялся, но уже сомневался, встревоженный и продрогший, правильно ли поступил, бросившись вот так, ни с того ни с сего, искать Мизию.
Крестьянин остановился у поворота под выступом скалы и показал куда-то вниз, на две каменные постройки, сливавшиеся с унылым, неровным пейзажем, сам бы я их, может, и не заметил. Близился вечер, свет был странный, как бы обесцвеченный, словно солнечные лучи пробивались сквозь огромную серую линзу, спрятанную прямо над облаками.
Я спустился по крутой дорожке – сплошные выбоины и ямы, ветер так сильно дул мне в лицо, что сердце заходилось. Когда я подошел к домам, навстречу мне с густым, хриплым лаем выскочила огромная овчарка, а вслед за ней – две маленьких дворняжки: они рычали, скалились, скребли когтями землю и все хотели цапнуть меня за лодыжки. Ту, что поменьше, я видел на фотографии, которую мне когда-то прислала Мизия, но в жизни эта дворняжка оказалась куда менее дружелюбной. Я ускорил шаг, с нарастающей паникой озираясь по сторонам. Из-за поленницы высунулась девочка лет трех, посмотрела на меня секунду диковатым взглядом, потом бросилась со всех ног к одному из каменных домов и шмыгнула в дверь.
В поломанном деревянном загоне, понурив тяжелую голову, стоял осел, серые и черные козы позвякивали колокольчиками на поросшем кустарником каменистом склоне справа от меня, на пятачке сухой, белесой земли между домами возились куры. Тут же валялось дырявое жестяное ведро, у стены стояли вилы и грабли; ветер трепал какие-то цветные тряпки, мужские брюки и детские трусики на веревке, натянутой меж двух столбов. Старая ванна, использовавшаяся как поилка для скота, утопала в грязи: вокруг нее животные разбрызгивали воду, топтались, рылись в земле. Я сравнивал то, что видел, с картинкой, которую нарисовал себе по письму Мизии и по фотографии, и мне казалось, что все еще сложнее и безнадежнее, чем я себе представлял, от каждой незначительной детали еще сильнее сжималось сердце. Что заставило Мизию приехать сюда, думал я, какие душевные муки стояли за якобы обретенным покоем и отрешенностью, о которых она мне писала.
Я боялся внезапно увидеть ее и старался дышать спокойнее, не оглядываться по сторонам, расслабить мышцы шеи. Ремень дорожной сумки врезался в плечо, хотелось пить, есть, и я не знал, из-за какого угла или двери она появится.
Из-за двери, за которой исчезла маленькая девочка, вышла девушка с платком на кудрявых волосах, в свитере из грубой шерсти, джинсах и сабо; она подозрительно на меня посмотрела. Собаки заняли пространство между нами, еще старательнее лая и скаля зубы.
– Мизия дома? Я ее друг. Меня зовут Ливио.
В глазах у нее что-то мелькнуло, но она покачала головой.
– Elle n’est par là, [38]38
Ее здесь нет (франц.).
[Закрыть]– сказала она.
– Но она ведь живет здесь, да? – спросил я, почти с отчаянием.
– Non, [39]39
Нет (франц.).
[Закрыть]– сказала девушка, качая головой. Из-за ее спины высунулась маленькая девочка и мальчуган постарше, оба – с темными глазенками-пуговицами, загорелые, грязные, в самодельной одежде и разваливающихся тряпичных тапочках.
– Разве она не с вами живет? – сказал я слишком громко и взмахнул руками – слишком широко взмахнул. Я все ждал, что Мизия вот-вот выскочит из второго серого каменного дома, уронит то, что будет держать в руках и бросится мне навстречу. – Она писала мне, что живет здесь. Вместе с сыном, его тоже зовут Ливио. И со своим парнем.
Я крутил головой во все стороны, руки у меня дергались, как у марионетки, дышать спокойно не получалось.
Кудрявая девушка еще раз отрицательно покачала головой, равнодушно и без всякой доброжелательности. Со склона, на котором паслись козы, спустился парень со спутанными, как и у меня, волосами, только рыжими, в руках он держал длинную палку, возможно, с целью самообороны. Девушка повернулась к нему и стала что-то говорить; из всего стремительного потока свистящих, царапающих звуков я понял только «Мизья».
Рыжеволосый парень тоже сказал мне «Elle n’est par là» и так же, как девушка, покачал головой; он уперся одной рукой в бок, а другой сжимал палку: нет бы унять собак, которые совсем разошлись от собственного лая и готовы были на меня наброситься с трех сторон.
Но я не мог пошевелиться, словно застыл в безвоздушном пространстве, и сил не было даже шагу ступить. Это было слишком: не найти Мизию после того, как я не нашел Марко в Лондоне; в моем внутреннем пейзаже обрушились горы и высохли реки, и ощущение, что нет никаких больше ориентиров, мгновенно вытеснило все мысли.
Я так и стоял, не двигаясь, собаки лаяли, а семейка колонистов смотрела на меня с откровенной, непонятной мне враждебностью, и тут появился высокий парень с длинными пегими волосами и козлиной бородкой; я сразу понял, что это и есть парень Мизии, хоть никто ничего мне не сказал. Серые глаза – глаза мечтателя или второстепенного святого, высокий и худющий, похожий на человека, который одержим какой-то целью и готов ради нее на любые жертвы, истово веря, что все равно добьется своего.
– Я друг Мизии. Хотел повидать ее, – сказал я ему.
– Мизия уехала, – сказал он по-итальянски; в глазах у него были грусть и решимость.
– Когда?
– Два месяца назад.
За его спиной прошлепали цепочкой гуси; одна из маленьких дворняжек отвлеклась от меня и побежала за ними.
– Куда она поехала? – спросил я.
– Не знаю, – сказал он голосом человека, пережившего непоправимую, необъяснимую потерю. – Она хотела вернуться в город. Не знаю, в какой.
– А ребенок? – спросил я.
– Увезла его с собой, – сказал парень. И поскольку я продолжал вопросительно смотреть на него, добавил: – Ты ведь о ее сыне?
– Но ведь и твой тоже, – сказал я. Мне хотелось спросить, не могли бы мы присесть с ним хоть на пару минут и выпить вместе по стакану воды или козлиного молока и поговорить.
– Нет, – сказал он. – Только ее сын.
Ему было слишком больно об этом говорить, а остальные отнеслись ко мне слишком неприязненно, третья собака вернулась и еще яростнее лаяла на меня, и никто не предложил мне присесть или войти в дом. Я поднял руку и сказал:
– Ладно, я ухожу. До свидания.
Я вернулся обратно по утоптанной дорожке – сплошные выбоины и ямы, а бежавшие по пятам собаки лаяли и скалили зубы. В ушах свистел ветер, по небу быстро проплывали черные тучи; я пытался прикинуть, сколько мне добираться до городка, если никто меня не подвезет. Казалось, кругом не холмы, а бурное море, и я боялся утонуть.
6
Я был настолько раздавлен и угнетен, что совсем перестал соображать и, добравшись на поезде до побережья, пересел на ночной поезд до Италии, который шел почти со всеми остановками, так что стоило мне заснуть, положив голову на локоть или свернувшись, как я снова просыпался от тряски и скрежета железа; в вагоне пахло овощным супом, куревом и старой обивкой. Наконец утром я оказался в Милане, где стояла удушающая жара.
Но стоило мне выйти из здания вокзала под портики, где, вытянувшись в ряд, ждали пассажиров желтые такси, как на меня навалилось мучительное ощущение, что здесь я тоже не дома, как и в любом другом уголке мира. Я пытался сообразить, кого бы или что бы мне хотелось видеть в Милане, но ничего не приходило в голову. Мизия и Марко пропадали неизвестно где, мою квартиру-пенал снимал пятидесятилетний флейтист, мама по телефону говорила таким встревоженным голосом, что только нагоняла на меня еще больший страх, бабушку занимали лишь склоки на работе, как-бы-мой галерист даже не ответил на последнее письмо, в котором я спрашивал, как обстоят мои дела. Я уже не понимал, зачем приехал в Милан, когда можно было сразу махнуть на Менорку, – разве что здесь столько всего было связано с Марко и Мизией.
Я все повторял себе, что когда-то жил без них, и ничего, – только это не помогало. То, что я не нашел их и даже не знал, где они, совершенно выбивало меня из колеи, что-то подобное я испытывал в детстве, когда, уставившись на какой-нибудь предмет, непрерывно думал о его названии, форме – и внезапно переставал понимать, на что я смотрю, так что предметы вокруг и их названия тоже теряли смысл, и тогда оказывалось, что весь город вокруг меня состоит из непонятных пустот и объемов.
Выход был один, как в детстве: бежать к бабушке. Я был не в состоянии думать, не поступаю ли по-детски, или смешно, или сентиментально, или еще как; я просто сел на трамвай и поехал к ней: усталый, грязный, голодный, навязчивый, несчастный.
К ее дому я подъехал в восемь часов утра, а в клинику она уходила не раньше половины девятого; все же я поинтересовался у консьержки, дома ли бабушка, и услышал, что дома. Я поднялся пешком на восьмой этаж, потому что после долгих лет полудикой жизни стал бояться лифта и поклялся в Лондоне, в гостинице, что больше им пользоваться не буду. Я так нуждался в поддержке и утешении, что у меня дрожал палец на кнопке звонка, а еще я старался не смотреть на стены лестничной площадки: казалось, они наступают на меня со всех сторон.
Бабушка почему-то не открыла. Я звонил несколько раз короткими звонками, потом нажал звонок и уже не отпускал, пока волна нараставшей во мне паники не накрыла меня с головой. Тогда я стал барабанить в дверь, крича как безумный: «Бабушка, бабушка!»
Сосед-адвокат выглянул на лестничную клетку, увидев тревогу в его глазах я совсем обезумел. «Бабушка дома, но она не открывает!» – сказал я ему. Я опять колотил в дверь, звал бабушку во весь голос, пинал дверь, тряс ручку, чувствуя себя как человек, который лег спать, а проснулся в другом веке: сами места вокруг узнать можно, а вот его близкие или еще не родились, или давно умерли.
– Успокойтесь, пожалуйста, – сказал сосед.
– Сами успокойтесь! – крикнул я ему. – Бабушке плохо или она умерла!
В отчаянии, почти машинально, я продолжал пинать, колотить, толкать, трясти дверь, и грохот поднял страшный – но еще громче стучала кровь у меня в висках.
– Мои лучшие друзья исчезли, – выкрикнул я, – а бабушка умерла! И все – за три дня!
Сосед оказался молодцом: он схватил меня за руку, хоть я, наверно, производил вид буйнопомешанного, затащил в свою квартиру и убедил вызвать спасателей и «скорую». Пока мы ждали, он налил мне рюмку коньяка, чтобы я успокоился, и, по моей просьбе, – вторую, но коньяк не помог, я только впал в еще большее смятение и ужас, и все ходил смотреть на дверь бабушкиной квартиры. Очень скоро появились спасатели в сопровождении консьержки: узнав, в чем дело, они достали свои топоры и железные ломы, пока я вопил: «Скорее, скорее!», и с жутким грохотом взломали дверь бабушкиной квартиры, так что щепки от нее полетели во все стороны, а другие соседи тоже повыскакивали на лестницу; выломав дверь и сняв ее с петель, спасатели вошли в квартиру, я за ними, хоть меня и удерживали, чтобы избавить от страшной сцены, и оказалось, что бабушка стоит в прихожей, живая и невредимая, при полном параде, с таким потрясенным выражением лица, какого я в жизни у нее не видел.
– Почему ты не открывала? Почему? – крикнул я ей.
Бабушка была не из пугливых, но все это древесное крошево, униформы, сапоги, дубинки, вопросительные взгляды смутили и ее, так что ответила она не сразу:
– Я принимала душ,Ливио.
Вечером я позвонил на переговорный пункт Менорки и попросил передать Флор, что приеду на следующий день.
7
Жизнь на Менорке была такая же, как до поездки в Лондон, вот только я стал другим. Как будто судорожные перемещения из страны в страну заразили меня вирусом беспокойства, и меня тяготили теперь монотонность и отсутствие впечатлений, я стал нервным и раздражительным. Успокоившись и придя в себя за первые дни, я стал замечать, что небрежная медлительность Флор постепенно становится мне неприятна, а нелюбознательность наших друзей все чаще вызывает желание обрушить на них всевозможную информацию, расспросить обо всем на свете, в общем, попытаться расшевелить, встряхнуть их. Флор спрашивала: «Что с тобой, Ливио?», я не знал, как ей ответить, и грустил, видя в ее глазах непонимание. Я пытался настроиться на прежний лад и жить, как жил здесь годами в нашем деревенском домике, но когда мне казалось, что все вернулось на круги своя, я вновь вспоминал про Мизию и Марко, которые неизвестно где и у которых что-то происходит, во мне опять вспыхивало беспокойство, и я ничего не мог с этим поделать.
Я часами гулял как одержимый, вставал посреди ночи и писал что-то невообразимое: странные формы, дикие краски; потом я прятал неоконченную картину в угол. Флор приносила мне свои травяные отвары, а я тут же заявлял ей: «Нет, спасибо», хотя она даже не успевала ко мне подойти; она обижалась, а я говорил: «Ну, что за трагедия?». По вечерам я спрашивал ее, какие у нас планы, хотя прекрасно знал: мы с ней забрались так далеко как раз затем, чтобы не иметь никаких планов. Если она напевала какую-нибудь старую песенку, я говорил: «А поновее ничего не знаешь?», и таким раздраженным голосом, что она просто цепенела. Мне тут же становилось стыдно за себя, я понимал, что поступаю некрасиво, агрессивно, жестоко, но ничего с собой поделать все равно не мог.
Ночью я иногда выходил на луг перед домом и ждал, вдруг раздастся хоть какой-нибудь неожиданный звук в темном, почти неподвижном воздухе.
8
Лондон, 5 октября
Дорогой Ливио, сукин ты сын,
Надеюсь, ты не порвал все связи с миром и все-таки забираешь с почты письма «до востребования» или хотя бы это заберешь. С тех пор как мы перестали общаться, уже столько воды утекло – подумать страшно, не понимаю, как такое могло случиться и кто в этом виноват: я, ты или всему виной обстоятельства, сама жизнь или еще что; хотелось бы найти тому одно подходящее объяснение, но, боюсь, причин тут много.
Однако:
Третий мой фильм оставил у меня тошнотворное чувство неудовлетворенности, которое во много раз усиливается тем, что считают его чуть ли не шедевром, поэтому я решил завязать с такого рода кино, даже слышать о нем не хочу. (Сам понимаешь, какие чувства испытал твой друг Сеттимио, который только-только начал делать на мне серьезные деньги и не собирался на этом останавливаться: сценарий, который ты с таким завидным рвением доставил мне в Лондон, настолько пошлый и тупой, что я бы охотно посмеялся над ним, не будь он точным отражением той вульгарности и гнусности, которыми так сейчас кичится добрая половина нашей дурацкой страны – протухшей, загнившей, коррумпированной до мозга костей.) (И я поначалу страшно разозлился на тебя, что после стольких лет ты вдруг объявился в роли гонца от этого мерзавца, а потом подумал еще и взглянул на все с другой точки зрения – честно говоря, я вообще в последнее время склонен смотреть на все с другой точки зрения.)
Самое главное: авторское кино – несъедобный коктейль из самолюбования, самодовольства и близорукости; автор говорит о себе с такой маниакальной сосредоточенностью, что уже не видит дальше своего носа, а в итоге понимает: все давно сказано другими, остается лишь переставлять с места на место то, что уже было найдено до тебя, и повторено в тысячах вариантов. И вообще, выставлять на показ свой внутренний мир – все равно что запереть себя в клетку в зоопарке, и тогда не удивляйся людям, которые, заплатив за билет, начнут на тебя глазеть, справедливо полагая, что затем ты и сидишь, чтобы на тебя были направлены взгляды, смешки, объективы фотоаппаратов, шутки, чьи угодно идиотские замечания. Мизия была права и в этом: подумать только, все адепты чистого искусства, которых я встретил за эти годы, кричали на всех перекрестках, что они не как остальные, что их не купишь, что они против системы, а сами жадно хватали любую подачку, причем итальянцам здесь нет равных, потому что у них от природы удивительный запас двуличности и лицемерия, но вообще-то везде и повсюду примерно одно и то же, уж можешь мне поверить.
Я навсегда забил на Париж (и на Италию), я забил на телефон, он стал казаться мне столь очевидным проводником пустых слов и лживых чувств, что я расколотил его молотком и вряд ли когда-нибудь обзаведусь новым. (На телевизор и газеты я забил еще раньше.) Я забил на красивые квартиры, дорогие рестораны, признанных красавиц, «правильную» одежду и «правильных» друзей, не так уж долго я с ними общался, но с меня и этого довольно.
Пару недель назад я чуть было не уехал в Афганистан с шестнадцатимиллиметровой камерой, чтобы снять там документальный фильм и придать своей работе хоть какой-то смысл, но потом подумал, что смысл надо искать в себе самом, а не ждать, когда тебе поднесут его на блюдечке в экстремальной ситуации. (И потом, мне не хочется надолго ввязываться в чисто мужскую историю, а война, как говорила Мизия, это чисто мужская история.)
Поэтому сейчас я согласился на предложение снять видеоклип для «Хардвер» – это рок-группа, довольно странная и непростая, хотя по сравнению с золотой эпохой нашей музыки – просто никакая, а то новое, что мне нравится, просто отголоски и перепевки того, что мы любили пятнадцать-двадцать лет назад. Но снимать клип – все же другой формат, в этой работе не остается места для самолюбования, к тому же клип длится несколько минут и все, снимать его технически куда легче, ничто не будет ограничивать мою свободу, и я смогу подумать, в каком направлении мне дальше двигаться и не бросить ли мне все и окунуться в жизнь, что было бы совсем не плохо.
Как видишь, все пока неясно, и я считаю, что это нормально, надеюсь, и у тебя все нормально. Может, мы все же повидаемся рано или поздно или хотя бы опять спишемся, а пока что – крепко тебя обнимаю, сукин ты сын!
М.
9
Как обычно, в конце ноября ветры начали выметать остров, и я почувствовал себя отрезанным от жизни, чуть ли не за ее пределами; с каждым днем я становился все раздражительнее и мрачнее. Потом однажды поздно вечером мы ужасно разругались с Флор из-за того, что я здорово пересолил омлет, по ее мнению – нарочно. Сначала мы побили тарелки и стаканы, пошвыряли стулья об пол и наговорили друг другу бог знает чего, а потом, задыхаясь, разошлись в разные концы кухни и уставились друг на друга; тут-то я и сказал ей, что лучше мне ненадолго уехать отсюда. Она застыла на месте, сверкая глазами, подперев один бок рукой, а потом молча бросилась в мою мастерскую и принялась хватать одну за другой все мои картины и вышвыривать их на улицу. А я, ни слова не говоря, в холодной злобе подбирал и укладывал их на багажник моего «пятисотого», а когда Флор выкинула за дверь все немногочисленное содержимое моего гардероба, книги и диски, все это я тоже поднял и бережно уложил на заднее сидение. Не попрощавшись и вообще не сказав ни слова, я завел автомобиль и поехал в Маон, прямо в порт, чтобы отплыть на первом же утреннем корабле. Но в два часа ночи, когда, полулежа на откинутом сиденье в замкнутом пространстве своей жестяной посудины, я тщетно пытался заснуть, меня вдруг охватила невыносимая, прямо-таки вселенская тоска. Я старался вспомнить все те кошмарные обвинения, которые обрушил на Флор, и те, что она бросала мне в ответ, но знал при этом, что дело совсем не в них, как ни больно было вспоминать слезы гнева и отчаяния в ее глазах. Я смотрел на портовые огни, было холодно; мне казалось, что все на свете и те люди, которые мне действительно дороги, бесконечно далеки от меня. От того, что было так скверно, хотелось просто смеяться, а еще хотелось спуститься с причала, броситься в воду и, не шевельнув ни рукой, ни ногой, уйти на дно.
Вместо этого я снова завел автомобиль и вернулся к нашему деревенскому домику, но двигатель выключать не стал, а предложил Флор поехать со мной в Милан. Я не знал, зачем так поступаю, но сейчас мне кажется, что все дело было в моем итальянском характере: это так по-итальянски: принять, как бы по инерции, неприятное, но неотвратимое решение и сейчас же совершить нечто, сводящее его на нет, восстанавливающее прежний порядок вещей в чуть измененной форме.
Флор благосклонно отнеслась к моему предложению, но, как обычно, без восторгов и проявлений чувств, она только кивнула головой, сказала: «Ладно» и принялась укладывать чемодан.
Флейтист, снимавший мою миланскую квартиру-коридор, не выразил никакого желания вернуть мне ее обратно, и нам пришлось поселиться у моей матери, где с первого же дня они с Флор стали проявлять явные симптомы взаимной неприязни. Мама то и дело прохаживалась по поводу моей одежды, худобы, прически, явно обвиняя во всем Флор; она даже пыталась поправить дело: дарила мне строгие свитера и рубашки, а также перчатки и домашние тапочки, а еще непрестанно готовила высококалорийные блюда. Флор со своей стороны тоже в долгу не оставалась и не упускала случая попрекнуть мою маму: мол, в доме нечем дышать, и можно сойти с ума от уличного шума, и нельзя же есть столько мяса и масла, соли и сахара, и почему швейцар так неприветлив, и вообще – жизнь в этом доме не имеет ничего общего с нормальной естественной жизнью. Я попал между двух огней и занял довольно абсурдную позицию строгого нейтралитета, никогда не вставая ни на ту, ни на другую сторону и делая вид, что эти постоянные стычки вообще меня не касаются; тем самым я только еще подливал масла в огонь – стоило одной из них выйти из дома, как другая моментально обрушивала на меня жалобы, попреки, обвинения.
С бабушкой дело обстояло немного лучше: она относилась к Флор с симпатией и радовалась возможности попрактиковаться в испанском, но о переезде к ней нечего было и думать, я знал, как ревностно она охраняет свою независимость. Впрочем, бабушка тоже донимала меня, но по другому поводу. «Ты совсем скис, Ливио, – твердила она. – Отгородился от мира, и это не пошло тебе на пользу. Изоляция действует убийственно».
Итак, мы жили в доме моей матери, где я еще мальчишкой успел соскучиться и настрадаться, жили прямо в бывшей моей комнате со стеллажами, забитыми серебряными вазочками и чашечками, – их с некоторых пор стала коллекционировать моя мать, – и Флор все время возмущалась, почему я позволяю вмешиваться в нашу жизнь и делать замечания по поводу и без повода, однако никакого желания что-то изменить у меня не возникло, напротив, я лишь все глубже погружался в беспросветную тоску, оборачивающуюся полной апатией. Я не пытался даже рисовать, оправдываясь тем, что мне негде это делать, спал допоздна, сидел, уткнувшись весь день то в журнал, то в телевизор, и во мне вновь просыпалась неприязнь к своей стране. Флор то приходила в бешенство, то ударялась в слезы, но она не могла не понимать, что наше общение попросту свелось на нет и мы окончательно сбились с того жесткого ритма, на котором все держалось на острове, вдалеке от остального мира; в свою очередь, Флор тоже пребывала в апатии, ее хватало только на то, чтобы месить тесто, как только моя мать выходила из дома, или же возиться с кисточками, выплескивая на бумагу свои как-бы-сюрреалистические замыслы. То обстоятельство, что мне не удалось оставить ее на Менорке, давало мне моральное право обвинять ее в моем состоянии и снова говорить ей разные неприятные вещи по любому поводу, – мы попали в замкнутый круг взаимных попреков, во мне продолжало расти чувство неловкости, что еще больше привязывало меня к Флор.
А за окнами был старый нездоровый город, который так докучал мне в юности, до тех самых пор, пока я не встретил Марко, и теперь, едва мне случалось выйти на улицу или заговорить с кем-нибудь, город с еще большей силой, еще настойчивее вгрызался в мое сознание и давил мне на психику. Мимо освещенных витрин, ломившихся от товаров, лился поток людей в костюмах от лучших модельеров, проносились новые с иголочки немецкие автомобили. Казалось, открыт новый тайный способ, как грабить людей еще быстрее прежнего; как-бы-мой галерист сказал мне, что нужно рисовать картины покрупнее и обязательно на холсте, потому что акварели и темперы на бумаге слишком мало стоят и больше никого не интересуют. Когда я думал обо всем этом, то поражался, что мои отношения с миром вернулись почти к той же точке, с которой начинались много лет тому назад: все мое кажущееся восхождение свелось к нулю при первом же бунте чувств и обстоятельств. Окончательно сломался мой «пятисотый», мне показалось это символичным: еще один шаг назад, к полной неподвижности.
Через неделю такой жизни в Милане Флор совсем разругалась с моей матерью, на сей раз из-за того, как следует застилать постель, а поскольку я по обыкновению не принимал в обмене любезностями никакого участия и продолжал читать газету, развалившись в кресле, Флор заявила, что ей осточертело все: я, мое семейство, Италия, и она возвращается на Менорку. Я сделал попытку ее удержать, но такую вялую и беспомощную, что она еще сильнее ожесточилась. Я отвез Флор на вокзал и чуть было не расплакался, когда мы прощались на перроне, но стоило мне выйти на площадь, как я немедленно испытал малодушное и неудержимое чувство облегчения.
А потом я впал в состояние полного безразличия: старался не уходить от дома больше, чем на несколько сот метров, а за столом наедался до отвала. Я вымучивал из себя маленькие, замысловатые рисунки тушью, с них я когда-то начинал, и часами торчал у телевизора. Телевизор у мамы всегда был включен, даже когда она чем-то занималась или находилась в другой комнате, а я настолько отвык от него, что теперь, проходя мимо, мгновенно прилипал к экрану. Телевидение завораживало меня своим безобразием: уродливые фальшивые физиономии, фальшивые интонации, фальшивые жесты, фальшивая дружба, сострадание, благожелательность, искренность, веселье: все это я наблюдал и на улице, – бессмысленную эйфорию бесконечного праздника на краю бездны.
Однажды днем я сидел в гостиной на диване, упершись коленями в подлокотник, и переключал с канала на канал, раздумывая над тем, как пагубно действует на меня жизнь взаперти, еда, которой меня пичкает моя мать, и все новые свидетельства слабости моего характера, – и вдруг увидел Мизию Мистрани.
Только что я сидел и совершенно пассивно воспринимал льющийся из телевизора поток образов и звуков, и вдруг на экране появилась она: Мизия улыбалась, опускала глаза, заправляла волосы за ухо, в голосе у нее была легкая хрипотца, и сердце мое тут же понеслось галопом. Она еще больше похудела если судить по фотографии из Прованса, волосы едва доходили ей до плеч, черный пиджак и свитер смотрелись на ней просто и элегантно. Журналист настойчиво допрашивал ее, она отвечала, посматривая по сторонам, подносила руку к глазам, смеялась своим обычным смехом женщины-девочки, глядела в телекамеру, изо всех сил стараясь казаться серьезной. Она ни секунды не оставалась неподвижной: гибкая, беспокойная, в своем обычном строптивом настроении, – именно такой я ее и помнил; она исчезла из кадра еще до того, как я успел осмыслить то, что она говорила. Но очень быстро появилась опять, уже в кадре из фильма: в облегающем черном платье, с подведенными глазами, она возбужденно говорила по-французски с другим актером, потом дала ему пощечину и попыталась оттолкнуть – все это под аккомпанемент тошнотворного голоса журналиста, который заглушал собой весь звуковой ряд. Но и эта сцена закончилась слишком быстро – мое замедленное восприятие не могло успеть за сменой кадров – и вот она уже на одной из парижских улиц с идущим вслед за ней тупым и упорным журналистом: «Ваши планы на будущее?» «Поживем – увидим», – отвечает Мизия, улыбается в телекамеру, неловко машет рукой на прощание; сюжет о ней уже закончен, на экране под электронную музыку идет телевизионная заставка, затем показывают оперный театр в Вероне.
Я так и остался сидеть в гостиной в состоянии какой-то сосредоточенной растерянности: перед моими глазами мелькали то Мизия, то серые скалы Верхнего Прованса и козы; я пытался как-то собрать вместе все мои мысли о ней и понимал, что это едва ли возможно.
На следующий день Мизия позвонила мне по телефону.
– Так ты здесь? – сказал мне ее голос. – Ты не на островах или еще бог знает где? Ты не исчез навечно?
– А ты? – отозвался я, впав в еще большее смущение, чем сам ожидал от себя, когда мечтал вновь услышать ее голос. – Я видел тебя вчера. Где ты?
– Где ты меня видел? – спросила Мизия, казалось, она говорит на бегу и боится что-то уронить.
– По телевизору, – ответил я. – Так где ты?
– Здесь, – сказала она. – Хочешь, повидаемся? Через три минуты я буду у тебя, конечно, если ты не против. Я рядом.








