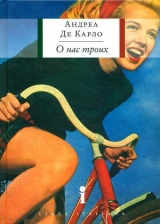
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
17
К полудню я вернулся домой к Марко: в гостиной какая-то рыжеволосая девица разглядывала одну мою картину, накинув на плечи одеяло и все равно дрожа от холода.
Она повернулась ко мне с задумчивым видом, и оказалось, что под одеялом она совершенно голая.
– Что, нельзя включить отопление? – спросила девушка.
Я ответил, что понятия не имею, и осмотрелся: на полу – сапоги Марко, женские туфли, брюки; повсюду – полупустые стаканы, недокуренные ночью косяки. Я словно почувствовал отголоски прошедшей ночи: смех, жесты, шатание из комнаты в комнату.
В ванной комнате я обнаружил высокую девицу с короткой стрижкой, она принимала душ – белая, длинная – и взвизгнула при виде меня, хоть сама же и не закрыла дверь.
– Извини, – выпалил я, захлопнул дверь и растерянно прошел по коридору.
Со старым серым свитером в руках вышел из своей комнаты Марко, босиком, и щурясь посмотрел на меня, словно сомневаясь, я это или нет; начал было натягивать свитер, но все никак не мог просунуть голову в ворот.
– Черт побери, куда ты вчера делся? А я еще Джанет позвал – думал, ты вернешься, – сказал он из-под своего шерстяного укрытия.
– Да так, поехал к одной девушке. Не предупредил, потому что ты был слишком увлечен, – ответил я.
– Да-а? – сказал он, все еще из-под свитера. Из его комнаты доносилась одна песня Бо Диддли: крохотные колонки портативного магнитофона свели мелодию к еле слышному мурлыканию. Марко наконец-то просунул голову в ворот свитера и со смехом проделал несколько танцевальных па.
По сравнению с ним я чувствовал себя трезвым как стеклышко, и от этого мне стало неуютно: получалось, что я не могу расслабиться и вообще слишком правильный и рациональный.
В дальнейшие дни и недели ритм нашей с Марко жизни все ускорялся. В огромном Лондоне всегда что-нибудь да происходило, а Марко не испытывал ни малейшего желания сидеть дома и размышлять о том, как грустно жить на белом свете: что ни вечер, то вечеринка, ужин, показ фильма, выставка, концерт, театральный спектакль; мы завязывали новые знакомства и забывали про старые, заводили романчики, расходовали энергию и способность удивляться. Мы знакомились с самыми разными людьми и вслед за ними перемещались с одного конца города на другой, то на чьей-нибудь машине, то на метро, то пешком, и нас не волновали время, расстояние и какие-либо практические соображения. Марко быстро говорил, быстро двигался; раз-два – и он уже придумал для себя, что такого интересного в том или ином человеке, но потом терял к нему интерес, и так же напряженно слушал и подначивал, исследовал и препарировал кого-нибудь другого; он сбегал в незнакомые ему миры – будто вниз, по винтовой лестнице, в тайники, набитые сокровищами. Казалось, он парит, как птица, как некогда в Милане в лучшие свои минуты, хоть я и замечал: копни поглубже – и проступят следы отчаяния, усталость; но над ним как будто не имели власти голод, отсутствие сна, усталость, словно он приобрел иммунитет и распространил его на окружающих.
Я следовал за ним, а иногда и вылезал вперед: если требовалось, то вел себя как заводила и клоун, и если требовалось, болтал, читал стихи, пел песни от конца к началу: по-итальянски, по-испански, по-английски. Не спал, как он, курил и пил, как он, недолго отсыпался днем, как он. По большому счету, я пытался быть как он, и в основном успешно, как мне казалось; но когда я, как он, шел напролом с девушками, что-то не срабатывало. Всякий раз я оставался в проигрыше и не понимал, почему у меня не получается быть легким, быстрым, не-сентиментальным: то ли я чего-то не понимаю, то ли мне это просто не дано.
Как я ни бегал и ни прыгал, кружась в водовороте сменявших друг друга лиц, имен и впечатлений, но по сравнению с ним я был медлительнее и больше нуждался в стабильной жизни. Я по-прежнему думал о Мизии и маленьком Ливио: иногда в самую неподходящую минуту во мне вспыхивало яростное желание узнать, как они поживают, как выглядит их новый дом, чем кончилось дело с Томасом Энгельгардтом. Звоня в Милан бабушке и маме, я всякий раз спрашивал, не звонила ли Мизия, не оставляла ли свой новый номер, но нет, она не объявлялась. Я пробовал звонить в ее парижскую квартиру, но там никого не было, и от самой мысли, что телефон звонит в пустой квартире, мне становилось тоскливо.
Я пытался работать: в любую минуту, свободную от разговоров, от перемещений, хотя перед глазами все плыло, колени дрожали. Марко вставал ближе к вечеру.
– Вот это дисциплина, – говорил он мне с привычным сарказмом, придя босиком в гостиную или комнату для гостей – я ставил свой мольберт где придется.
– И тебе не помешало бы хоть иногда вспоминать о работе, – отвечал я.
– О какой такой работе? – говорил Марко, и лицо его резко темнело.
Мы остались без денег, оба. Снимавший мою миланскую квартиру-пенал флейтист бросил платить и, никому ничего не сказав, съехал. Марко истратил последнюю заначку из денег за видеоклип. Неделю за неделей бабушка спрашивала по телефону: «Черт возьми, на что ты живешь?». Всякий раз я просил ее не беспокоиться, а сам беспокоился все больше и больше. Я позвонил в Милан как-бы-моему галеристу, за его счет; тот сказал мне: «Дорогой Ливио, ты не столь велик, чтобы позволить себе исчезать». Я ответил, что обдумаю его слова и дам знать.
Марко вел себя так, словно его совсем не беспокоило отсутствие денег. Его почтовый ящик ломился от квитанций об оплате, напоминаний, предписаний, холодильник был пуст, и ели мы в лучшем случае раз в день, а он говорил: «И как, по-твоему, я должен поступить? Продаться и снять еще один фильм? Рассказывать всем, какой у меня замысел потрясающий? Как все эти фигляры в газетах и на телевидении, да?»
Живя без гроша в кармане, он становился особенно прозорлив и категоричен, быстро соображал, слова его наполнялись каким-то особым смыслом. И ведь он как никто был равнодушен к обладанию материальными благами: красивый дом, новая одежда, вкусная еда – все это его нисколько не интересовало. Послушать Марко – он больше не чувствовал себя связанным по рукам и ногам, как в Париже, где у него были деньги, обязательства и всеобщее восхищение благодаря его фильмам, и я ему верил, это было естественно при его привычке к нестабильной, небрежной жизни. Всегда находилась какая-нибудь девушка, готовая принести ему то яблочный пирог, то вегетарианскую пиццу, то баночку витаминов, он знал, что его не оставят одного в нищете, но случись такое – не стал бы суетиться, пытаясь что-то изменить. Беспечность Марко, всегда граничившая с саморазрушением, только усилилась после того, как он приехал в Париж к Мизии и оказалось, что уже слишком поздно. Он разрушал себя иначе, чем Мизия, но несложно было понять, что результат оказывался тот же: разбазаривание своих талантов, упрямое желание отгородиться от остального мира, глубокое разочарование, прикрываемое иронией.
Я был с ним рядом днем и ночью и почти все время думал, что мы живем полноценной, творческой жизнью, но бывали минуты, когда я четко понимал: все это не идет мне на пользу.
18
К середине апреля я вернулся в Милан. Узнав, что мне обязательно надо разобраться с квартирой-пеналом, продать несколько картин, повидаться с бабушкой и мамой, Марко высмеял меня: «Пай-мальчик, ну просто пай-мальчик». Он всегда злился, когда кто-то из его близких лукавил, трусил, непоследовательно себя вел – или ему так казалось; я стал что-то лепетать в свое оправдание, дав ему тем самым повод для новых ехидных замечаний. Но когда дело действительно дошло до отъезда, он помог мне отвезти на вокзал обернутые пленкой холсты и погрузить их в вагон. Мы торопливо попрощались, хотя до отхода поезда оставалось почти полчаса.
– Скоро вернусь, максимум через пару-тройку недель. Только не исчезай больше, ладно? – сказал я.
– Пока, Ливио. – Марко грустно посмотрел на меня, хлопнул по плечу и ушел, не обернувшись.
Из открытого окна вагона я смотрел, как он шел под сводами старого викторианского вокзала, и во всей его крепкой фигуре сквозило тревожное напряжение, из-за чего он даже сбивался на бег.
Я так долго жил в столицах, что теперь Милан казался мне чудовищно маленьким и затхлым – причем город явно гордился, и еще как, тем немногим, что в нем было. Даже бабушка словно стала меньше ростом, но, к счастью, не утратила своей энергичности и сумасбродности. Мама, у которой теперь были огненно-рыжие волосы, сказала, что встречается с каким-то фармацевтом, намного ее моложе, и обязательно нас познакомит. В бывшей моей комнате, как и по всему дому, лежали отрезы ткани, зеркальца, маленькие индийские куколки, будто мама снова стала девочкой-подростком, что окончательно меня подкосило. Моя квартира-пенал за годы пребывания в ней флейтиста превратилась в черт знает что, а еще в ней было невыносимо шумно и темно, хуже, чем у Марко в его лондонском полуподвале; я понимал, что работать здесь художнику – гиблое дело, и удивлялся, как раньше этого не замечал.
Зато как-бы-мой галерист похвалил мои картины: мол, в прежних вещах было меньше силы и экспрессии, да и с цветом я так не работал, и видно, что Париж и Лондон дали мне больше, чем Балеарские острова, в общем, надо устроить выставку. Он говорил, а я смотрел на прислоненные к стене полотна и думал о том, что почти в каждом мазке или сочетании красок – отголоски жизни Марко и Мизии. Я вспоминал, что чувствовал, когда писал: сам того не осознавая, я преобразил и перенес на холст всю свою сопричастность их жизни и все свои терзания. Меня поражало, что эти полотна могут представлять ценность для каких-то незнакомых людей, хотя для них, которые не были знакомы ни с Мизией, ни с Марко в особенную пору их жизни, когда я писал ту или иную картину, три четверти ее истинного смысла пропадали втуне.
Я не чувствовал себя дома, и меня ничего не радовало, хотя впереди была выставка, а рядом – мама, которая постоянно готовила мне высококалорийные блюда, считая, что я слишком тощий и бледный; все из-за того, полагала она, что долгие месяцы обо мне некому было позаботиться. Что правда, то правда: никогда еще я не ощущал так остро, что никому не нужен: мне не с кем было поговорить, да и не о чем, словно меня выбросило прибоем на пустынный берег, где нет шансов выжить. Я ходил взад-вперед по квартире-пеналу, пытаясь понять, что с ней делать, и вспоминал, как Марко, придя сюда, лихорадочно рассказывал о своих фантастических планах, как впервые зашла ко мне Мизия, и на глаза у меня все время наворачивались слезы, как ни глупо это было.
К счастью, подготовка выставки оказалась занятием хлопотным, предаваться грустным размышлениям было некогда. Я носился между багетной мастерской и галереей, уточнял список приглашенных, обсуждал фуршет и другие мелочи, быстро и четко, как учила меня Мизия. Все равно как-то вечером, вновь поддавшись отчаянию, я не устоял перед соблазном опять позвонить в ее пустую квартиру в Париже: в очередной раз я представлял себе, как телефон звонит в комнатах, где совсем еще недавно звучали наши голоса, где мы ходили, где решали свои неразрешимые проблемы. Сразу после этого я позвонил Марко, он чудом оказался дома и взял трубку.
– Ну что? – спросил он хриплым от курения, алкоголя и недосыпа голосом.
Я постарался как можно лаконичнее рассказать ему о Милане и выставке, зная, что долго слушать он меня не будет.
– Что, мамочка и бабушка да этот чудо какой веселый город опять тебя заловили? – сказал он.
– Ну что ты. Проведу выставку – и вернусь в Лондон, – извиняющимся тоном ответил я.
Потом я вышел прогуляться и все думал, шагая по проспекту, о том, каких мучений мне стоит все время следить за собой, чтобы соответствовать ожиданиям Марко, даже когда он сам не знает, чего хочет. Думал я и о том, что Мизия влияла на меня лучше, чем Марко, и что из Парижа я уезжал в полном отчаянии, а из Лондона – почти ничего не чувствуя. Я испытывал постыдное облегчение и одновременно чувство вины от одной только мысли, что на время выпал из его жизни, и боялся, что это проявление моей внутренней убогости, как сказал бы Марко.
Выставка прошла даже лучше, чем мы с как-бы-моим галеристом надеялись. Тогда, в разгар восьмидесятых, у многих водились денежки, и грех было их не потратить, а мои картины стоили меньше, чем дорогой пиджак, и не были плохи: примерно половину мы продали на вернисаже. На меня накатывала странная грусть при мысли, что именно душевное напряжение Марко и Мизии, наложившее отпечаток на мои картины, и привлекало покупателей, которым подобные чувства были неведомы. Так недалеко и до того, думал я, чтобы и себя начать продавать вместе с картинами; к счастью, в памяти еще были живы разговоры Мизии и Марко об искусстве и арт-рынке, так что вроде бы я должен был устоять перед соблазнами.
На вернисаже выставки я познакомился со своей будущей женой Паолой. Она стояла вместе с подругой у стола с закусками: одна – высокая, другая – маленькая, обе оробевшие от того, что другие приглашенные так набросились на напитки, соленое печенье и кубики сыра. Меня остановили бабушкины подруги, а потом сразу же перехватила журналистка с частного канала, которая задавала расплывчатые вопросы и непрерывно поправляла волосы; когда мне наконец удалось вырваться от нее, я огляделся, не сомневаясь, что робкие девушки уже ушли. Но они еще стояли у стола и единственные ничего не пили и не ели; у той, что маленького роста, в пиджаке небесно-голубого цвета, личико было худенькое, совсем детское и одновременно взрослое. Я раздобыл два бокала игристого белого вина и предложил им; впервые в жизни я проявил галантность, общаясь с девушками, и неплохо справился; моя будущая жена Паола улыбнулась мне такой искренней, лучезарной улыбкой, что сомнений быть не могло: я произвел на нее впечатление.
Мы встретились через несколько дней, на редкость жарким вечером, нехарактерным для поздней миланской весны. Гуляли под портиками зданий в центре города и разговаривали; через час я осознал, что она – мое единственное спасение. В кафе, где подавали десятки видов мороженого ярких ненатуральных оттенков, я взял ее руку и, не думая, поцеловал маленькие короткие пальчики.
– Мне так хорошо с тобой, – признался я.
Она улыбнулась, той самой улыбкой, что так поразила меня на выставке.
– Мне тоже.
В день закрытия выставки Паола пригласила меня в загородный дом своих родителей, в Валле д’Аоста, и мы провели там десять дней. Вернувшись в Милан, мы почувствовали себя чуть ли не женатой парой, мы словно стали единым целым: жесты, слова, тепло наших тел, – мы дарили их друг другу и тут же ими обменивались. Полному нашему слиянию мешала лишь одна маленькая трещинка, которая, как мы оба понимали, в любую минуту могла увеличиться, и тогда нас раскидает в разные стороны, – это было мое обещание Марко вернуться в Лондон. Паола не была против, хоть и понимала, чем нам это грозит, но у нее хватало ума и такта понять, почему я говорю о поездке к Марко с таким пылом.
– Не могу я сидеть здесь только потому, что мне с тобой хорошо и спокойно, – говорил я. Или: – Не могу лишиться всех своих источников вдохновения. – Или: – Не могу же я оставить Марко одного, он себя погубит.
– Все правильно, – говорила Паола и улыбалась своей лучезарной улыбкой. – Поступай, как велит тебе сердце.
Наслаждаясь ласковым покоем нашего совместного существования, я наводил вместе с ней порядок в моей квартире-пенале, и вдруг, ни с того ни с сего, мне приходило в голову черт знает что, и все валилось из рук. Я жил с ощущением, что на мне висит некое моральное обязательство и не выполнить его нельзя, тогда я потеряю лицо и достоинство, а то и себя самого.
Я звонил в Лондон в самое разное время суток, но никак не мог застать Марко. Всякий раз я клал трубку со смешанным чувством облегчения и разочарования, снова сомневаясь в самом себе, потому что мой душевный порыв ни к чему не привел. Между тем мы с Паолой перекрасили стены, сменили матрас и краны в ванной; впервые в жизни у меня в холодильнике лежала настоящая еда, а не плитки шоколада. Паола ночевала у меня через день, утром она уходила в свое рекламное агентство, а вечером опять приходила, и мы вместе составляли списки всего того, что оставалось сделать, чтобы превратить в нормальное жилье пространство, в котором я годами жил, терпя неудобства и беспорядок.
Двадцать пятого мая позвонила мама и сказала, что мне пришло письмо, на ее адрес.
Лондон, 14 мая
Дорогой Ливио,
Когда ты получишь это письмо, меня уже несколько дней как не будет в Лондоне, так что не звони и не пиши: я уезжаю на другой конец света и, думаю, теперь не скоро обзаведусь постоянным адресом.
Здесь всекончено, не потому, что я разочаровался, потерял последние иллюзии, дошел до точки, впал в отчаяние, устал от повторяемости здешней жизни, и не потому, что напоминания об оплате и квитанции забили целую полку старого кухонного шкафчика. Все кончено, потому что на прошлой неделе я проснулся в три часа дня и понял, что знать не знаю, что за девушка спит в моей постели; потом пошел в ванную, посмотрел в зеркало, понял, что, опять же, знать не знаю, кто я такой,и тут у меня началась такая жуткая паранойя, что я стал биться о стены, словно обезумевшая ночная бабочка; видел бы ты лицо несчастной девушки, когда она притащилась узнать, что происходит, но, клянусь, я в жизни не испытывал такого сильного, отчаянного страха без границ, и внутренних, и внешних. Помнишь, ты рассказывал: в детстве иной раз как начнешь смотреть на какой-нибудь предмет, думая о его названии, и вдруг вообще перестаешь понимать, что это такое, и все предметы вокруг теряют смысл. Вот то же самое: слова внезапно разошлись со своими значениями, не осталось ничего,хоть отдаленно мне знакомого, словно я пришелец с другой планеты, который с бесконечным терпением подбирал код к чему-то, что происходит на Земле, а когда уже поверил, что не зря старался, код взял и не подошел, и все его представления развалились, словно порушенная за несколько секунд театральная декорация. Я ходил от стены к стене, в голове крутились совершенно непонятные мысли о себе самом, знакомых и незнакомых людях, тебе, Мизии, сыне, о разных эпизодах моих фильмов, предметах, именах и лицах, жестах и словах; так мелькают в окне дорожные указатели, когда мчишься на потерявшем управление высокоскоростном поезде, и чем острее я это сознавал, тем быстрее несся поезд, полностью вышедший из-под контроля. Это так страшно,Ливио, и ты из тех немногих, кто способен понять, что я хочу сказать. Единственный способ выбраться из такого состояния – ползти по-пластунски, как человек, уцелевший при землетрясении, жаться к земле, вслушиваясь что есть силы в самые простые звуки и даже не мечтая восстановить систему более сложных связей с миром, ведь следующий толчок будет еще сильнее.
Так что теперь я ползу по-пластунски, жмусь как могу к земле – отсюда не больно падать, пел Дилан. Мы слишком долго переливали из пустого в порожнее, называя это «культурой», и вдохновлялись идеологией непрерывного движения в никуда, которое достаточно тебя изматывает, чтобы дать иллюзию занятости, пока мир становится все гаже и гаже, а ты – рабом самого себя, рабом, золотящим олово, чтобы скрыть: ни на что нужное и конструктивное ты не способен.
Сам видишь, очередные слова, выкрикнутые в пустоту; что реально – так это моя дорожная сумка на полу перед входной дверью, а еще – что через десять минут я сяду на метро и поеду в Хитроу, а там сяду на самолет до Лимы, где меня подберут ребята из «Хаутам»: бедолаги пытаются что-то сделать, выступая против политики посаженного ЦРУ ублюдочного правительства, против маоистов, наркоторговцев, транснациональных компаний, католических миссионеров и вообще против всех. Кто знает, может, для меня это шанс заниматься той единственной работой, которую я умею делать, не заботясь в кои-то веки о себе любимом и о прибыли, которую она принесет. Так вот, я хочу снимать, не вдохновляясь ничем посторонним, просто показать жизнь такой, какую ни на одном новостном канале не могу показать, и единственное, что меня волнует, – будет ли от этого хоть какая-то практическая польза.
Прости, что я не позвонил тебе (и что ты, наверное, искал меня, а найти не мог), но я не хотел, чтобы ты считал себя виноватым или связанным обязательствами и так далее, тебе и так слишком часто приходилось быть свидетелем самых моих дурацких поступков. Сейчас мне кажется, что я до сих пор не сделал ничего такого, что имело бы смысл или реальнуюценность, я говорю и о том, что сделал сознательно, и о том, что получилось само по себе, и все мне кажется пустым и никчемным, жалкий обман, как и все, что теперь удается состряпать, продать и разрекламировать.
Прощаюсь, а то опоздаю на самолет, надеюсь, тебе живется интересно и ты думаешь не о том, удастся или нет устроить выставку, а о том, что сам испытываешь, о людях рядом с тобой и обо всем остальном. Если вдруг повидаешься с Мизией и малышом или будешь говорить с ними по телефону, мысленно поцелуй их обоих за меня, но, пожалуйста, не говори, что я тебя просил, и про это письмо тоже говорить не стоит. Пока!
М.








