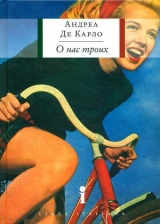
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
5
Яне виделся с Марко невероятно долго. Он звонил мне один раз из Лукки, сказал, что фильм продвигается, что о Мизии он ничего не знает и что, в сущности, так даже лучше, он только надеется, что у нее все хорошо, – и не мог понять, откуда у меня такой враждебный тон. После этого начался очередной наш перерыв в общении, когда мы оба переставали искать друг друга, и непонятно было, кто виноват изначально и кто виноват в том, что молчание затягивается. За долгие годы нашего знакомства я так и не смог к этому привыкнуть: каждый раз меня одолевали мучительные сомнения относительно дружбы как таковой и относительно способности чувств устоять перед обстоятельствами, а обстоятельств – перед искажающей силой памяти.
Я прочел о нем в газетах: его второй фильм стал участником Каннского фестиваля. Впечатления почти у всех авторов совпадали: в каждой статье я находил все ту же смесь недоверчивого восхищения, зависти и досады, ведь теперь Марко уже нельзя было счесть новым, никому не известным режиссером, или гением, не сознающим своего дара, ни тем более энтузиастом, снимающим фильм без гроша. К тому же Марко, безусловно, никогда не стремился снискать расположение людей своего круга и не упускал случая высказать все, что думает о продюсерах, критиках, коллегах и об итальянском кино в целом; все, что он говорил, было правдой, но в его словах, записанных журналистами, чувствовалась скрытая горечь, сознание собственной неприкаянности, и я видел, что он уже заранее разочарован в работе. Когда его первый фильм стал сенсацией, перед ним открылись двери всех клубов, задающих тон в культурной жизни нашей страны: и клуба любимчиков прессы, и клуба, удостоверяющего политическую благонадежность, и клуба, гарантирующего похвалу критиков, и многих других. Марко не пожелал войти в эти двери, и теперь ему это припомнили, а он становился еще более резким, язвительным и безразличным к чужому мнению, еще более одиноким и ни на кого не похожим, чем был с самого начала. Почти все французские журналисты, напротив, сочли фильм Марко просто прекрасным, но позиция итальянцев повлияла на решение жюри, и ему присудили только специальный приз, а не приз за лучшую режиссуру.
Когда в октябре фильм вышел в итальянский прокат, я не пошел на премьеру, потому что в газетных анонсах значилось: «На показе будет присутствовать режиссер», а режиссер не подавал признаков жизни и меня пригласить не потрудился. Я знал, что с ним происходит в подобных случаях: чем дольше мы не виделись, тем сильнее он замыкался в себе и словно цепенел, не в силах преодолеть чувство вины за разлад в отношениях и сделать хотя бы крохотный шажок к примирению. В рецензиях, появившихся на следующий день после премьеры, писали примерно то же, что и после показа на Каннском фестивале: что творческие притязания Марко граничат с наглостью, что язык его образов великолепен, но излишне прихотлив и отдает самолюбованием, что французская актриса хороша, но в ней нет и тени энергии и темперамента Мизии Мистрани из первого фильма. С последним утверждением я полностью согласился, когда все-таки посмотрел фильм; мне настолько не хватало Мизии в каждом кадре, что я вообще потерял интерес к действию и сидел, рассеянно следя за тонкой игрой диалогов, освещения и ракурсов, не в силах разобраться в абстрактном хитросплетении сюжетных линий.
Однажды вечером, в конце октября, я встретился с Сеттимио, он пригласил меня в дорогой ресторан в центре города. Он окончательно вжился в образ кинопродюсера: разодетый, напомаженный, завравшийся, притворно бескорыстный, притворно преданный благим целям. Рассказывал, сколько организационных и дипломатических усилий он приложил, чтобы спасти фильм Марко и избежать конфликта с продюсерами, съемочной группой и актерами после того, как с Марко стало вообще невозможно иметь дело. Рассказывал, что Марко был по-прежнему одержим Мизией, хоть и утверждал, что ему на нее наплевать, рассказывал, как сделал все возможное, чтобы не дать Марко поехать на ее поиски и снова загубить фильм, на сей раз навсегда.
Послушать его, так казалось, что он рыцарь кинематографии: восседает в помпезном ресторане, жует турнедо Россини [29]29
Блюдо из филе говядины.
[Закрыть]и зондирует взглядом соседние столики, высматривая женщин помоложе.
Он говорил, сколько ему пришлось настаивать, упрашивать, подстраивать всякие совпадения, чтобы Марко наконец забыл Мизию и заинтересовался новой главной героиней, француженкой, но как в итоге все вышло замечательно, настолько, что в середине съемок у них начался роман, а после монтажа они уехали к ней в Париж, где, между прочим, фильмы Марко ценят гораздо больше, чем в Италии.
– Подумать только, – говорил он, – сначала такая трагедия была, что надо менять актрису. А вышло – так пальчики оближешь, куда ни кинь. И французский рынок перед нами открылся, и Марко вылез из своих гребаных наваждений. А французский рынок – это сила, нашему сто очков вперед даст. Теперь все проекты, что у нас в портфеле – только совместное производство. Я тоже себе дом в Париже подыскиваю.
Я спросил, нет ли каких-нибудь новостей о Мизии, и он рассказал, что пару месяцев назад встретил ее в Апуанских Альпах, в доме одного художника, где, кроме нее, жила еще тьма народу. Он туда приехал в поисках места для рекламы и знать не знал, что Мизия где-то рядом. Он описал общую атмосферу дома, но у меня пропало всякое желание его слушать, я больше не мог видеть его хитро подмигивающие, масляно блестящие глазки.
– Но она была в порядке? – спросил я.
– А я знаю? – ответил Сеттимио. – Ты бы видел, какой там дурдом. Сборище полоумных оборванцев, мать твою. По ней, так в самый раз. Мизия там самая придурочная, с этим своим пузом, вся в лохмотьях, такие бы даже батрак-южанин, подыхающий с голоду, не надел. Какие-то штаны, драные на коленках, черт-те что.
– С каким пузом? – У меня бешено забилось сердце.
– С каким, с каким, беременна она, вот с каким, – сказал Сеттимио, показав обеими руками большой живот. – Откопала себе где-то какого-то гребаного немца-хиппи, от него и залетела. Такой, знаешь, из новых бедных: ближе к природе, все дела, и грязные как свиньи. Живут у богатенького художника из Цюриха, он их приютил и строит из себя жертву, но, в общем-то, рад обзавестись эдакой свитой.
– Но она, она как? – В горле у меня стоял ком, я залпом выпил полстакана минеральной воды. – Изменилась? Она тебе показалась странной?
– Я почем знаю? – отозвался Сеттимио, продолжая с той же скоростью орудовать вилкой. – Они все стояли и молча пялились на меня, как воды в рот набрали. Я там и десяти минут не был, она меня выгнала на хрен. Я только увидел, что внутри там все засрано, они все перемазали своими каракулями и пачкотней, и тут Мизия мне заявляет: «Нам с тобой больше не о чем разговаривать, Сеттимио». И с таким видом,прямо гребаный проповедник, изгоняющий торговцев из храма. Кошма-ар. Пока она при Марко была, так еще держалась, а теперь совсем с цепи сорвалась. Марко – тот крепкий орешек, ты не представляешь, как он ее все время пытался привести в чувство и заставить думать головой. Но только он отпустил поводья, как ее понесло. Такую карьеру загубила. Сколько актрис руку бы себе отрубили, только чтобы оказаться на ее месте, а ей хоть бы хны. Ну так ей же хуже. Знать ее больше не хочу, эту синьору Мистрани. Хватит с меня.
– Я тебя тоже больше знать не хочу, – сказал я, уже сорвав с колен салфетку и встав из-за стола.
– Ты чего творишь? – произнес Сеттимио с набитым ртом, глядя на меня снизу вверх. И так и остался сидеть, провожая меня удивленным взглядом, с непонимающей улыбкой на губах.
А на улице снова была осень, привычно накрывшая городской пейзаж своим беспощадным покрывалом. Я думал о беременной Мизии в Апуанах, одетой в рванье; и о Марко, потерявшем ее, зато оставшемся при своем итало-французском фильме, который все еще шел в кинотеатрах.
Вечером я зашел в гости к бабушке и сказал, что мне больше незачем оставаться в Милане, что я хочу найти место, где хоть чуточку больше света и красок: там я смогу рисовать.
Часть третья
1
Почти половину восьмидесятых годов я провел на Менорке, только этот остров мне и нравился из всех островов Балеарского архипелага. Меня привела туда череда переездов и случайных встреч: из Лигурии я добрался по побережью до Барселоны, где познакомился с девушкой по имени Флор – худощавой шатенкой, довольно жизнерадостной, хотя голос у нее и звучал всегда слегка жалобно. Мы сблизились за вторую из тех двух бессонных ночей, что гуляли по улицам, заходя в бары, гостиницы, ресторанчики; потом она сказала мне, что устала от этого города и хочет перебраться к брату, который открыл с двумя товарищами бар в Маоне. Мы сели на корабль до Менорки: несколько недель разносили аперитивы, мыли стаканы и поздно ночью пили белое вино и в конце концов, решив, что и эта жизнь для нас недостаточно простая и естественная, подыскали себе крестьянский белый домик в глубине острова.
Мою квартиру-пенал снял один флейтист; мы жили на деньги, которые он платил, и на деньги за картины, когда удавалось что-то продать, к тому же Флор вязала свитера из грубой шерсти и время от времени их покупали какие-нибудь туристы. Наша жизнь не требовала особых расходов: мяса мы не ели, а кабачки, свеклу, салат-латук, картошку, морковь, лук, помидоры, перец, фасоль, горох, шпинат и коноплю Флор выращивала в огородике на задворках дома, так что покупать приходилось лишь хлеб, вино, молоко и сыр, да иногда бензин. У нас появились друзья в окрестностях, они писали картины или стихи, или что-то выращивали; и вечером, если хотелось развеяться, мы шли к кому-нибудь в гости и вели беседы, курили, выпивали, пели песни, делились воспоминаниями о поездках и рассуждали о том, что происходит в мире, пока не начинали клевать носом. А на случай, если вдруг захочется серьезной встряски, оставался бар, который брат Флор держал в Маоне.
Я работал гораздо лучше, чем в Милане, в импровизированной студии или на пленэре, когда не было ветра и жгучего солнца: писал с чувством, будто раньше совсем не понимал, что такое свет и краски, и я никак не мог поверить, что у меня столько места и можно рассматривать холсты, отойдя на какое-то расстояние. Пока я работал, Флор возилась в огороде; время от времени она приносила мне отвар из крапивы, косяк с травкой, которую она сама и вырастила, или спиртовую настойку цветков одуванчика. Иногда она хвалила какую-нибудь картину, но особой ценности они для нее не представляли; иногда она сама что-то рисовала в как-бы-сюрреалистском стиле, не бог весть что, но и художником она себя не считала, а живописью занималась просто для удовольствия.
Так мы и жили жизнью семидесятых в разгар восьмидесятых: мы не стремились разбогатеть или сделать карьеру, отлично обходились без газет и фильмов и не испытывали интереса к тому, что там в мире происходит. Мне было хорошо с Флор, хоть иногда я смотрел на нее и вдруг ясно понимал, что она человек не слишком любознательный, скорее апатичный, без чувства юмора и без особых претензий, так что с ней у меня не будет стимула расти над собой. Но от этих коротких вспышек озарения мне становилось грустно или страшно, так что я поскорее забывал о них, а все остальное время жил в закольцованном ритме всего того, чем мы занимались, словно на успокаивающей волне непрерывно звучащей басовой ноты. Говорили мы мало, но по сути нам и нечего было обсуждать – или же мне так казалось.
Эта была уютная, размеренная жизнь, без сюрпризов, без ощущения, что чего-то не хватает, без особых запросов; мы наслаждались тем, что имели, как наслаждается теплом ящерица, сидя на нагретой солнцем стене.
В Милан, к маме и бабушке, я ездил лишь на Рождество, и каждый раз вез с собой десяток картин, привязав их к багажнику на крыше моего «пятисотого», – для галериста, который мало на что надеясь и без особого энтузиазма занимался мной, когда было настроение. В первую минуту мне всякий раз казалось, что я наконец-то дома и что я по нему скучал, но уже через несколько часов становилось ясно, что я не вообще скучал, а лишь по отдельным мгновеньям той жизни и по отдельным людям, и только по ним. А поскольку этих людей – всего-то двоих – все равно не было в Милане, то моя ностальгия оказывалась иллюзией, и от этого я еще сильнее чувствовал себя чужаком в родном городе и опять хотел как можно быстрее сбежать на Менорку.
Вернувшись на Менорку, я словно опускал плотную штору: мне и знать не хотелось, что творилось дома, кроме того, разумеется, что касалось напрямую бабушки и мамы. Италия тех лет была для меня воплощением вульгарности, жадности, развязности: не страна – двуличный идиот-паяц, который вместо того, чтобы пытаться стать лучше, только и делает, что проявляет свои самые дурные и низменные наклонности. Я перестал разговаривать по-итальянски, как бы и внутренне отстранился: испанский давался мне легко, наверно, потому что я от природы был склонен к чрезмерно экспрессивному общению, как говорил Марко.
В ноябре я написал Мизии на адрес ее матери и Марко на его старый адрес в Милане. На самом деле я не очень-то надеялся, что они получат мои письма, и еще меньше – что они мне ответят; с моей стороны это было почти формальное проявление преданности и дружбы, я ничего не ждал в ответ.
2
Сен-Годмар, 25 февраля.
Дорогой Ливио-Ливио,
я так долго, прямо-таки несколько лет,собиралась тебе написать, и твое письмо, с тех пор, как я его получила, лежало у меня на столе, а потом на прикроватной тумбочке – своеобразный укор легкомысленному отношению к дружбе; не знаю, сколько раз я его перечитывала, но всякий раз, когда собиралась тебе написать, появлялись неотложные дела, а может, дела были только предлогом, и я просто не знала, с чего начать, или ждала, чтобы закончился какой-то период моей жизни и можно было бы тебе о нем подробно рассказать, после стольких-то лет, но такие вот периоды длятся бесконечно, так что лучше с этим покончить и скорее написать тебе.
Мне так непросто вспоминать нашу последнюю встречу: и в каком мы были настроении, и чем занимались, и что тогда со мной происходило, вообще та часть моей жизни так далека от меня, словно незнакомая планета, которая вертится вокруг своей оси где-то на краю Вселенной. Мне даже не верится, что все это было со мной, а когда я понимаю, что да, со мной, то мне хочется смеяться или плакать, а иногда просто все равно, что, наверно, грустно или, наверно, правильно, тут уж как посмотреть. (А мои приступы паники, словно дело касается законов мироздания и того, что им противостоит, возможно, так оно и было, но я в тот момент напоминала хрустальную вазу, которая может расколоться от любого прикосновения, ты ведь помнишь, Ливио? Так или иначе, самое мое прекрасное воспоминание о первом фильме Марко – как мы веселились, фантазировали, импровизировали, и все это получалось само собой, без усилий с нашей стороны, а на съемках в Лукке все оказалось на редкость утомительным, рутинным, жестко по регламенту, мы не переставая ругались с этими ужасными людьми, которые думали только о том, как сделать на нас деньги, а на все остальное им было наплевать. И наши с Марко отношения теперь мне кажутся нелепыми: мы жили с убеждением, что оба – такие необыкновенные, творческие и так важны друг для друга, и что главная наша задача – отвечать взаимным ожиданиям, вот только чем сильнее мы старались, тем хуже выходило, мы только все больше разочаровывались и злились. Мне ведь так надо было на кого-нибудь опереться после Цюриха и героина, и Марко, взяв на себя роль спасателя, действительно меня спас, но долго оставаться в этой роли не мог: он всегда казался таким надежным и неуязвимым, но по сути это только видимость, ему потерять равновесие даже проще, чем тебе или мне. Сейчас мне кажется, что мы с ним были как заигравшиеся истеричные дети, но тогда мы принимали все это за настоящую жизнь, может, так и было, но не могло продолжаться вечно.
Хватит плакаться, словно мы два ностальгирующих старичка, у которых ничего не осталось, кроме воспоминаний; поговорим о настоящем.Разве не забавно, что ты живешь на лоне природы у себя на Менорке, а я – здесь, тоже на лоне природы, хотя мы годами ничего друг о друге не слышали и каждый шел своей дорогой? Разве не забавно, что мы делаем почти одно и то же, как близнецы, которых разлучили при рождении и поместили в разные семьи в разных странах, а потом они встретились лет в тридцать и обнаружили, что жены у них похожи, работа – тоже, и даже машины одинакового цвета? Так приятно думать, что мы с тобой похожи, и расстояние тут не помеха; мы с тобой и представить себе не могли, что все так сложится, именно потому, что в ту пору нам обязательно надо было все себе наперед представлять.
Здесь кругом холмы, скорее даже горы, нас тут семеро, и живем мы совсем не так, как в коммуне под Пьетрасанта, жизнь очень трудная, зато все какое-то настоящее, естественное, и то уже хорошо, что мы не в Италии, как ты пишешь в своем письме. Здесь мало что растет, большую часть года эти места кажутся не слишком пригодной для жизни планетой, Верхний Прованс не сравнить с теплым, ласкающим глаз побережьем или с тем, что у вас: море, теплый климат, щедрый огород и остальные чудеса, о которых ты рассказываешь. Мы же все время колем дрова, топим камины и печи, подливаем масло в лампы и ходим к роднику за водой, у нас нет насоса и нет электричества, и никаких двигателей или механических устройств, из принципа, а еще потому, что ни у кого из нас нет нормального источника дохода, да мы и не хотим его иметь, а просто продаем иногда в ближайшей деревушке сыры, свитера и шали из козьей шерсти и покупаем то, что не можем сами изготовить. Наверно, по тому, как я описываю, может показаться, что я живу в экстремальных условиях и постоянно борюсь за существование, не без того, конечно, но поверь, есть в этом что-то удивительное и чистое, просто диву даешься, что можно обходиться почти без всего, я раньше и представить себе такого не могла, хотя никогда и не стремилась к особым излишествам. Трудно поверить, что кто-то может быть свободнее, чем мы сейчас, несмотря на все наши заботы, холод и тяжкий труд, зато мы никому ничего не должны и нам ничего не нужно, мы не живем сплошными ожиданиями и разочарованиями, как остальные люди, и так приятно знать, что ты точно так же обо всем думаешь, хотя живешь в мягком климате и пейзаж у вас живописный.
Ты, наверное, не знаешь, что у нас ребенок и что зовут его Ливио – как тебя; мне, конечно же, следовало сразу тебе написать, как он родился, но я только что объяснила, что у меня получилось с письмами, в общем, говорю сейчас. Ему три года, он очень нас веселит и, разумеется, требует постоянного внимания, но тут еще двое детей примерно того же возраста, и они развиваются так естественно, так просто; думаю, только ребенок может сделать твою жизнь столь полноценной, все остальное становится малоинтересным, малозначимым.
Я так рада, что у тебя все хорошо с Флор, хотелось бы когда-нибудь с ней познакомиться, она, наверное, необыкновенный человек, и я вообще рада, что у тебя все хорошо. Как видишь, и у меня все хорошо. Ты пишешь о ностальгии, конечно, мне тоже очень жаль, что мы не видимся, хотя, думаю, такой крепкой дружбе, как наша, и не страшна разлука (тут даже переписка не так уж важна), но вообще-то у меня нет никакой такой ностальгии, разве что вспоминаю, как нам хорошо всем было, когда Марко снимал свой первый фильм, или когда мы устроили выставку во дворе твоего дома. В общем, ностальгия моя довольно странная, ведь если задуматься, тогда нам не казалось, что все так потрясающе, только теперь, оглядываясь назад, понимаешь, какой замечательной жизнью мы жили, и сожалеешь, что это в прошлом. Но как раз привычка оглядываться назад, все переосмысливая, не нравится мне в людях, ностальгирующих по прошлому (я не имею в виду тебя!). Мне всегда казалось, что в ностальгии есть элемент предательства: точно так же, если что-то случается, тебе говорят: «А ведь я предупреждал» или: «Я так и знал», но это всегда неправда, никто тебя не предупреждал, никто не знал, что произойдет.
Я прощаюсь, потому что кончилась бумага, больше в доме нет ни листочка, но обещаю тебе, что куплю еще бумаги и напишу тебе, не стану откладывать еще на несколько лет.
Надеюсь, у тебя и дальше все будет очень хорошо, целую тебя крепко-крепко, думаю о тебе; сейчас мне кажется, что мы с тобой совсем рядом.
Привет
Мизия
В конверте:
Фотография Мизии с ребенком, у которого ее рот и брови, но глаза совсем другие. Оба улыбаются, не думая о том, как выглядят, не смущаясь того, кто их снимает. (К вопросу о том, что когда-то Мизия не любила сниматься.) Длинные волосы Мизии собраны в хвост, она немного поправилась и округлилась, если сравнивать с тем, какой была в Лукке. На щеках – яркий румянец, из-за того, что она все время на свежем воздухе и занимается физической работой; у сына тоже румянец. Мать и сын: в свитерах и стеганых холщовых куртках. Мать и сын: в сапогах, как у русских крестьян, на сапогах грязь. У ног мальчика сидит пятнистая собачонка.
Слева от них, в каменной стене дома, окно с облупившейся голубой рамой.
На заднем плане унылый пейзаж: склоны землистых и каменистых холмов, спускающиеся острыми выступами.
Пейзаж как будто передает особую, сосредоточенную тишину, как и выражение лиц Мизии и ребенка: невысказанные мысли, особый, сдержанный тон.
(К вопросу о том, что пишет Мизия о ностальгии.)








