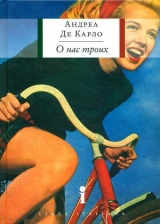
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
6
Марко все больше увлекала затея с фильмом, этот фильм превратился для него в навязчивую идею, больше он и думать ни о чем не мог. Он написал сценарий, используя записи в тетради на спирали и все, что мы успели наговорить, гуляя по городу; одолжил у приятельницы старую печатную машинку и печатал страницу за страницей каждый день. Он приходил ко мне домой, приносил уже изрядно помятые листы с убористым текстом и, пока я читал, ходил от двери до окна и обратно, рождая все новые и новые идеи; иногда вдруг вырывал сценарий у меня из рук, говоря: «Подожди, подожди», – и лихорадочно что-то зачеркивал, переставлял, добавлял.
Я все меньше участвовал в создании фильма, хотя Марко и продолжал советоваться со мной, спрашивать мое мнение, требовать новых идей, и я помогал, чем мог, но мне все труднее было уследить за игрой его воображения, его заносило то туда, то сюда, и я уже плохо себе представлял, каким он видит свой будущий фильм. Он же никак не мог обойтись без моего участия, вовлекал меня в работу, требовал советов, подсказок; внимательно смотрел на меня, пытаясь понять, что я на самом деле думаю, помогаю ли ему только ради нашей дружбы или тоже увлечен его замыслом. Я был увлечен, пусть и не до конца понимал, что Марко все же хочет сказать своим фильмом; от мыслей о Мизии меня всего лихорадило, и я готов был делать что угодно, лишь бы снова не впасть в апатию, не вернуться в то состояние, в котором пребывал до знакомства с ней.
Мы с Марко начали ходить по городу в поисках мест, подходящих для съемок, – как натуры, так и интерьеров, – хотя сценарий еще не был закончен, и ни он, ни я не очень хорошо себе представляли, каким он должен получиться. Мы проскальзывали в подъезды, разглядывали лестницы и внутренние дворики, воевали с консьержками, выскакивали прямо на проезжую часть, чтобы рассмотреть угол дома или фасад здания. Всматривались в людей на улице, замечали тех, кто казался нам похожим на одного из героев или наталкивал на мысль, как доработать образ. Иногда мы даже шли следом за кем-то, чтобы сравнить свои впечатления; в конце концов человек это обнаруживал и резко оборачивался, поняв, что за ним следят. Марко как ни в чем не бывало говорил: «Мы ищем актеров для фильма», – но никто не приходил от этого в восторг, возможно потому, что мы оба мало походили на киношников. Когда с внешностью персонажей мы более или менее определились, мы стали разыскивать бывших одноклассников, однокурсников, друзей и подруг, бывших девушек, – всех подряд, кто казался нам подходящим для той или иной роли. Мы обзванивали их из моего дома, держа перед собой напечатанные Марко списки персонажей и возможных исполнителей, и помечали имена крестиками или вопросительными знаками.
Между тем мы понятия не имели, где достать камеру, осветительные приборы, пленку и все остальное, без чего фильм, даже любительский, никак не снять. Когда я заговаривал об этом, Марко уходил от ответа: «Там будет видно, Ливио», – и я чувствовал себя настоящим занудой. Но, несмотря на все старания, не думать об этом я не мог, потому что слишком хорошо представлял себе, что рано или поздно мы столкнемся с практическими проблемами и с разбегу расшибем себе лбы об эту стену – еще живы были воспоминания о том нашем походе без спальных мешков и одеял. Как-то я в очередной раз пристал к Марко с этими вопросами, и он сказал:
– Слушай, если нет другого выхода, то мы просто возьмем и всё украдем.
– То есть как украдем? – поразился я, одновременно возмутившись и растерявшись, и тут же представил себе, как нас хватает полиция и бросает в тюрьму.
– Да, возьмем и украдем, – повторил Марко, хотя вряд ли он сам смог бы объяснить мне, где и как мы это сделаем. Впрочем, такое поведение было вполне в духе времени: такие книги мы читали, такую музыку слушали, такие смотрели фильмы, такое настроение витало в воздухе, и мы вполне могли объявить себя преступниками, хоть на поверку выходило, что мы самые что ни на есть безобидные люди на свете.
В итоге оборудование для фильма мы с Марко действительно украли, пусть и не принимая в этом личного участия. Как-то в субботу вечером я шел по проспекту возле своего дома, погруженный в мысли о Мизии, которая не смогла приехать в Милан из-за работы, и встретил Сеттимио Арки – мы познакомились три года назад, во время путешествия по Умбрии. Он был невысокого роста, худой, длинноволосый, с острой бородкой и совершенно неугомонный от избытка внутренней энергии. Взглядом и повадками он напоминал дикого зверька, юркого, неказистого, но невероятно живучего. Сеттимио то и дело ездил в Марокко и на Восток, уже много лет он возил оттуда гашиш, пряча его в деревянных статуэтках и столиках, и сбывал в Милане. Его жизнь не ограничивалась наркоторговлей, хотя она и была основным источником его доходов: он мог вдруг поддаться благородному порыву, настоящей его страстью была рок-музыка; его квартира на западной окраине города была почти полностью завалена чрезвычайно редкими пластинками. С ним было непросто, он страдал чем-то вроде мифомании, и понять, когда он говорит правду, а когда выдумывает, было просто невозможно, сомнения оставались всегда. Например, как-то раз я ехал на велосипеде, и меня догнал Сеттимио на здоровенном японском мотоцикле с очень низкой посадкой, спросил: «Как он тебе?», сказал: «Представляешь, сто лошадиных сил. Только что купил», – продемонстрировал, как ревет работающий вхолостую двигатель; когда мы встретились в следующий раз, Сеттимио сообщил мне, что мотоцикл у него украли, но при этом у него был столь равнодушный вид, что я невольно засомневался, покупал ли он вообще когда-нибудь мотоцикл или просто одолжил у кого-то прокатиться.
В другой раз я встретил Сеттимио в самом что ни на есть плачевном состоянии, и он сказал, что у него умерла мать, выслушал от меня слова соболезнования и утешения, а через несколько дней я совершенно случайно увидел его вместе с матерью выходящими из супермаркета и увешанными пакетами с покупками. Случалось и по-другому, его рассказы я сразу воспринимал как чистое вранье, а потом обнаруживал, что он говорил правду, разобраться сразу было просто невозможно, он себя ничем не выдавал.
Когда мы столкнулись возле моего дома, Сеттимио радостно бросился ко мне и потащил в ближайший бар пропустить по стаканчику. Чтобы не слушать его байки, я постарался побольше рассказать ему сам: о фильме, который мы с Марко собирались снимать, о том, что у нас нет ни камеры, ни пленки, ни денег, чтобы их купить или взять напрокат. Он слушал меня, потягивал коктейль с мартини, кивал, смотрел по сторонам и, наконец, заявил:
– Тоже мне, проблемы.
– То есть? – удивился я, и все думал, что мог бы порекомендовать его Марко на роль в фильме, хотя бы за его глаза, как у хищника-неудачника, который решил выживать любым способом.
– Тоже мне, проблемы, – повторил Сеттимио Арки. При этом он ни минуты не оставался в покое: колени ходили ходуном, тощее тело, плечи, голова – все дергалось, да и взгляд перехватить было невозможно – то ли он таким образом запутывал собеседника, то ли не мог справиться с постоянной внутренней тревогой. (Марко тоже не знал ни минуты покоя: ни дома, ни на улице, но впечатление он производил все же другое, словно постоянно искал что-то и не мог найти.)
– Что ты хочешь этим сказать? – снова спросил я, чувствуя, что слабею, впустую растрачивая слова, и еще мной овладело внезапное отчаяние при мысли, что Мизия осталась во Флоренции.
– Оборудование я тебе достану, – сказал Сеттимио Арки, не сводя глаз с попы девушки, которая надевала пальто, собираясь уйти. – Только дайте роль в фильме. Черт возьми, я же всегда мечтал стать актером! – Он прицелился в меня указательными пальцами обеих рук, будто из двух пистолетов, и засмеялся своим торопливым, судорожным смехом.
Через несколько часов я уже забыл об этой встрече и снова принялся обсуждать с Марко в самой абстрактной форме, что бы мы хотели сделать, открыть, показать нашим фильмом. Опять мы углубились во второстепенные детали, неумолимо приближаясь к основному препятствию – реальным проблемам.
Но Сеттимио Арки ничего не забыл: через пять дней после нашего разговора он позвонил в домофон моего дома:
– Ливио, выйди-ка на минуту, да поживее.
Раздраженный его командным тоном, я все же спустился вниз, Сеттимио усадил меня в видавший виды «фольксваген-жук» и кивнул на заднее сиденье: там лежали два мешка для мусора, а в них – коробки с цветной пленкой Kodak и старая шестнадцатимиллиметровая камера Beaulieu с дополнительными бобинами, солнцезащитными блендами и кучей всяких принадлежностей, а еще профессиональный магнитофон Nagra.
– Ну что? – сказал он, явно довольный собой; насмешливо посмотрел на меня. – Подходит? Подходит?
– Подходит, – ответил я. Мы затащили все ко мне в квартиру, и я сразу кинулся звонить Марко, но не стал ничего объяснять, сказал только: – Приезжай быстрее. У меня для тебя сюрприз.
Марко появился примерно через час: даже когда он говорил «Я мигом», его все равно что-то обязательно отвлекало. Со временем у него были особые отношения: он всегда и везде появлялся в самую последнюю минуту, да еще еле переводя дыхание, словно ему пришлось преодолевать немыслимые препятствия. Войдя в мою квартиру-пенал и увидев Сеттимио Арки, который буравил его своим звериным взглядом, он замер на месте: Марко не любил сюрпризы, да и с незнакомыми людьми всегда держался настороже, поэтому теперь он смотрел на меня, как на предателя, заманившего его в ловушку. Я их даже не познакомил: просто схватил Марко за руку и потащил к кровати, на которой мы с Сеттимио разложили камеру и все остальное.
– Взгляни-ка, – сказал я.
Марко застыл на месте с остановившимся взглядом и странным выражением лица, которое я не сразу смог себе объяснить: он был одновременно удивлен и растерян. Позднее я понял, что в тот момент он открылся мне с еще одной стороны: когда у него появилась реальная возможность осуществить то, что он так настойчиво представлял себе, он вдруг почувствовал себя припертым к стенке. То, о чем он только мечтал, вдруг навалилось на него, повисло грузом на плечах, столкнуло с реальностью – пути назад уже не было.
Но в этом подвешенном состоянии он находился всего несколько секунд и тут же просиял, смотрел и не верил, трогал руками то камеру, то магнитофон, то коробку с пленкой, хлопал меня по плечу, с силой сжимал руку Сеттимио, хлопал по плечу и его тоже и говорил: «На следующей неделе начинаем снимать фильм! Да нет, прямо сейчас, немедленно!»
После этого отношения Марко со временем и пространством изменились, в нем пробудилась энергия во сто крат целенаправленней и осмысленней. Теперь он просыпался не в десять утра, а в семь, приходил к моему дому и звонил в домофон, когда я еще спал глубоким сном, вытаскивал на улицу, и мы бродили по Милану, разыскивая подходящие для съемок места и людей, заводили полезные знакомства, составляли план работы. Свойственное ему волнение сузилось и локализовалось, стало более предметным и продуктивным.
7
Я постоянно думал о Мизии. Просыпался и сразу вспоминал о ней, работал с Марко над подготовкой к съемкам и тоже думал о ней. Я словно заболел ею с первой минуты, как увидел, болезнь прогрессировала после прогулки в парке, и с тех пор мое состояние еще усугубилось. Временами мне казалось, что я думаю совершенно о другом, а потом вдруг понимал, что все равно о ней. Что бы я ни делал, стоило прерваться на секунду – и сразу учащалось сердцебиение, а голову заполняли хаотичные видения, воспоминания о Мизии.
Я звонил ей две пятницы и две субботы подряд, но никто не отвечал: ни она, ни брат. Раздавались длинные гудки, пока связь не прерывалась; я звонил в разное время суток, но все без толку. Я ругал себя последними словами за то, что не спросил ее флорентийский номер. Чувствовал себя одиноким, брошенным среди всех наших дел, слов, телефонных звонков и беготни, связанной с фильмом Марко; из-за того, что я не мог увидеть Мизию, все, что я делал, тускнело и не приносило никакого удовольствия, теряло всякий смысл.
Наконец, на третью субботу она сама мне позвонила, и я услышал в трубке ее жизнерадостный и чуть застенчивый голос:
– Это Мизия Мистрани. Не забыл меня? Не хочешь повидаться?
Я тотчас перезвонил Марко предупредить, что не смогу ему сегодня помочь, он, на мое счастье, оказался занят – в поте лица дорабатывал сценарий – и потому почти не слушал меня; я выскочил из дома больше чем за час до встречи, просто не мог сидеть в четырех стенах и ждать.
Чтобы убить время, я колесил на велосипеде по окрестностям, и когда, наконец, добрался до улицы, где мы назначили свидание, Мизия уже пришла; она казалась пятном света на фоне свинцово-серого города, стояла, засунув руки в карманы своего необычного синего пальто, отвернувшись, избегая липких взглядов проходящих мимо мужчин. Я снова поразился тому, что она пришла специально ради меня, все вглядывался в нее, пока дистанция сокращалась, и чувствовал легкое головокружение.
Я слез с велосипеда и обнял ее, но сделал это так неуклюже, что велосипед грохнулся на землю, и колеса продолжали крутиться в воздухе. От волнения движения мои стали совсем беспорядочными, и, чтобы отвлечься, я стал искать взглядом велосипед Мизии.
Она развела руками в присущей ей шутливой манере, улыбнулась, но не слишком весело:
– Велосипед я оставила брату, и его украли.
– Вот сволочи, – возмутился я. Будто наяву, я видел, как она крутит педали: спина прямая, сама такая хрупкая, спокойная, ноль внимания на движение на улице; я был готов перевернуть вверх дном весь Милан, прочесать один двор за другим, только бы вернуть ей велосипед.
– Ничего страшного, – сказала она. – Я здесь редко бываю.
Я же мечтал, чтобы Мизия бывала здесь как можно чаще, хотя она и казалась мне слишком ослепительной для окружающего нас города, а то, что она пришла на наше свидание пешком, казалось мне просто преступлением.
– Возьми мой, я дарю его тебе, – сказал я. Мой голландский велосипед, который я купил три года назад, входил в число тех немногих предметов, которые я действительно любил; я подтолкнул его к ней.
Мизия попятилась, неожиданно залившись краской: – Ты с ума сошел? – Все эмоции сразу же отражались в ее глазах: зрачки расширялись, черная бездна на светло-голубом фоне.
– Дарю, – снова сказал я и снова почувствовал себя страшно неуклюжим.
– Не хочу, не нужен он мне, – смеясь, она ловко увернулась от руля велосипеда.
– Мне тоже, – сказал я. – Если ты его не заберешь, зачем он мне? Я тогда брошу его здесь.
– Бросай, – сказала она, глядя куда-то в сторону; на ее скулах все еще держался румянец. Люди, пройдя мимо, оборачивались, обволакивали нас маслянистыми взглядами.
Я прислонил свой голландский велосипед к стене и оставил его там, даже не повесив замок, как делал всегда.
Мизия предложила зайти в маленький музей в двух шагах отсюда и, не дожидаясь ответа, пошла вперед. Я уже понял, что с ней можно забыть о пустых разглагольствованиях, она устроена иначе: слова у нее не расходятся с делом. Сказано – сделано, и все тут; для меня, привыкшего бездумно молоть языком, это было внове. Я перепугался и заволновался, но как можно решительнее зашагал рядом с ней и даже ни разу не обернулся, не посмотрел, что там с моим велосипедом.
В музее, как и на улице, мы опять держались рядом, чуть ли не касаясь друг друга, и я ощущал это всем телом, у меня по коже даже пошли мурашки; я чувствовал каждый ее вздох, шуршание ткани. Каждое ее движение отзывалось во мне сладкой мукой: она обогнала меня, потом обернулась, посмотрела мне в глаза, дотронулась до плеча, чтобы привлечь мое внимание и что-то показать. Я вдыхал ее едва уловимый аромат, наслаждался тем, как она отступает на несколько шагов от картины, чтобы охватить ее взглядом, потом подходит вплотную, рассматривает какую-то деталь под разными углами.
Мизия терпеть не могла картины на религиозные сюжеты, я тоже ненавидел их с детства; ей казалось просто преступлением, что на протяжении нескольких веков художники были вынуждены подчиняться требованиям заказчиков и изображать Христа, святых, мадонн, мертвецов, кресты и не могли посвятить себя чему-то живому, веселому и близкому им. Все находило у нее самый искренний отклик, в том числе и работа, она все принимала близко к сердцу, была участлива и благожелательна. Она жила, думала, действовала, повинуясь чувствам и инстинкту; я ощущал это по тому, как она двигается, смотрит, как меняется ее голос.
Она указала на портрет пятнадцатого века с изображенным на нем женским профилем:
– Представь себе: он сосредоточился перед холстом. И она замерла и дышит еле слышно. И так час за часом, день за днем, даже, может, неделя за неделей. Они словно оцепенели. Может, они за это время даже полюбили друг друга, в этом сне наяву. А потом он закончил портрет и исчез, она встала и тоже исчезла, прошли века, и осталась только картина.
Мне очень хотелось сказать Мизии, что я, как тот художник, смотрю только на нее, внимательно и сосредоточенно, но произнес только: «Ты права», – чересчур громко. Смотритель, дремавший на стуле в углу, очнулся и шикнул на нас, прижав палец к губам:
– Тссс!
– Но почему? – спросила Мизия. – Мы же не на кладбище. И не в церкви. Почему перед картиной надо обязательно стоять и молчать?
Она говорила совсем не грубо, просто удивленно и с ноткой протеста – я уже знал эту ее интонацию; смотритель что-то проворчал себе под нос, но не нашел что ответить.
Когда мы вышли на улицу, велосипеда, конечно, и след простыл – чего и следовало ожидать; я сказал об этом Мизии самым безразличным тоном, словно пропажа меня совершенно не волновала. «Какая жалость», – она посмотрела на меня огорченно, но снова возвращаться к уже закрытой теме не собиралась; я вдруг испытал своего рода облегчение, мне было уже не так жаль потерянного велосипеда, и я больше гордился тем, что достойно играю свою роль.
Мы пошли прогуляться по Милану с тем же настроением, что ходили по музею. Мы указывали друг другу на лица прохожих, на их походку, одежду, ловили обрывки фраз, подмечали особенности поведения, жесты, взгляды. Когда-то я склонен был воспринимать все происходящее как свое личное дело, потом, благодаря Марко, научился смотреть на вещи по-другому, как сторонний наблюдатель; с Мизией делать это было веселее, чем с Марко: между нами будто пробегали электрические разряды, они вдохновляли меня и будили воображение. Даже Милан Мизия видела не в таких мрачных тонах, как Марко: конечно, он казался ей серым и гнетущим, неприспособленным для людей, но поскольку она лично не обязана была жить в этом городе, то видела в нем и что-то привлекательное.
– Этот город прячетсяза фасадами домов, во дворах, – говорила она. – Надо только постараться,чтобы отчаяние не поглотило тебя заживо. То же и с самими миланцами, разве нет? Посмотришь на них, и с души воротит, но ведь почти все они сами не рады, что живут здесь, маются и ругаются; впрочем, это уже хорошо, когда есть и такие, которые уверены, что живут в самом красивом и великом городе мира. Вот только никто ничего не делает, чтобы что-то изменить. То ли смирились, то ли просто во всем разуверились.
Мизия была снисходительней Марко, более оптимистично настроенной и гораздо активнее его: в восемнадцать лет она уже жила самостоятельно и работала в другом городе. Я шел с ней по центру Милана, не веря своему счастью, и мир вокруг наполнялся светом, красками, глубиной, и во мне просыпались новые, острые чувства, о существовании которых я даже не подозревал.
Наконец, нам обоим надоело бесцельно гулять по улицам, и на каком-то перекрестке она спросила, какие у меня планы. Планов у меня не было, даже никаких идей: я просто шел рядом с этой удивительно красивой девушкой, на которую все оборачивались, а она общалась со мной, как с самым близким и симпатичным ей человеком, и мне нравилось все, что она мне говорит, я во всем был с ней согласен. Я спросил у нее, не хочет ли она зайти ко мне и выпить чашку чая. «Отлично», – охотно согласилась она, изящная, порывистая, сильная, своевольная, будто светлогривая дикая лошадка.
Мой дом. Небольшой, всего три этажа, опоясанных общими галереями, внутренний дворик; штукатурка когда-то типичного для Милана желтого цвета, облупленная и почерневшая. Когда открываешь деревянную дверь, шум с улицы врывается во двор: сухой треск мотоциклов без глушителей, глухое рычание грузовиков долетают до противоположной стены и, отражаясь от нее, возвращаются обратно, а если закрыть дверь, они повисают в воздухе, словно крики диких животных.
Я поднимался по лестнице, показывая дорогу, – всего три коротких пролета – и через каждые три ступеньки оглядывался на Мизию, шедшую следом; с огромным трудом мне удавалось держать себя в руках, идти спокойно, сохранять нормальное выражение лица и скрывать свое изумление: я до сих пор не мог поверить в реальность происходящего. На узкой лестнице особенно хорошо были слышны мое сопение и легкое дыхание Мизии, которая с любопытством оглядывала стены.
Вот и моя квартира-пенал: деревянный пол, окно в глубине, вечно дрожащие полки на стенах – на проспекте очень оживленное движение, а когда проезжает трамвай или троллейбус, все ходит ходуном. Эту квартиру нашла мама, а она никогда при выборе жилья не обращала внимания на шум или освещение. Бабушка впервые зайдя ко мне, сразу ужаснулась: «Не квартира, а камера пыток! Здесь можно испытывать на прочность нервную систему!». Впрочем, бабушка с моей матерью вечно спорили; но тут и Марко считал, что в моей квартире жить невозможно. Я же в то время не обращал особого внимания на шум, а если не хватало света, просто выходил на улицу; так или иначе, я был доволен: ни у кого из моих сверстников, за исключением Мизии, не было собственного жилья.
Мизия смотрела по сторонам: мини-кухня возле входа, приготовленные на выброс пакеты с мусором, маленькое кресло из пятнистой телячьей кожи, которое мы однажды ночью обнаружили с Марко одиноко стоящим на тротуаре, кое-как застеленная большая кровать на колесиках, стол на козлах у окна, диски на полу, книги на шкафах, фотографии и плакаты на стенах, валяющиеся повсюду ботинки и другая одежда, сумка с грязным бельем, которое я собирался постирать в маминой стиральной машине. Я попытался представить, что она подумает обо мне, увидев все это, наверное, решит, что я несамостоятельный, занимаюсь неизвестно чем, иногда путешествую, что-то поймет и о характере моей матери и бабушки, настроенной критически и имеющей на меня влияние; а если прибавить к этому учебники, оставшиеся со школьных лет, случайные книги, поэтические сборники, газеты, комиксы, любимые пластинки, дипломную работу по Четвертому крестовому походу, еще я и курю (меня выдает чиллим темного дерева, привезенный из Индии) – получается обобщенный, размытый образ эдакого бывшего студента, сына и внука, порывистого и нерешительного. В общем, та еще картина; я ходил взад-вперед, рылся в ящиках и шкафах, пытался отвлечь Мизию и помешать ей составить обо мне окончательное мнение.
Я протягивал ей книги, диски, фотографии, болтал без умолку, торопливо перескакивая с одного на другое, и бестолково размахивал руками. Она осматривала все вокруг своим быстрым проницательным взглядом; слушала меня, все время в ожидании новой информации. Когда я показал ей мои рисунки тушью, она удивилась:
– Какие странные. Правда, очень странные.
– Это так, ничего особенного. – Я не мог понять, что ее удивило. – Рисую иногда, если есть свободная минута.
– Да у тебя талант, – воскликнула она, не отрывая взгляда от рисунков. – Рисуйкак можно больше. Ты просто обязан.
Я сказал ей, что никакой я не талант и не моя это профессия, я хочу снять вместе с Марко фильм, а потом заняться историей; но то, что она мне сказала, задело меня за живое, от волнения я даже вспотел. Я не мог поверить, что она действительно разглядела во мне что-то достойное внимания; не мог поверить, что нахожусь вместе с Мизией Мистрани у себя дома, где столько о ней думал с той самой ночи, когда мы познакомились. Больше всего мне хотелось вести себя непринужденно, но я не знал, как это сделать, если внутри меня происходило короткое замыкание, как только я смотрел на нее.
Я поставил кипятиться воду для чая в кастрюльке, покрытой известковым налетом, поискал одинаковые чашки, но не нашел, пришлось вымыть две разные. На кухне – хоть шаром покати: кусковой сахар, соль, пачка чая и пять плиток бабушкиных шоколадок с начинкой, которые и составляли основу моей совершенно не сбалансированной диеты.
Я включил песню «Let it bleed» [14]14
«Let it bleed»– Пусть льется кровь (англ.).
[Закрыть]группы Rolling Stones, принес на небольшом непальском подносе конфеты, чашки, полупустую бутылку вишневки. Мизия съела две или три шоколадки, она была голодна и не стеснялась в этом признаться: она всегда делала то, что чувствовала, это ведь так естественно. Она ходила по квартире и рассматривала ее с веселым любопытством, ходила своей обычной легкой, пружинистой походкой, решительно ступая по полу ногами в кроссовках. Я ловил каждое ее движение и словно видел сон наяву, ведь все последние недели я только и делал, что представлял ее себе в мечтах, и вот теперь она была рядом и все равно казалась нереальной, такой яркой, что слепило глаза.
– Садись, садись, – сказал я; сесть было в общем некуда, не считая кровати на колесиках, которая так и норовила куда-нибудь укатиться, двух на редкость неудобных плетеных стульев, большой картонной конструкции в виде упаковки из-под кока-колы, кресла из пятнистой телячьей кожи – его я и пододвинул прямо к столу, поближе к ней.
Мизия взглянула на кресло и рассмеялась; ее руки были перепачканы шоколадом – ее явно забавлял и я, и все, что она видела вокруг. Она села, села в моем доме, в мое маленькое пестрое кресло – мы наедине, кроме нас, здесь никого нет, и она пришла именно ко мне.
Мизия заговорила о том, как живет во Флоренции с еще одной девушкой и юношей – они вместе работают в реставрационной мастерской: о том, какой беспорядок в их квартире, как там холодно, о маленьком электрическом обогревателе, который бьет током, а если включить в квартире весь свет, вышибает пробки. Я слушал ее, и мне то казалось, что она рядом со мной и это чудо, то наоборот – я ей совсем чужой, и я начинал завидовать незнакомым мне соседям, посвященным в такие подробности ее жизни, о которых я даже подумать не смел, у меня все холодело внутри при мысли, как поздно мы встретились и сколько времени потеряли. Я бы хотел знать о ней все и ничего, я бы хотел, чтобы в тот вечер она возникла из ниоткуда, такая цельная, остроумная, сложная, непредсказуемая, нетерпеливая, внимательная, свободная. Слушая ее, я представлял себе все так же живо, словно видел собственными глазами, я одинаково внимательно слушал и смотрел; в горле стоял ком.
Я вспомнил о чае; вода из кастрюльки наполовину выкипела, остаток я вылил в выщербленный заварочный чайник и отнес его вместе с не слишком чистыми чашками на стол у окна. Мизия замолчала и наблюдала за мной, а я едва не споткнулся, встретив ее выжидательный взгляд. Мелодия Rolling Stones казалась мне слишком примитивной и навязчивой для нее; я уменьшил звук и тут же испугался, словно окунулся в пустоту, опять прибавил громкость. Вернулся к столу, заглянул под крышку чайника и сказал:
– Боюсь, заваривать чай я не очень-то умею.
Насчет красоты собственного голоса я тоже не обольщался: самому противно было его слышать; да и мои движения, слишком размашистые и резкие, меня раздражали. Я стал наливать чай в чашку и половину пролил мимо, да еще ошпарил себе руку.
– Чертова асимметрия, – я еле сдержался, чтобы не швырнуть кастрюлю в мусорное ведро.
– Ты представляешь, сколько бы потерял, будь ты совершенно симметричным? – смеясь, спросила она.
Я посмотрел на нее из полусогнутого положения, повернув голову под таким углом, что заломило шею; она говорила совершенно искренне и не пыталась меня утешить, и я заражался от нее этой свободой.
– Я тоже асимметричная, – сказала Мизия. – У меня одна половина лица смеется, а другая плачет. – Сидя в кресле и чуть подавшись вперед, она ребром ладони провела линию от лба к подбородку: – Видишь?
– Да, кажется, есть немного, – сказал я, чувствуя, как скольжу по наклонной плоскости.
– А еще у меня левая подмышка потеет гораздо сильнее правой, – сообщила она.
– И у меня, – это казалось мне невероятным совпадением, и вместе с тем вполне в порядке вещей.
Мизия подняла руки, словно собиралась понюхать свои подмышки: на меня повеяло теплом ее тела, мелькнула упругая белоснежная кожа под серым шерстяным свитером, который облегал стройную, ладную фигуру.
И тут я бросился к ней – невольно, не раздумывая. Только что стоял метрах в двух от Мизии, держа в руке налитую до половины чашку, а через секунду чашка уже упала на пол, и я прижимался лицом к ее волосам, шее, груди, тонул в ее тепле, мягкости, аромате. Я действовал чисто импульсивно, и сразу головой в омут; так человек смотрит из окна на улицу, облокотившись на подоконник, и если и думает о том, чтобы прыгнуть вниз, путь ему преграждает прозрачное стекло, но вдруг через мгновение он, сам не понимая как, оказывается за окном, летит вниз, и пути обратно уже нет.
Кажется, я пытался ее поцеловать или, по крайней мере, сжать в объятиях: я стремился прикоснуться к ней и поражался сам себе, инстинкт и новые, непередаваемые ощущения, мучительные сомнения и ее глаза, такие близкие, отчаянная тяжесть и отчаянная легкость, путающиеся мысли, полный сумбур в голове. Я тонул в своих ощущениях: торопился, вырывался, нырял с головой, выныривал.
Я почувствовал, как напряглась Мизия, и снова на меня навалились мучительные сомнения; тяжело дыша, она высвободилась из моих рук, отступила назад. Я вдруг вновь обрел зрение, слух, чувство пространства, как будто в темной комнате внезапно зажегся свет.
Я смотрел на Мизию, и расстояние между нами увеличивалось с головокружительной скоростью: ее глаза с расширенными зрачками, губы, всего миг назад касавшиеся моих, побледневшее лицо. На нем появилось какое-то странное выражение, и я не сразу понял, что оно означает: явное огорчение и разочарование, и меня прямо отбросило назад, назад, назад, я врезался спиной в стол на козлах, опрокинул его, чашки, бумаги, кусочки сахара, книги, коробки, пузырьки с тушью, монеты, ручки, заварочный чайник, детали телефона разбросало в разные стороны, как после взрыва, а я плюхнулся на пол и ударился головой об стену.








