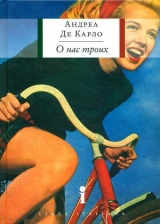
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
14
Как-то вечером Мизия накрасилась и нарядилась в своем новом эксцентрическом стиле, заключавшемся в смешении стилей, цветов, материалов, и зашла в гостиную, где я работал.
– Я иду на ужин, – сказала она.
– С кем? – спросил я, разглядывая синие капельки стеклянных сережек и бирюзовый ток, который она крепила к волосам.
– Не твое дело, – поколебавшись, ответила Мизия, словно отцу, или матери, или несуществующему старшему брату.
– А что, если все-таки и мое? – сказал я, уже весь потный и, наверно, покраснев. – Хотя бы немного, а? Или я тут вроде слуги, которому в последнюю минуту сообщают, готовить ли синьоре ужин?
Она пожала плечами – одна из ее быстрых защитных реакций.
– Тебя хоть раз кто-нибудь о чем-то просил?
Я чуть было не выпалил, что да, кое о чем она меня просила, когда в отчаянии приехала в дом моей матери, в Милане, но осекся: меня поразила мысль, что я целиком вжился в роль хранителя семейного очага, который оберегает всеобщий покой и цепляется за размеренный быт, лишь бы не замечать всего остального.
Зазвонил домофон, Мизия поцеловала хныкавшего маленького Ливио, подхватила свое черное кашемировое пальто из секонд-хенда и ушла: «я-с-тобой-не-дружу» было написано у нее на лице. Я стал размораживать под струей горячей воды упаковку рыбных палочек, размышляя, когда мне уехать, и куда, и что будет с маленькой семьей Мистрани.
Но уже к одиннадцати Мизия была дома; прошмыгнула мимо гостиной, где я работал как безумный, и заперлась в ванной. Вышла она оттуда в каком-то бестолковом возбуждении, словно маленькая девочка, которая получила подарок и ждет еще, и не может разобраться в переполняющих ее чувствах. Она ходила взад-вперед по коридору; пришла взглянуть на мою картину и сказала «здорово», выглянула зачем-то на улицу, сняла с проигрывателя, не спросив меня, пластинку Rolling Stones и поставила пластинку Pink Floyd, почти сразу же сняла и ее, опять поставила Rolling Stones и, сделав погромче, стала не в такт подпевать «You Can’t Always Get What You Want». [41]41
Ты не можешь всегда получать то, что хочешь (англ.).
[Закрыть]
– Ну и как ужин? – спросил я, стараясь говорить бесцветным голосом: мне, мол, все равно.
– Хорошо. Очень-очень хорошо, – сказала она, засмеялась, потом сделала несколько пируэтов посреди комнаты.
– Почему ты не сказал, что мне оставили пакетик? – спросила она.
– Э нет, я сказал, – ответил я, чувствуя, как закипает у меня кровь. – Лежит в прихожей, вместе с почтой. Что-то ты не очень вроде интересовалась, скажи спасибо, что я ничего не выбросил.
Она уже перебирала десятки нераспечатанных писем в прихожей; вернулась с пакетиком, который оставил Томас Энгельгардт, и попыталась открыть его непослушными пальцами.
– Так это с ним ты ужинала? – спросил я, все еще пытаясь выплеснуть свое внутреннее напряжение на холст.
– Ага, – произнесла Мизия. Она открыла пакет, и как я ни старался не смотреть, но все равно увидел, что там: выпуклая коробочка и записка. Записку она тут же уронила и уставилась на нее, но поднимать не стала, так что поднял я; там было написано: «Прими этот маленький подарок в знак восхищения твоей красотой, изяществом, умом. Томас».
Я протянул записку Мизии; она прочла ее и улыбнулась, продолжая крутить в руках обтянутую красным бархатом коробочку.
– И что за маленький подарок? – спросил я.
Она открыла коробочку, отступив на несколько шагов, словно боялась, что я отберу ее и выкину вон: внутри лежала брошка в виде бабочки, вся усыпанная алмазами и рубинами. Мизия поднесла брошку к глазам и стала рассматривать со странным, смешанным чувством удовольствия и растерянности, которые только усиливались от ее внутреннего дисбаланса.
– Прелесть какая, да? – сказала она не то утвердительно, не то вопросительно.
– Не то слово, – произнес я, каменея от враждебности, копившейся во мне с той самой минуты, как я увидел Томаса Энгельгардта. – Скромный такой подарочек, а? Нет бы сразу прислать тебе пачку банкнот, правда?
– Брось, – сказала Мизия. – Вообще-то он очень чуткий. И даже романтичный. Не такой, каким кажется.
– Видел я его, – сказал я. :– С ним спокойно, да?
От одной только мысли, что она ужинала с ним, у меня сводило челюсти, я говорил со странным варварским акцентом и ничего не мог с собой поделать.
– Ты совсем его не знаешь, – сказала Мизия. – Ты понятия не имеешь, какой он. Увидел меня в одном фильме и сделал все, чтобы со мной познакомиться, а я и знать ничего не хотела, прогнала его, беднягу.
– Он играет в поло, да? – сказал я. – У него красивые мощные руки, он заказывает все самое лучшее в ресторане и все делает безукоризненно.
Я так злился на себя, что не выкинул сразу подарок Томаса, не придумал, как его отвадить, чтобы больше не появлялся.
– И, кстати, он очень много работает, – сказала Мизия, сжимая брошку с алмазами и рубинами. – Все время летает в Аргентину по делам своей фирмы, а в Париже сидит на работе до девяти, до десяти часов вечера. В поло он и правда играл, это их национальный спорт, а потом получил тяжелую травму и бросил. Он свалился с лошади, переломал себе все тазовые кости и раздробил полбедра, потом несколько лет заново учился ходить.
– Извини, не знал, – сказал я, пытаясь вспомнить, хромал ли он в тот раз, но нет: он стоял на пороге, закрыв проем своими широкими плечами, – правда, стоял как-то уж слишком неподвижно.
– Томас хорошо разбирается в искусстве. У него два высших образования, он читает книги, любит живопись и стихи, – сказала Мизия.
– Черт возьми. – Ее обычный критический настрой и чувство юмора куда-то подевались, и я расстроился, а еще удивился, что с поло я попал в точку. – Прямо человек эпохи Возрождения, только работает в офисе. Потрясающе.
– Ты просто его невзлюбил, – с другого конца гостиной ответила Мизия, и глаза у нее засверкали.
– Ничего подобного, – ответил я, стараясь говорить как можно небрежнее, – вот еще.
– И вообще я не собираюсь за него замуж или что ты там подумал, – сказала она. – Просто поужинала с ним, черт побери.
– Конечно, – сказал я. – Если бы и собиралась – что тут плохого? Меня же это все равно не касается. Дело твое.
Но она уже завелась, совершенно внезапно, как всегда теперь, когда у нее менялось настроение.
– Ты что, думаешь, мне важна вся эта ерунда? Думаешь, меня можно купить за дурацкую бриллиантовую брошку? Да у меня ни одного настоящего украшения за всю жизнь не было! – сказала она, сжимая брошку-бабочку.
Не успел я и слова сказать, как она распахнула окно и вышвырнула брошку-бабочку: секундный взмах – и вот уже рука вернулась обратно.
А потом она расплакалась от ярости и смятения: вытирала слезы тыльной стороной руки, всхлипывала и тяжело дышала.
– Плевать мне на все. Мне все противно. Не гожусь я. Хочу только одного: умереть.
Она вышла из гостиной, а я в отчаянии поспешил за ней.
– Постой, Мизия, – крикнул я и попытался схватить ее за руку.
– Оставь меня в покое. Оставьте все меня в покое! – крикнула она, увернувшись, и направилась в ванную.
– Мизия, ради бога! Я не хотел тебя обидеть. Прости, прости, прости меня! – Мне стало страшно, и, проскользнув вперед, я попытался загородить ей дорогу. Я смотрел на ее заплаканные глаза и выставлял вперед ладони, как суеверный дикарь, который старается остановить стихийное бедствие, которое сам же, как ему кажется, и вызвал.
– Пожалуйста, успокойся.
– Дай пройти, – сказала Мизия, пытаясь оттолкнуть меня в сторону с силой, удивительной для нее, такой худой и такой расстроенной.
– Не пущу! – Я отчаянно сопротивлялся.
Она попыталась схватиться за ручку двери за моим локтем, поняла, что не получается, и набросилась на меня: царапалась, кусалась, отталкивала в сторону, била коленкой, пока не оттеснила и не шагнула через порог ванной. Я обхватил ее сзади, как дзюдоист, но она вырывалась и так душераздирающе кричала, совершенно безрассудно вкладывая в это все свои силы, что я не выдержал и разжал руки. Через секунду она уже стояла на цыпочках у высокого шкафчика над ванной и тянулась к металлической коробке с пакетиками порошка. Я попытался отнять коробку, но она уже совсем обезумела: в тусклом голубом свете разрисованной краской лампочки мы толкали, пинали, трясли друг друга, пока она не выкрикнула мне прямо в лицо: «Это мояжизнь! Не твое дело! Что хочу, то и делаю!»
Я резко отпустил ее и шагнул назад; кисти рук, запястья, предплечья болели, дышать нечем, перед глазами туман; все чувства расплылись и слились между собой, как яйца на сковородке. Я прислонился к стене, сполз на пол и прикрыл рукой глаза, чтобы не видеть, как Мизия орудует ложечкой, зажигалкой, шприцом и всем остальным; я слышал, как она напряженно дышит, чем-то постукивает, что-то нажимает, наконец, втягивает воздух и медленно выдыхает; я опустил руку и увидел в зеркале, как по ее лицу разлилась безмятежность лунатика.
Замедленными, аккуратными движениями она положила все обратно в металлическую коробку, а саму коробку в шкафчик и прошла мимо меня: казалось, что сила тяжести не так сильно воздействовала на нее. Мизия заново поставила пластинку Pink Floyd: по дому поплыли перегруженные, протяжные звуки электрической гитары, наложенные на звуки Хаммонда.
– Эй, Ливио, не переживай. Ты ни в чем не виноват, – сказала мне Мизия, вернувшись в ванную. Она улыбалась, но отчужденно.
Я спустился на улицу и в свете фонаря около получаса осматривал асфальт под окнами, но так и не нашел подаренную Томасом Энгельгардтом брошку с бриллиантами и рубинами наверно, ее подобрал какой-нибудь прохожий.
15
С тех пор, как Мизия вернулась из Колумбии, наша почти-семья – Мизия, маленький Ливио и я – жила странной жизнью, разобщенной и словно бездумной. Несмотря на постоянное внутреннее напряжение, проявлявшееся в любом жесте, со стороны иногда могло показаться, мы все трое спокойны и близки между собой. Но с таким же успехом мы могли бы устроить пикник на заминированном поле: в любую минуту и без какой-либо видимой причины у Мизии менялось выражение глаз – и менялось настроение, она начинала плакать или кричать, закрывалась в ванной или кружила по комнате и говорила, говорила без умолку обо всем сразу, уходила в свою комнату и сидела, не отзываясь, на кровати с потерянным видом или в разгар дня ложилась спать и спала часами. А телефон разрывался, разные люди звонили по поводу сорванных деловых встреч и невыполненных обязательств, мне в который раз приходилось отвечать, что ее нет и я знать не знаю, когда она вернется. Потом, допустим, мы все трое шли в магазин и казались такой хорошей семьей, что продавец овощей и булочница улыбались нам и говорили что-то приятное, а через десять минут, когда мы просто переходили улицу, нашему благополучию приходил конец: Мизия вдруг бросала нас, спасаясь бегством. Ливио заходился плачем, кричал и метался, словно взбесившийся козленок, так что приходилось крепко придерживать его за руку, чтобы он не попал под машину, а сам я думал: вот бы мне уехать, просто исчезнуть.
Самое удивительное – все равно я оставался с ними, и временами мне казалось, что мы живем почти нормальной жизнью, и все так же напряженно работал, когда выпадала минутка. Как-то раз, когда Мизия была в порядке, она попросила меня взять парочку картин, и мы поехали на такси, с маленьким Ливио, к ее знакомому галеристу; она представила меня ему с заразительным энтузиазмом и душевной теплотой, как в старые добрые времена, и в результате он сказал, что охотно посмотрит и другие мои работы и, возможно, что-то сделает для меня в обозримом будущем. Мы вышли от него страшно возбужденные, почти как тогда, в Милане перед выставкой во дворе: я держал маленького Ливио за одну руку, она – за другую, поневоле толкая прохожих на людном тротуаре, и Мизия все повторяла: «Ну что? Скажи, а?». Казалось, она каким-то чудом вновь обрела все то удивительное, что всегда в ней было, и лишь когда она отпустила руку сына на перекрестке, лицо ее резко стало далеким и прозрачным, так что я испугался.
А через полчаса она уже сидела, запершись на ключ, в своей комнате, и казалось, что колонки проигрывателя вот-вот лопнут от фортепьянной музыки Гайдна; мы как безумные колотились в дверь – Мизия не отвечала.
На следующий вечер, когда мы с маленьким Ливио готовили суп из кабачков и картофеля, к нам на кухню пришла Мизия, ступая, будто экзотическое животное, которому грозит вымирание.
– Меня пригласили на ужин, – сказала она, поцеловав сына и даже не взглянув на меня.
Сердце налилось свинцовой тяжестью, но не мог же я вести себя как маленький Ливио, который с криком «Нет, не уходи!» вцепился ей в ногу.
– Кто пригласил? Великий Энгельгардт, да? – сказал я, стараясь говорить со всей еще остававшейся у меня иронией.
Мизия кивнула.
– Теперь вы оба решили меня доставать, – сказала она.
– Не волнуйся, – сказал я, так старательно улыбаясь, что заболели мышцы лица. – Иди, развлекайся. Приятно вам поужинать. И вообще – удачи.
– Перестань, пожалуйста, Ливио, – сказала Мизия.
– Не уходи, не уходи! – кричал маленький Ливио, вцепившись в ее жакетик.
– Уже перестал, – сказал я срывающимся голосом: уж больно смехотворно было мое положение. – Какие проблемы? Я так рад. Душой я с тобой. Иди, иди, кто тебя держит, – сказал я, постукивая половником о край кастрюли, словно это был ксилофон.
Я взял маленького Ливио за рукав и, чтобы отвлечь его, повел смотреть, что там лежит в почти пустом холодильнике. Мизия растерянно помахала рукой: мысленно она была уже не с нами.
Когда она ушла, мы с маленьким Ливио поели суп из кабачков и картофеля. Я научил его читать от конца к началу еще одну строфу детского стишка, а потом сам отбарабанил весь стишок, но как ни забивал я голову звуками, мысли мои были только о Мизии. Во мне боролись отрешенность и тревога, жгучая ревность и желание трезво взглянуть на происходящее, дисциплинирующие доводы – и всякие картины, невольно мелькающие перед глазами. Я вспоминал, как в тот раз Мизия рано вернулась домой после ужина с Энгельгардтом, и, как ребенок, успокаивал себя тем, что ей не продержаться долго без новой дозы. Я отвел маленького Ливио в гостиную и вместе с ним добавил еще несколько животных в зоопарк, который мы с ним рисовали на стене; потом отвел его в ванную и не без труда отмыл ему от краски руки и лицо. Он хохотал, но истерично, потому что устал: я так и не сумел, как ни старался, приучить его к строгому режиму, как положено ребенку, хотя, наверно, должен был это сделать. Маленький Ливио опять спросил меня, где мама, а я опять ответил: «Мама ужинает со своим приятелем, не волнуйся, она скоро-скоро придет». Я поражался самому себе, что в таком состоянии еще могу кого-то утешать и что только я один и забочусь о ребенке четырех с половиной лет, у которого отца нет, а мать похожа на экзотическое животное, которому грозит вымирание. Мне было страшно, что я взвалил на себя такую ответственность, сам того не понимая, а теперь оказалось, что уже поздно что-либо менять; и мне хотелось понять, как бы, черт возьми, они без меня обходились, а вдруг моя помощь пошла им во вред, а не во благо.
Маленький Ливио давно уже спал в своей комнате, я уже несколько часов как работал, и почти уже стерлась под иглой проигрывателя пластинка Майкла Блумфильда, которую я все ставил и ставил заново, а от Мизии не было ни слуху, ни духу. Я старался думать лишь об акриловой краске «красный кадмий», которую наносил на холст в заводящем ритме бас-гитары, на который накладывался ритм гитары-соло, но Мизия все равно силой врывалась в мои мысли: так шастает вокруг дома грабитель, пытаясь открыть дверь или окно. Исступленно, словно осажденный, я охранял границы своего сознания, но ничего не помогало; все возводимые мною стены рушились, как стеклянные, и все новые и новые картины осколками врывались в мои мысли: Мизия и Томас Энгельгардт за столиком в ресторане, Мизия и Томас Энгельгардт на улице, Мизия и Томас Энгельгардт у него дома. Я видел, словно через лупу, его улыбку и различал блеск каждого его зуба, видел его мощный подбородок, ткань пиджака без единой складки, все нюансы его поведения – плод семейного воспитания, но со всеми коррективами, которые внесли в это поведение время, события, общение с разными людьми. Я представлял себе Мизию: наверно, она обращается с ним иронично и поначалу не особенно к нему добра, но все же ей не удается устоять перед напором его безграничной самоуверенности, и вот она уже под впечатлением, она принимает его комплименты, и наконец дает себя покорить, говорить ей разные слова и бросать взгляды, и неожиданно сдается, выдав себя нечаянной улыбкой, выставляет, как приманку, руку с чувственными, нервными пальцами, к которой решительно, настойчиво подбирается его рука.
Я пытался работать вопреки осаждавшим меня мыслям, но чем дальше, тем становилось трудней: то и дело, положив кисть, я подходил к окну. Улица была мокрая от дождя, на припаркованных машинах и блестящем черном асфальте лежали отблески фонарей, я смотрел на них – и еще быстрее падал в пропасть неподвластного и недостижимого, неясностей и потерь. Я возвращался к холсту и опять ударял кистью – так колотят по воде руками утопающие, но чем сильнее я старался, тем глупее и безнадежнее казалось мне это занятие: все шло ко дну, ничего поделать с этим я не мог.
Я посматривал на часы: подносил руку к глазам, тряс запястьем, проверяя, не остановились ли стрелки. Нет, не остановились: вот уже половина первого, час, половина второго. Время шло вперед рывками, кусочками сгрызался тот полукруг циферблата, с которым связывались мои последние надежды. Я ходил взад-вперед в плену убывающего времени и мрачных мыслей, то и дело представляя, как Мизия вернется домой, и «сценарии» мои были один другого нереальней: вот она выходит из огромного немецкого автомобиля и смотрит вверх на окна, вот бежит одна по тротуару и от волнения путает ключи; вот входит в гостиную (я просто не слышал, как открылась входная дверь) и говорит, что было смертельно скучно и что она Томаса Эндельгардта видеть больше не желает, даже на фотографии.
Время от времени у меня бывали минуты прозрения: я осознал, что все это время вел себя инфантильно и безрассудно, что нырнул с головой в чувства и жизни других людей, а теперь не могу оттуда выплыть из страха, неуверенности и чувства зависимости. Но тут же мне начинало казаться, что кроме Мизии меня не интересует ни одна женщина на свете, и никакой другой не заменить мне ее; что без нее жизнь потеряет и смысл, и цель, и я буду как собака, которую бросили хозяева на обочине дороги, отправляясь на каникулы. А еще мне казалось, что ей без меня не выжить, а тем более – маленькому Ливио; сердце стучало как бешеное, чувство долга боролось с чувством покинутости и еще множеством неявных, неопределенных чувств. Два часа ночи, два с половиной, три; стрелки часов давно уже лишили меня всякой надежды, только я не хотел этого признавать.
Я ходил от холста к окну, от окна – к входной двери и опять к холсту, как безумный; картина моя превратилась черт знает во что: беспорядочные линии, пятна цвета, сплошная неразбериха. Я снова и снова представлял себе, как Мизия улыбается Томасу Энгельгардту блуждающей улыбкой наркоманки, и как он обнимает ее за талию натренированной рукой бывшего игрока в поло и притягивает к себе. Я воображал себе его дом: мебель в имперском стиле, китайские вазы, книги в золоченых переплетах, что отвечало его представлениям об изысканном стиле, приглушенный свет и персидские ковры на хорошо натертых полах красного дерева; спальня с шелковым халатом на вешалке и трехспальной кроватью на заказ, шкафы и прикроватные столики темного дерева, на стенах – крохотные пейзажи художников XIX века, поэтические сборники разбросаны по комнате – свидетельство его романтической натуры и тяги к культуре. Я представлял себе их движения – так двигаются мужчина и женщина, готовые перейти пока еще разделяющую их грань; исстрадавшаяся женщина, которой так нужны любовь и поддержка, и мужчина с серьезными намерениями; взгляды, вздохи, сдержанность и инстинктивные порывы, и снова – взгляды.
Я убил бы Томаса Энгельгардта, попадись он мне в этом огромном городе, где миллионы незнакомых мне людей мирно спали у себя дома; я мог бы взорвать сам дом, где он жил и куда он привел Мизию, и разрушить весь квартал без всякой жалости к остальным, невинным его обитателям. Я был готов объявить войну Франции, Аргентине, всем, кто играет или играл когда-то в поло, всем этим неумным, наглым, уверенным в себе ублюдкам, которые, увлекшись такой женщиной, как Мизия, считали себя в праве бороться за нее именно сейчас, когда она так уязвима, не имея ни малейшего понятия, кто она на самом деле и что ей надо в этой жизни. Я спустился вниз, на улицу, словно мог что-то исправить тем, что буду ждать внизу, но ночь оказалась беспросветно сырой и холодной, и мне стало еще хуже, к тому же я боялся, что маленький Ливио проснется, и надеялся, что Мизия зачем-то позвонит; так что пришлось вернуться обратно.
Маленький Ливио крепко спал в своей комнате, телефон молчал, как заклятый враг; я еще острее почувствовал, что Мизии нет дома. Попробовал читать биографию Сент-Экзюпери, но печатные знаки сливались перед глазами, не успев проникнуть в сознание; попробовал работать, но рука болела, да и все равно картина была безнадежно испорчена. Попробовал заснуть на диване, но не мог сомкнуть глаз и все ворочался, не находя удобной позы; малейший шорох я принимал за скрип открывающейся двери и рывком садился на постели, прислушивался, а сердце колотилось так, что отдавалось в висках.
Я встал, опять оделся в приступе невыносимо острого смятения, и злости, и жалости к самому себе, и страха. От одной только мысли, что надо бы взглянуть на часы, у меня начиналась паника; я не мог уже распутать клубок своих чувств, не мог объяснить себе и осмыслить, что происходит.
И тут зазвонил домофон; я был так потрясен, что отпрыгнул назад, словно пугливый кролик. Кинулся к окну, но в скудном рассветном свете разглядел лишь такси; кинулся к домофону – услышал просто шорохи. Я не понимал, почему Мизия не поднимется просто наверх; в голове завертелись десятки возможных предположений, одно другого тревожней. Тогда я бросился вниз по лестнице; добежав до второго этажа, вернулся обратно, за деньгами для таксиста, опять бросился вниз, распахнул дверь подъезда с лихорадочной спешкой спасателя: вместо Мизии у такси стоял Марко и смотрел на меня.
Я так и застыл с раскрытым ртом: ноль мыслей, ноль эмоций, ноль предположений. Марко расплатился с водителем, посмотрел вслед такси и подошел ко мне еще до того, как я выбрался из трясины изумления.
– Извини. Я только что с поезда, не хотелось бродить до утра, – сказал он, наверно, объяснив себе мой вид тем, что поднял меня посреди ночи.
Теперь он носил длинные волосы, спутанные, как у рок-музыканта, и пожалуй, не очень твердо держался на ногах.
– Я не спал, – сказал я, все так же стоя в полутора метрах от него: черная кожаная куртка, бородка, дорожная сумка через плечо, нетерпеливые, ироничные глаза, точь-в-точь как у маленького Ливио. И почувствовал, как только что владевшую мной панику смывает волной явного облегчения.
– Я получил твое письмо, – сказал Марко и махнул рукой в сторону улицы, по которой приехал. Мы как будто не могли преодолеть пространство, разделявшее нас, и так и стояли друг против друга.
Потом я нерешительно вытянул руку, словно для рукопожатия, а он шагнул навстречу и обнял меня: мы хлопали друг друга по плечам и по спине, больно тискали друг друга.
– Черт возьми, Ливио, сколько летпрошло, – сказал Марко.
– Жуть, – сказал я. – Просто жуть.
Мне казалось, что я вынырнул из мира абсурда и с каждым глотком воздуха заново обретаю чувство меры и чувство юмора.
Мы вошли в подъезд, поворачиваясь один к другому на каждом шагу и обмениваясь взглядами в знак того, что заново обрели друг друга.
– Где Мизия? – взмахнув рукой, спросил меня Марко вполголоса, чтобы не нарушить тишину спящего дома.
– Ее нет, – сказал я, подходя к лестнице. – Сегодня она не ночует дома.
Он стремительно поднимался следом за мной по лестнице.
– У тебя не письмо, а сплошные намеки, – сказал он, когда я остановился на втором этаже и повернулся к нему. – Так только мафиози пишут. У меня чуть удар не случился, а я даже не понял, что ты сказать-то хотел.
– Сейчас объясню, – сказал я на ходу.
Только теперь до меня дошло, с какими последствиями и переживаниями мы сейчас столкнемся: нас ждут вопросы, поиск ответов, попытки подтвердить догадки и принятие решений. Правильно ли я поступил, написав ему, пусть его появление и явилось для меня огромным облегчением? Не станет ли теперь всем только хуже, когда и без того хуже некуда?
Мы вошли в квартиру, и Марко огляделся, не сняв куртку и не поставив дорожную сумку. Мне пришлось сказать ему: «Да раздевайся же». Но даже поставив сумку, он держался как заблудившийся солдат, которого повсюду ждет опасность и который того и гляди попадет в капкан.
Я провел его в гостиную с чувством, что впервые слышу запахи акриловой краски, пыли, овощного супа, благовонных палочек и пластилина.
– Садись, куда хочешь, – сказал я, поправив покрывало на диване.
Но Марко так и не сел, а стал ходить по комнате и рассматривать мои картины, расставленные вдоль стен, книги и пластинки Мизии на полках и на полу, разбросанные повсюду вещи. Он явно пытался разобраться в ситуации.
– Так, значит, вы теперь вместе? – спросил он.
– Нет, нет, – поспешил ответить я, словно эта мысль мне и в голову не приходила.
– Но живете-то вы вместе, разве нет? – спросил он таким тоном, словно вернулся издалека и не очень помнит, на каком языке здесь говорят.
– Да, вот уже несколько месяцев, – сказал я, показывая на диван-кровать, чтобы расставить все точки над «i». Странное дело, я чувствовал жгучую потребность поговорить с ним, но не знал, как завести разговор о том, о чем хотел.
– Вообще-то все непросто. Скорее даже, сложно. Сложно не значит неясно, – сказал я.
Марко едва заметно покачал головой; своим непонимающим взглядом он ставил меня в тупик.
Я подошел к окну, вернулся опять на середину комнаты.
– Видел бы ты меня десять минут назад. Матерь Божия, я был не совсем в себе, просто ужас.
– Я видел тебя, когда ты вышел на улицу, – сказал Марко. Он подобрал с пола старую пластинку группы Strawberry Alarm Clock [42]42
Strawberry Alarm Clock– Американская психоделик-рок-поп-группа. Просуществовала с 1966 по 1971 г. ( досл.«Земляничный будильник»).
[Закрыть]и стал рассматривать обложку.
– А у кого Мизия сегодня ночует? – спросил он.
– У одного ублюдка. Бывший игрок в поло, – сказал я, – аргентинец с немецкой фамилией. Наверняка он родственник какого-нибудь нацистского преступника.
Марко кивнул, будто мои слова и тон его совершенно не удивляли. Он изучал наш с Ливио безумный зоопарк фантастических животных, занимавший уже половину стены.
– Это что, твой новый нео-примитивистский стиль? Или ты его считаешь неоинфантильным?
– Рисовал я не один. Так что, считай, коллективный труд, – сказал я, понимая, что еще чуть-чуть – и упрусь в стену всего того, что надо объяснять: дело нескольких секунд.
Марко выглядел все более напряженным.
– Так ты мне объяснишь, что значило твое письмо?
Я хотел объяснить ему все как следует, спокойно, дружелюбно и толково, но никак не находил подходящих фраз или даже нужных слов, и чем дальше, тем сильнее чувствовал, что у меня все мысли перегрелись от того, что бежали по кругу.
– Я не очень-то силен в таких вещах. Знаешь ведь, я не дипломат и не психолог. Вы сами отвели мне эту роль, мне она и даром не нужна была.
Я говорил чересчур громко, ходил взад-вперед по комнате и беспорядочно жестикулировал, лишь мельком посматривая на Марко.
Марко пристально смотрел на меня.
– Это рисовал тот самый третий человек, о котором ты мне писал? – спросил он, показывая на фантастический зоопарк на стене. Он был бледен, уже не улыбался, и в глазах у него стоял вопрос, много вопросов, так что мне стало страшно.
– Он спит. Пойдем, я тебе его покажу, – сказал я.
Тихими шагами мы двинулись по изогнутому коридору: у меня было ощущение полной нереальности происходящего, того и гляди на стенах вспыхнут цветные узоры, как в калейдоскопе, или начнут падать звезды; мне так и хотелось снова сбежать вниз по лестнице и удрать прочь по сонным улицам предрассветного Парижа, чтобы меня уже не разыскали, а здесь пусть все решается само собой.
Я приоткрыл дверь в комнату маленького Ливио и нырнул в тусклый, красно-апельсиновый свет ночника. Он спал на боку, повернувшись к стене, в своей пижамке-комбинизончике – как обычно, откинув разрисованное бабочками одеяло и вытянув ножки, будто хотел прыгнуть или взлететь. Марко зашел вслед за мной, впустив струю холодного воздуха: мы стояли и смотрели на него, как смотрели бы два космонавта с откинутыми шлемами на самый неожиданный сюрприз, который преподнесла им другая планета.
Так мы стояли, не шевелясь и не говоря ни слова, бесконечно долго; я слышал лишь дыхание маленького Ливио, и наше дыхание, хоть мы и старались дышать потише, и слышал, как гудит в ушах.
С легким вздохом маленький Ливио перевернулся на другой бок: даже с закрытыми глазами он был поразительно похож на Мизию и Марко одновременно, пожалуй, даже больше, чем мне казалось, когда я раньше на него смотрел. Я видел выражение лица Марко и как он вздрогнул, словно его ударило током.
Теперь уже ничего не надо было показывать, спрашивать, объяснять, а мы все стояли, боясь пошевелиться. Собравшись с духом, я шепнул Марко: «Лучше выйдем, а то еще проснется». Он кивнул, не отводя глаз от маленького Ливио, и я тихо потянул его за локоть: мне казалось, что сам он с места не сдвинется.
И только мы вынырнули в коридор, не способные ни говорить, ни думать, как звякнул ключ от входной двери – Мизия вернулась домой.
Они с Марко посмотрели друг на друга, как два ночных зверька, застигнутых внезапной вспышкой света, когда каждая мышца, нерв, клеточка тела судорожно напряжены и остается одно – ждать хоть какого-то сигнала, чтобы на него отреагировать.
– Как поживаешь? – спросил Марко с побелевшим лицом.
– Хорошо, а ты? – бесцветным голосом ответила Мизия. Ей требовалась новая доза, чем быстрее, тем лучше, но все же она вопросительно взглянула на меня; и каждая прядочка ее выбившихся из прически волос, каждая складочка ее одежды вновь толкали меня в море мучительных переживаний, в котором я так долго тонул той ночью.
Пришлось перевести взгляд на Марко, чтобы хоть как-то собраться с духом.
– Я написал ему письмо пару месяцев назад, – сказал я ей.
– Зачем? – сказала Мизия, такая напряженная и слабая, что казалось, она вот-вот рухнет, вот-вот разобьется прямо у нас на глазах.








