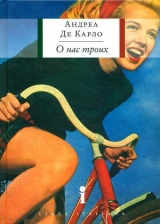
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
Мизия стояла посреди комнаты, а я смотрел на нее, сидя на полу, в луже из разноцветных чернил, чая и стеклянных осколков, сожаление и разочарование в ее глазах, горькая улыбка на губах отзывались у меня в сердце болью – я даже не представлял, что такая боль существует.
Мне было так плохо, что я готов был расплакаться; лечь ничком перед ней и попросить прощения тысячу раз подряд; кинуться к окну, распахнуть его и броситься вниз, только бы не думать о том, какую страшную и глупую ошибку я совершил и все испортил.
Мизия смотрела на меня, все еще очень бледная, но кровь уже начала приливать к ее щекам, и они постепенно розовели, хотя кожа у нее была очень светлой от природы.
– Прости, прости, прости, черт бы меня побрал! – Надо было встать и подойти к ней ближе, но я просто не мог; только сказал: – Мне жаль, жаль, жаль. – Я чувствовал себя полным идиотом, грубияном и нахалом, особенно по сравнению с ней, открытой и потрясающе естественной; мне казалось, что я испоганил произведение искусства неприличной надписью, загадил альпийский пейзаж, опорожнив мусоровоз, полный промышленных отходов. Я уже мысленно представлял себе Мизию, распахивающую дверь, сбегающую по ступенькам во двор на улицу, покидающую навсегда мой дом и мою жизнь. Уже представлял, как опустеет моя квартира и сколь невыносимым будет чувство утраты.
Но она продолжала смотреть на меня, не двигаясь с места, и постепенно выражение ее лица стало более спокойным, огорчение и разочарование куда-то исчезли, а потом появилась улыбка – сначала едва заметная, потом все шире и шире. Мизия провела рукой по лбу, по волосам; расхохоталась, согнувшись пополам и закрыв глаза.
Я не верил своим глазам, но через секунду, сам того не заметив, уже смеялся вместе с ней, напряженно и неуверенно, и не мог остановиться, как ребенок, впавший в истерику от того, что ни поступки, ни слова, ни сама жизнь ему не понятны. Мы смеялись, каждый на своем месте: она стоя, я сидя в луже из разноцветных чернил и чая; мы смотрели друг на друга, прерывисто дышали, дрожали, тихо всхлипывали, нервы наши были на пределе, и при каждом вдохе в легкие проникали облегчение и отчаяние.
8
С появлением Сеттимио все сразу завертелось, фильм с поразительной быстротой обретал реальность. Только что мы с Марко бродили по Милану и обсуждали его, как обсуждали десятки других неосуществимых идей, и вдруг раз – идея стала осуществимой, два – Марко уже дописал сценарий и у нас уже были почти все актеры и почти все члены съемочной группы.
Мы с порога отвергли мысль о профессионалах и о тех, кто собирался ими стать: Марко не хотел иметь дело ни с людьми, склонными к нарциссизму или маньеризму, ни с циничными, во всем разочарованными специалистами. Он хотел только тех, кто бы начал с чистого листа и был таким же любопытным, неугомонным, безрассудным, как мы; он считал, что это единственный способ создать что-то новое, и я был с ним согласен. Поэтому мы решили, что он будет кинооператором («Все эти режиссеры, толстожопые уроды, за них все делают другие, а они развалятся на своих складных стульях и разве что время от времени приложатся глазом к видоискателю», – говорил он), а я займусь светом. Звукооператором мы сделали моего придурковатого соседа, а костюмером и секретарем – мою троюродную сестру. Актеров отыскали среди друзей, знакомых, бывших одноклассников, плюс Сеттимио Арки, который добыл нам оборудование в обмен на роль и чье лицо, вдобавок, показалось Марко интересным. Сеттимио привел еще и помощника оператора, своего приятеля, участвовавшего в съемках каких-то рекламных роликов и документальных фильмов; это стало единственной уступкой техническому опыту со стороны нашей команды: мы могли обойтись без чего угодно, но изображение в кадре должно было быть в фокусе.
По поводу главного героя мы до сих пор сомневались: Марко с самого начала думал о нашем бывшем однокласснике по имени Вальтер Панкаро, который и в жизни был таким же необузданным психопатом, как и персонаж фильма, но мы оба опасались, как бы это сходство только не навредило. Мы решили устроить проверку – позвали его на прогулку и заставили пить, курить, говорить, дразнили и подначивали, чтобы оценить разнообразие его мимической гаммы, но гамма оказалась довольно скудной. Потом мы зашли в пиццерию, и под конец ужина, когда Панкаро, скрюченный, как марсианин, еще сидел над последним куском остывшей пиццы «Четыре сезона», Марко тихо сказал мне: «Ладно, годится». Не меняя выражения лица, я таким же бесцветным голосом ответил, что, может, стоит поискать кого-нибудь более подходящего; но Марко сказал: «Все, все, решено. Вопрос закрыт». Такая у него была манера: чего-то изо всех сил добиваться, а потом пускать дело на самотек, перебирать в уме несметное множество решений, выбирать почти наугад одно и уходить в него с головой, словно других и не было; на том все и кончалось.
Если посмотреть этот фильм сейчас, вполне может показаться, что Марко просто воплотил в нем свой первоначальный замысел и за каждым персонажем, эпизодом, кадром, диалогом стояло то особое, не знающее сомнений видение мира, которым проникнуты все фильмы, книги, картины, составившие панораму его творчества. Однако это совсем не так: то, что Марко задумывал сценарий, который он написал, – все это очень далеко от того, что у него получилось. В фильме совсем другие атмосфера, идеи, чувства.
Марко всегда говорил «наш фильм», но в действительности это был с самого начала его фильм, я лишь служил фильтром и камертоном для образов, приходивших ему в голову. Чем ближе был день начала съемок, тем Марко становился беспокойнее, все его внимание уходило на то, чтобы выискивать и собирать элементы фильма во всем, что он видел, слышал, читал: жест прохожего на улице, заголовок в газете, строчка из песни, услышанной по радио, надпись на стене, взгляд девушки в окне трамвая, да и любое видение, внезапно возникающее перед нами во время ночных прогулок по городу. Он говорил «Постой»с таким напряжением в голосе, словно именно этот, особый миг требовал от него сосредоточения всех душевных сил; на моих глазах новый элемент включался в зыбкие рамки воображаемого фильма, начинал взаимодействовать с тысячью других элементов, выдуманных и реальных. Случалось, он впадал в ярость: голос становился резким и отрывистым, взгляд мрачнел; он толкал людей, переставлял предметы – только чтобы лучше увидеть, лучше почувствовать, лучше понять, почему его заинтересовало именно это, а не другое.
Общаться с ним стало труднее, чем раньше, но не настолько, чтобы наша дружба оказалась под угрозой. Мысль о том, чтобы снять фильм, не связывалась для меня ни с честолюбием, ни с поисками своего «я», ни с гордостью; мне просто нравилось проводить с ним время, открывать неведомый прежде мир, иметь в запасе кое-что интересное, что можно рассказать Мизии. С другой стороны, Марко с его упрямством, ленью, нигилизмом слишком трудно было в одиночку находить общий язык с реальностью, и он ценил ту роль среднестатистического зрителя, ледокола, посредника, синхронного переводчика, которую я при нем играл. Наша дружба строилась на том, что я служил мостом, соединявшим его с остальным миром, а он указывал направление и конечную цель; меня вполне устраивало это распределение ролей: при полном несходстве наших природных дарований оно казалось мне честным, равноценным обменом.
9
Я заговорил с ним о Мизии, когда мы сидели в большой квартире, которую готовили к съемкам; Марко сосредоточенно рисовал раскадровки к первым сценам.
– Ее правда зовут Мизия? – сказал он с одной из своих насмешливых улыбок.
– Да, а что? – напрягся я, непроизвольно приготовившись защищаться.
– Ничего, – сказал Марко, уткнувшись в свои рисунки. – Немножко претенциозноеимя, нет? Тебе не кажется?
– Ничего подобного, – возразил я таким тоном, что, не будь он целиком поглощен своим занятием, непременно бы удивился. – Я еще не встречал девушку, у которой было бы меньше претензий. Просто ее так зовут. Родители так назвали.
Марко сказал «Вот черт!», быстро стер ластиком похожего на чучело человечка, обозначавшего Вальтера Панкаро, и нарисовал его заново, в другом углу прямоугольника, обозначавшего кадр. Он был слишком нетерпелив, чтобы хорошо рисовать: ему важно было лишь более или менее точно обозначить на бумаге основные детали.
– Я хотел пригласить ее в субботу сюда, посмотреть, как мы снимаем, – сказал я. У меня в ушах еще звучал ее голос – накануне вечером я звонил ей во Флоренцию; я помнил все его оттенки, помнил, как всего за несколько минут она показалась мне близкой и далекой, внимательной и занятой своими мыслями.
– Хорошо, – негромко сказал Марко. – Только учти, тут не цирк с дрессированными медведями и жонглерами. Пора уже хоть немного сосредоточиться на том, что мы делаем.
– Сам знаю, – огрызнулся я; меня раздражало его поведение. – Пока вообще неизвестно, сможет ли она прийти. – Но мне очень хотелось, чтобы она смогла: мне хотелось пустить в ход все козыри, заслужить ее интерес, попытаться загладить то впечатление, которое осталось у нее от нашей прошлой встречи.
Марко сказал «Ладно», но все равно был недоволен, ему совершенно не нравилась мысль снимать фильм на глазах у посторонних.
Квартира, в которой мы собирались снимать, принадлежала родителям Вальтера Панкаро: они уехали на месяц в Энгадин кататься на горных лыжах, оставив его с горничной посреди невероятного количества мебели темного дерева, стеклянных горок, альпийских пейзажей, чаш, бокалов, серебряных блюд, персидских ковров. После долгих уговоров Вальтер Панкаро согласился предоставить ее под основную съемочную площадку, взяв с нас клятвенное обещание ничего не ломать, а когда закончим, все расставить как было. Суперпедантичный и гиперэкспрессивный, он теперь очень дорожил своей главной ролью, но когда Марко объяснил, что нам надо вынести из гостиной всю мебель и расставить повсюду большие картонные коробки, он совсем сник. У нас не было ни декоратора, ни реквизитора, ни машинистов, ни бутафоров: перестановкой занимались я, Марко, Сеттимио Арки и моя троюродная сестра, мы устроили такой кавардак и такой шум, что в дверь несколько раз звонили возмущенные соседи. К ним выходил Марко и говорил властным тоном, который у него откуда-то взялся с недавних пор: «Мы снимаем фильм»; они выглядели слегка испуганными и слегка польщенными тем, что в их доме происходит такое волнующее событие, но тоска Вальтера Панкаро только усиливалась. Он все с большей опаской следил за варварскими манипуляциями с комодиками, столиками, ковриками и ледяным тоном выговаривал нам за каждую царапину на паркете, оббитый угол, вмятину на серебре, содранный китайский лак. Горничная изводила нас еще больше, стояла над душой и все время грозилась пожаловаться родителям Панкаро, если мы еще что-нибудь испортим; мы беспорядочно метались по квартире, то неуклюже, то осторожно, с треском, грохотом, возгласами: «Осторожнее, осторожнее», «Тише, тише», «Конечно, конечно».
10
Наступила суббота, день начала съемок, и все огрехи организаторов-любителей тут же выплыли наружу. В четверть девятого я заехал за Марко домой и пока рулил на своем «пятисотом» вдоль трамвайного кольца, он еще раз возбужденно перечислял основные принципы нашего предприятия. Горячась, объяснял мне, каким фильм быть недолжен, наверно, потому, что сейчас, когда времени уже не осталось, хотел составить себе более четкую картину: «Он не должен сводиться к форме, не должен сводиться к приему.Он не должен включать ничего готового, никакого уже услышанного, понятного языка. Он не должен легко смотреться, не должен вызывать никаких накатанных ассоциаций. Он не должен быть рыбой, плывущей по течению. Он должен быть рыбой, которая плывет против течения, по рекам, по полям, и летает,где хочет». Говорил: «Обещаешь сразу сказать мне, если увидишь, что он не такой? Даже в разгар съемок?» «Обещаю», – отвечал я и согласно кивал.
Мы остановились у дома Панкаро и зашли в бар выпить по крепчайшему капуччино, мы говорили, ходили вдоль стойки и глядели из огромных окон на улицу, чтобы не пропустить, когда приедут остальные. Мы смеялись, кашляли, смотрели на часы; говорили: «Ну, началось»; говорили: «Посмотрим, что теперь будет». Это было похоже на последние минуты перед прыжком с парашютом: пространство вокруг нас становилось все более разреженным, беспокойным, полнилось пульсацией непредсказуемых, все ускоряющихся ритмов.
Но в девять так никто и не показался, и мы молча, не глядя друг на друга, поднялись в старом лифте, среди деревянных панелей и кованого железа, и горничная семьи Панкаро сказала, что Вальтер еще спит, и нам пришлось растолкать его и заставить подняться и умыться, и еще двадцать минут ждать, пока явится моя троюродная сестра с костюмами. Звукооператор тоже опоздал, а Сеттимио Арки вместе с помощником оператора пришли еще позже, рассыпаясь в неискренних извинениях. Потом начались проблемы с диафрагмой камеры, проблемы с синхронизацией магнитофона, я обжег пальцы о лампу на прищепке, у моей троюродной сестры не хватало ни булавок, ни подходящих одежных щеток, ни запасных вещей для сцены с Вальтером Панкаро. Мы говорили все разом, наступали друг другу на ноги, постоянно ругались, пытаясь поделить полномочия и территорию, дышали запахом носков, сигарет, адреналина, воздуха, накалившегося от ламп. Время от времени я поглядывал на Марко с его камерой, сценарием, заготовленными рисунками, он беспокойно сновал из конца в конец огромной пустой гостиной, где все мы чувствовали себя маленькими и жалкими, и во мне крепло чувство, что затея с фильмом тоже кончится ничем, как и множество других затей, столько раз за последние годы воодушевлявших нас на минуту, день, неделю. Мне казалось, что реальность, в которую он сейчас погрузился, опять его разочаровала: оказывается, мы совсем не представляли, что нам предстоит, все шло медленнее, труднее, тяжелее. Меня радовало только, что Мизия не смогла прийти; я бы себе не простил, если бы у нее осталось такое жалкое, бедственное впечатление, бесконечно далекое от того, на какое я рассчитывал.
Шло время, а Вальтер Панкаро все никак не мог запомнить свои перемещения, я все никак не мог правильно поставить свет, звукооператор все жаловался, что микрофон фонит, Сеттимио Арки со своим знакомым помощником оператора все отпускал непристойные шутки; Марко поймал мой растерянный взгляд и спросил: «Что такое?»
– Ничего, – сказал я, пытаясь вытереть лоб тыльной стороной ладони. – Может, стоит отложить все на несколько дней, получше подготовиться?
Он уставился на меня, в его взгляде читалась злость на весь мир, но злость вполне конкретная.
– Я лучше выброшусь из окна, – сказал он. Его руки и уголки рта подрагивали от напряжения, голос вибрировал от еле сдерживаемого отчаяния; он отвернулся, потом снова взглянул на меня: – Мне двадцать четыре года; не знаю, как ты, а я за свою жизнь уже потратил впустую все время, какое мог. Другого выхода нет и быть не может.
Только тогда я понял, что фильм и вправду стал для него вопросом жизни и смерти, что период наших с ним отвлеченных мечтаний, ролевых игр, пустых слов завершен, точка. Остальные тоже это поняли, и атмосфера в огромной пустой гостиной еще больше накалилась. Марко без остановки ходил взад-вперед, от одного человека к другому, без устали объяснял, упрашивал, подгонял; снимал камеру со штатива и кружил с ней по комнате, давал отрывистые команды помощнику оператора, звуковику, моей троюродной сестре, Сеттимио Арки, мне, кричал на Вальтера Панкаро, когда тот не понимал, как должен двигаться и куда смотреть.
После долгих проб и ошибок каждый из нас более или менее освоил свою роль; Марко напоследок окинул взглядом комнату и крикнул: «Тишина!» так громко, что мы разом умолкли – я и не думал, что это возможно. Потом он крикнул: «Мотор!»; я стукнул хлопушкой; Марко крикнул: «Начали!»; Вальтер Панкаро, ожидавший снаружи, вошел в гостиную.
Все было необычно и волнующе: общая молчаливая безраздельная сосредоточенность на одном деле. Все было так, словно пространство постепенно сжималось, подчиняясь еле слышному гудению ламп, сдерживаемому дыханию, шороху одежды, стрекотанию пленки в барабане камеры, поскрипыванию подошв.
А еще все было не так: мы выбивались из темпа, из ритма, из духа, в каком Марко представлял себе сцену, она не имела ничего общего ни с одним из вариантов, которые он мне время от времени описывал. Казалось, Вальтеру Панкаро стоило неимоверного труда сделать пару шагов и оглядеться хоть сколько-нибудь выразительно, движения его терялись в слишком зыбком пространстве кадра. Я прекрасно понимал Марко, словно сам стоял у камеры, а не прижимался к стене с лампой в руках, и ни капли не удивился, когда услышал его крик: «Стоп! Не то! Совершенноне то!»
Минут сорок он потратил на поиски другого ракурса, другого освещения, другого темпа движений и взглядов Вальтера Панкаро. Ему пришлось делать новые раскадровки, наброски, спрашивать технического совета у помощника оператора, орать на Сеттимио Арки, который болтался со своей лампой где не надо, обсуждать с моей троюродной сестрой, как поинтереснее уложить жидкие волосенки Вальтера Панкаро, уговаривать горничную отключить телефон, пихать меня рукой в спину, пока я не встал со своей лампой на нужное место. От возбуждения, духоты, жара от ламп мы задыхались, каждое движение давалось с трудом, но в его голосе звучала пугающая решимость, горящий взгляд говорил, что назад дороги нет. Наконец приготовления кончились, мы снова замерли, до судорог сосредоточившись на своих ролях и местах в пространстве; Марко снова дал отмашку, наша барахлящая дилетантская машина снова пришла в движение, снова застрекотала пленка, Вальтер Панкаро со своей физиономией полоумной марионетки просеменил в комнату, а через секунду за его спиной в дверях появилась Мизия и попала прямо в кадр.
Никому из нас не пришло в голову поставить кого-нибудь на лестничной клетке у входной двери, что неудивительно, учитывая, что никто из нас не знал, как снимают фильм; но сцена получилась забавная, учитывая, насколько мы все были напряжены. Мизия по инерции сделала два-три робких шага в гостиную; потом заметила лампы, камеру, всех нас, стоявших, сидевших на корточках вдоль стен с застывшими взглядами, и остановилась как вкопанная. Даже Вальтер Панкаро почувствовал, что у него за спиной что-то произошло и, как всегда, механически повернул голову, не понимая, в чем дело. Мизия была ослепительно красива в свете софитов; в замешательстве она каким-то детским жестом всплеснула руками.
Марко крикнул: «Сто-оп!» – и все разом зашевелились: огромная пустая гостиная вмиг наполнилась голосами, смехом, движением.
Мизия сказала: «Простите, пожалуйста», – и потупилась с самым покаянным видом. Марко ринулся к ней и заорал:
– Может, объяснишь, какого черта ты тут делаешь? – И заорал на остальных: – Какого черта никто не следил за дверью?
Я втиснулся между ними и сказал:
– Это я виноват, это я виноват, – Марко вопросительно воззрился на меня, Мизия опять всплеснула руками. Я неуклюже представил их друг другу: – В общем, это Мизия. А это Марко.
Марко был слишком взбешен, чтобы быть учтивым, он сказал:
– Очень приятно. Только, может, светское общение отложим до более удобного случая? – Он так и излучал отрицательную энергию: весь подобрался, взгляд враждебный.
Но я ни разу не видел, чтобы Мизия чувствовала себя неловко дольше нескольких минут, что бы ни происходило: она обвела рукой гостиную и нашу растерянную горе-команду и спросила:
– О чем же фильм?
– Фильм об одном совершенно обыкновенном психе, который понимает, что мир его достал, и начинает сжигать по очереди все мосты между собой и жизнью.
Мизия смотрела на него с недоверием и любопытством: чуть наклонив голову, она поправила волосы, приоткрыв изящной формы ухо. Лампы на полу слепили нам глаза, все остальные, застыв по углам гостиной, уставились на нас, напряжение нарастало. Мне хотелось обнять Мизию, отвести Марко в сторонку и попросить быть с ней повежливее, но я не знал, как это сделать. Мизия сказала:
– Автобиографический фильм, да?
Во взгляде Марко мелькнула ярость, но с оттенком замешательства перед чем-то нестандартным и необъяснимым. Он тоже потянул себя за прядь волос, как всегда, когда сильно нервничал, и сказал Мизии:
– Ладно, если хочешь остаться и посмотреть, будь добра, постой вон там.
Мизия встала вместе с нами возле камеры, а Марко послал Сеттимио Арки к горничной распорядиться, чтобы она приглядывала за входной дверью, и после долгих перестановок и уточнений мы сняли второй и третий дубль первой сцены.
Но Вальтер Панкаро двигался слишком беспорядочно даже для психа: не мог толком пройти от двери до картонных коробок на полу, голову поворачивал рывками, не отрываясь смотрел в камеру. Марко по нескольку раз объяснял ему каждое движение, сам сыграл всю сцену, чтобы ему стало понятнее, говорил с ним самым спокойным и ровным тоном, на какой был способен, но ничто не помогало. Казалось, наконец все ясно, ошибиться просто негде, но стоило Марко скомандовать: «Начали!» – как Вальтер Панкаро впадал в ступор на свой тихий и гиперэкспрессивный лад: смотрел себе под ноги, смотрел в объектив, вертелся в десяти направлениях разом, чесал в затылке. Он говорил «Черт, да что ж такое», Марко кричал «Сто-оп!», кто-нибудь фыркал, кашлял, все, как могли, старались себя контролировать, чтобы не усугублять ситуацию. Сеттимио Арки качал головой, шептал: «С этим недоумком ни хрена у нас не выйдет». Вальтер Панкаро своим металлическим голосом повторял: «Черт, черт», лицо его посерело от стыда, он был раздавлен ответственностью.
Мы переживали, что испортили пленку, и не замечали, что дело близится к вечеру, в комнате стояла жара и духота, дышать было почти нечем; никто из нас и не подозревал, какое это изнурительное и монотонное занятие – снимать фильм, никто даже не представлял себе, каково это – стоять неподвижно целую вечность, когда все сводит от напряжения, а внимание ослабевает. Воздух вибрировал от перепадов между точностью и путаницей, замыслами и препятствиями, тишиной и бедламом; иногда мне казалось, что мы снимаем тот самый фильм, о каком мечтал Марко, а через пару минут казалось, что мечта погибла безвозвратно. К тому же рядом, метрах в двух, стояла Мизия и молча, не отрываясь, наблюдала за происходящим, и будоражила мне кровь, и обостряла восприятие ситуации.
Толку от Вальтера Панкаро было все меньше, съемки шли рывками, с долгими перерывами, наконец Марко сказал, что лучше отложить сцену до завтра, а пока взять камеру в руки и отснять, что видит герой, когда входит в квартиру. Вальтер Панкаро явно приободрился, сказал: «Тогда у меня будет время все обдумать», – и немедленно погрузился в проблемы недовольных соседей, поцарапанного паркета, перерасхода электричества.
Когда мы покончили с субъективными планами и Сеттимио Арки удалился с помощником оператора и с пленкой, чтобы отдать ее очередному своему знакомому и проявить втихаря в лаборатории, я наконец сделал то, что хотел сделать с самого начала: поздоровался с Мизией. Я боялся, что она обижена на меня за неловкую сцену, но ничего подобного: ей было интересно и весело, она смеялась, разглядывала все вокруг и задавала мне вопросы.
Марко, наоборот, был чернее тучи: съемки едва начались, а на фильме, похоже, уже можно было ставить крест, и он знал, что никто, кроме него, не может этот фильм спасти; в его взгляде читалось желание послать все к чертовой матери и сознание того, что все время придется жертвовать чем-то важным. Он еще раз попытался что-то объяснить Вальтеру Панкаро, заставил повторить за ним несколько движений, но было очевидно, что все без толку; в конце концов он отступился, подошел ко мне и, не обращая внимания на Мизию, с которой я разговаривал, сказал: «Пошли?»
Мы вышли втроем, молча, чопорно вошли в лифт, будто соседи по дому, и с деланным интересом уставились на деревянные панели у себя перед носом. Только когда мы спустились на первый этаж и я открыл дверь, Марко вызывающим тоном сказал Мизии: «Эффектный выход, ничего не скажешь».
– Мне жаль, – ответила она. – Из-за меня ваш актер так больше и не смог разыграться.
– Актер, как же. – Марко явно терзала мысль, что у его позора были свидетели, а теперь об этом еще и приходилось говорить.
– Но я оборвала его на серединесцены, – сокрушенно сказала Мизия, повышая голос, чтобы перекрыть уличный шум.
– Ему и до твоего появления была грош цена, – холодно сказал Марко.
– Но я уж точно ему не помогла, – сказала Мизия. – Он же такой восприимчивый, у него, наверно, был шок.
– Он болеечем восприимчивый, наш Вальтер, – сказал я, но оказалось, что меня никто не слышал. Я шел между ними по тротуару в полном смятении чувств, лихорадочно менявшихся каждую секунду: возбуждение после съемок и подавленность из-за возникших трудностей, изнеможение от духоты, гордость от того, что я знаком с такой девушкой, как Мизия, и что у меня есть такой друг, как Марко, беспочвенная ревность к обоим, ощущение, что я не контролирую ситуацию, пытаюсь догнать ее и не могу.
Между ними, словно магнитные импульсы, простреливали искры взаимного интереса, причем Марко старался казаться безразличным, а Мизия боялась показаться бестактной после случившегося. Она задала ему несколько технических вопросов по поводу фильма, он отвечал коротко и рассеянно, словно считал, что она все равно ничего особо не поймет. Мне казалось, что он ей неприятен, а она его бесит, но я скоро понял, что они по-прежнему заинтересованы друг другом.
Когда мы подошли к моему «пятисотому», Марко внезапно спросил у Мизии: «И все-таки, какое у тебя впечатление? Когда ты вот так вдруг вошла?»
– От чего? – ее голос прозвучал неожиданно сухо.
– От фильма, – сказал Марко так, словно уже пожалел, что проявил любопытство.
Мизия посмотрела на мыски своих кроссовок; посмотрела Марко в глаза; сказала: «По-моему, ты ведешь себя слишком жестко».
– В каком смысле? – Марко был совершенно сбит с толку.
– Ты все время на взводе, – сказала Мизия. – Бог мой, ты так уперся в свою роль режиссера!Я думала, что снимать фильм со своими друзьями гораздо легче и веселее.
Марко не смог удержаться от смеха: он не привык к столь открытому нападению, тем более со стороны красивой и малознакомой девушки.
– Почему же тебе показалось, что у нас не легко и не весело? – спросил он.
– Ну как тебе сказать, – ответила Мизия. – Ты был будто какой-нибудь капитан военного корабля, постоянно настороже. Неудивительно, что у всех сдавали нервы.
– Но это не так, – сказал Марко; я нечасто видел, чтобы разговор настолько выбивал его из колеи. Он повернулся ко мне, окутанный вечерней сыростью и дождевой пылью, и спросил: – Ливио, черт возьми, у тебя что, сдавали нервы?
– Не знаю, – ответил я, не желая принимать ничью сторону. – Нервничал, наверно, немного. Но, по-моему, это неизбежнов таких обстоятельствах.
– Бедняга Вальтер не простонервничал, – возразила Мизия. – Он, несчастный, двигался как сломанная заводная кукла.
– Я тут ни при чем, – сказал Марко. – Этот Вальтер Панкаро и естьсломанная заводная кукла. Он всегдатакой был.
Мы все говорили одинаково возбужденно и отрывисто, выделяя и подчеркивая голосом слова, бросая друг на друга быстрые взгляды. Я вдруг обратил на это внимание, но так и не вспомнил, кто первый начал.
– Тогда зачем же ты позвал его на главную роль? – сказала Мизия, не давая Марко опомниться. – Психа играть трудно, тем более если сам псих.
Их взгляды встречались и разбегались, они то приближались друг к другу, то расходились, их движения были неверными, дергаными, постоянно повторялись, притяжение между ними настолько усилилось, что отдавалось у меня в животе.
– Мне понравилось его лицо. И я считаю, что необязательно быть профессиональным актером, чтобы играть. У профессиональных актеров только и есть, что готовые лица, готовые интонации, готовые жесты, манерность, шаблоны и все такое.
– Тогда почему ты сам не сыграешь главную роль? – спросила Мизия. – Не сыграешь точно так, как себе представляешь? Почему ты прячешься за бедной перепуганной заводной куклой?
Я никогда не видел Марко в таком замешательстве: он разом потерял всю непринужденность и упругость движений.
– Может, тыэто сделаешь? – спросил он Мизию.
– Я?– Мизия засмеялась, отвела глаза. Я тоже засмеялся, хоть и чувствовал себя не в своей тарелке. Мне хотелось прекратить этот разговор, распрощаться с Марко, посадить Мизию в свой «фиат» и увезти подальше отсюда.
Марко не сводил с нее пристального взгляда, словно пытаясь отыграться за секундную слабость; повторил:
– Ну? Может, ты это сделаешь?
Я не сразу понял, что он не шутит; но Мизия сообразила быстрее; она сказала:
– Я работаю. Я не могу все бросить ради роли в кино. Я в нем ничего не понимаю. Мне неинтересно. В детстве было интересно, а теперь нет. – Она нервничала не меньше Марко, ее захватил тот же поток вызывающего любопытства: – Какого черта тебе это вообще взбрело в голову?
– Что, испугалась? – Марко становился все напористее. – Слишком смелая мысль? Слишком неуправляемая? – Он старался выглядеть уверенным в себе, но ему плохо это удавалось, я это видел: его взгляд бегал, он топтался на месте, засунув руки в карманы, вместо того чтобы спокойно выситься перед ней среди набегающих автомобильных волн, проносящихся под желтым сигналом светофора.
– Нет, не испугалась, – во взгляде Мизии было то же выражение, как когда я сказал, что мой голландский велосипед мне больше не нужен. Марко улыбнулся, но улыбка получилась неожиданно жалкой; весь замысел его фильма полетел к черту, и с этой минуты на ближайшие двадцать лет наши три жизни превратились в хаос.








