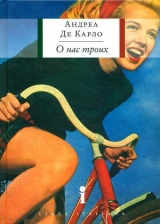
Текст книги "О нас троих"
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
21
Через три недели после встречи на моей выставке Мизия позвонила из Парижа, приветливая и полная добрых чувств:
– Негодяй ты этакий, я все ждала твоего звонка. Сегодня привезли картины, они замечательные! – сказала она.
– Я отвык от того, что тебе можно позвонить, – оправдывался я.
Так и было: каждый божий день я смотрел на листок с номером ее телефона, но так и не решился снять трубку.
– Ну ты даешь, Ливио, – сказала Мизия. – Я уже подумала, что ты во мне разочаровался и не хочешь со мной разговаривать.
– Да ты была замечательная. Появилась тогда, словно чудесное видение!
Паола сидела в нескольких метрах от меня, перед телевизором; сам этот ее неподвижный, устремленный вперед взгляд свидетельствовал, как мне казалось, о враждебных чувствах к Мизии.
– Да ладно тебе, – сказала Мизия. – Передаю трубку маленькому Ливио.
Маленький Ливио подошел к телефону:
– Как поживаешь? – спросил он, но как-то неуверенно, и акцент у него был совсем уж странный.
Я попытался разговорить его, но это оказалось непросто: он явно стеснялся, нас разделяло столько километров, да еще в нескольких метрах от меня сидела просто окаменевшая Паола.
– Скоро увидимся. Я приеду к тебе в гости. А теперь позови маму.
Мизии я сказал, что мы приедем в Париж сразу после рождения ребенка.
– Обещай мне. И сдержи слово! У нас до неприличия большой дом, живите, сколько захотите. И даже есть комната тебе под студию, лучше не бывает, и там верхний свет. Поработаешь лучше, чем в Милане, а главное, мы будем все вместе. Пообещай, что приедете!
– Обещаю. – На самом деле я так и видел, как качу по направлению к Альпам. – Как только родится ребенок – приедем. Решено.
Я положил трубку; сердце сильно стучало от волнения.
– Нельзя отправляться в путешествие по Европе с новорожденным младенцем, – сказала Паола.
От одного ее тона и взгляда у меня начался жуткий приступ клаустрофобии.
– Можешь объяснить, почему ты становишься такой упрямой и враждебной, когда дело касается Мизии?
– При чем тут Мизия? – возразила она. – Просто нельзя так обращаться с ребенком.
– Но ведь он еще даже не родился! – крикнул я. – Мы не знаем, какой он будет! Может, он прирожденный путешественник, откуда тебе знать?
– Ты просто инфантильный, – сказала Паола, и взгляд у нее был по-взрослому возмущенный и упрямый.
– Я не инфантильный, – крикнул я, – а вот ты ведешь себя, будто клуша, сплошные предрассудки и предубеждения; ребенок еще не родился, а мы уже словно в тюрьме!
Она посмотрела на меня, словно на буйнопомешанного или на сбежавшего из зоопарка зверя; я бросился, налетая на мебель, к входной двери и скатился по лестнице, во власти исступленной ярости.
Через два дня пришло письмо от Марко, из Перу.
Кукабуру, 1 января.
Эй, Ливио, с Новым годом!
Надеюсь, рано или поздно ты получишь это письмо и тебе удастся его прочитать, хотя лента в пишущей машинке почти высохла, плюс западают две клавиши, но, как ты сам понимаешь, вряд ли в этой глуши стоит искать ремонт машинок. Короче:
Я в Перу, потому что А) чисто случайно (или не случайно) встретил в одном баре в Лондоне двух чокнутых парней, которые связаны с местными ребятами, тоже психами, и Б) из ощущения, что не существуеттого, чего ты не видел своими собственными глазами. И я решил, что моя работа может обрести хоть какой-то смысл, если делать ее так, как я делаю сейчас. Попутно я выяснил, что в самой моей работе есть нечто магическое и благодаря ей я могу оказаться в таких местах и обстоятельствах, куда никак бы не попал.
По логике вещей, все наоборот: люди должны становиться агрессивными и закрываться от тебя, когда ты их снимаешь, и раскрываться, идти тебе навстречу, когда ты просто хочешь с ними поговорить. Но эволюция (или регресс) шла так далеко, что с кинокамерой ты можешь подойти к людям, которые, будь ты без камеры, тут же бы тебя пристрелили, даже не поинтересовавшись, кто ты; пожалуйста, – смотри что хочешь, задавай любые вопросы, какие хочешь, ходи, где тебе вздумается, и никто в тебя не стреляет, даже не собирается (меня пытались убить только один раз, когда я был без камеры и ничего подозрительного не делал). То, что эти люди раньше камеры в глаза не видели, дела не меняет. Возможно, это связано с тем, что отснятый материал как бы существует в другом, параллельном мире, где вся информация – беспристрастная, столь безрассудно и некритически беспристрастная, что с ней можно делать все, что хочешь, и никто ничего не заметит.
Здесь вообще все довольно странно, поселения в глухих джунглях, совершенно разрушенные городки, время течет медленно, иногда кажется, что вообще стоит на месте, а потом вдруг несется вскачь. Надо быть постоянно готовым к тому, что из состояния полного покоя неожиданно попадешь в самый водоворот событий, причем события эти могут оказаться малоприятны, а их последствия и того хуже.(Позавчера погиб один очень славный парень, водитель грузовика, на котором я сюда приехал: пошел за бензином, а его подстрелили и повесили на дереве за ноги; когда мы его нашли, он еще дышал, но мы уже ничем не могли ему помочь, только слушали, как он хрипит в агонии, будто козленок с перерезанным горлом, и так всю ночь. Вся наша аптечка – две упаковки стерильных бинтов да пузырек стрептомицина с давно истекшим сроком годности.)
Ладно, пора заканчивать письмо, я слишком долго держу лампу включенной, а ночью тоже надо соблюдать осторожность; и потом я вовсе не собирался портить тебе Новый год мрачными рассказами, я только хотел поздравить с праздниками, сказать, что люблю тебя; надеюсь, у тебя все в порядке и мы рано или поздно все же повидаемся, ведь если ничего не случится, рано или поздно я вернусь в Лондон, вот только отсниму побольше материала.
Пока.
P. S.
Если вдруг со мной все же что-то случится, то не мог бы ты передать Мизии и маленькому Ливио, что (зачеркнуто) и что я хотел им тоже написать, но не знал куда, вот и попросил тебя сказать им об этом?
М.
22
Десятого февраля у меня родилась дочь. Я грунтовал холст размером метр двадцать на метр восемьдесят, и тут Паола в гостиной вскрикнула – истошно, но сдавленно, я бросился к ней. «Кажется, воды отошли», – сказала она. Мало что соображая, я стащил ее по лестнице вниз и усадил в машину, а когда мы уже отъехали, она стала говорить, что не хочет ехать в клинику моей бабушки, как было уговорено, и чтобы я отвез ее в ту клинику, где родились они с братом.
– Но мы же там наблюдались и все такое, неделями готовились, – сказал я ей, пытаясь проскользнуть между другими машинами, поглядывая на ее живот и одновременно утирая пот тыльной стороной руки.
– Не доверяю я им, – сказала Паола глухим голосом. – Это для чокнутых. Да и твоя бабушка немного чокнутая.
– Моя бабушка – потрясающий гинеколог, – сказал я, чуть не врезавшись в бок автобуса. – Если бы не она, я бы так и остался наполовину парализованным.
– Да, но я предпочитаю нормальных врачей, – Паола обхватила живот руками, тяжело дыша и сгибаясь в три погибели.
– Что значит – нормальных? – спросил я. – Нормальных – это которые привяжут тебя к железной кровати, как в морге, чтобы ты рожала лежа?
– Что ты об этом знаешь? – рявкнула она, уже не в состоянии говорить спокойно. – Ты же не женщина.
– Но я слышал об этом от женщин, – ответил я.
– Не от тех, значит, – сказала Паола, откидываясь на спинку сиденья.
Я был просто потрясен, обнаружив в такой ответственный для нас момент, насколько же мы с Паолой не совпадаем; от непонимания, что обо всем этом думать, в голове у меня все перепуталось.
– Нельзя же просто заявиться в клинику, вот так, без предупреждения.
– Они предупреждены, – сказала Паола, хватая ртом воздух; колени у нее дрожали. – Весь последний месяц я ходила туда с мамой. Она тоже не доверяет твоей бабушке.
Такого рода сюрпризы всегда действовали на меня разрушительно, у меня в голове не укладывалось, как это кто-то из близких может думать или делать что-то такое, о чем ты даже не подозреваешь, скрывая от тебя. Меня словно током ударило: я дергал руль то в одну, то в другую сторону, включал не те скорости и, когда не надо, жал на газ; просто чудо, что мы не врезались в другую машину или в тротуар и никого не задавили.
– Отвези меня в нормальную клинику, – снова сказала Паола, и еще несколько раз это повторила, волнуясь, задыхаясь и цепляясь за спинку сиденья, так что я, как бешеный, вклинился между другими машинами и помчался, куда она хотела; смешно даже сравнивать с тем, как я гонял в свое время на своем старом «пятисотом», однако не прошло и восьми минут, как мы были у ее клиники.
Я помог ей подняться по ступенькам и пройти через холл, и дальше все пошло хуже некуда, потому что охранник, медсестра и молодой врач смотрели на нас без всякого интереса, мне же казалось, что Паола вот-вот родит, и живот у нее – я смотрел сбоку – был просто невероятных размеров, я с трудом поддерживал ее, одновременно пытаясь понять, куда идти; тут-то я и закричал: «Кто-нибудь нам поможет, а?» – и голос-мегафон, про который я уже говорил, здесь, в холле с гладким мрамором и колоннами, гремел по-страшному. А Паола – нет бы хоть в этом меня поддержать! – наоборот, меня одергивала: «не кричи» да «перестань», и упиралась, не хотела идти дальше, всем своим видом показывая, что она тут ни при чем, так что когда из дальнего коридора наконец-то выглянули две медсестры, я был уже совсем на взводе.
– Да, все понятно, муниципальная больница! Поэтому вы как мухи сонные? – завопил я.
Паола больно ущипнула меня за руку; никогда еще за все то время, что мы жили вместе, она не смотрела на меня таким чужим взглядом. У заведующего отделением этажом выше, к которому она тайком ходила весь последний месяц, была на редкость мерзкая физиономия, он был похож на равнодушно-злобного добермана.
– Время еще есть, – сказал он, едва взглянув на нее.
– По-моему, уже нет, – сказал я, но он отвернулся и сделал вид, что не слышит, и тогда я закричал: – Эй ты, я с тобой разговариваю, мерзкий доберман!
– Прекрати,Ливио, – сказала Паола, а он испугался и повернулся к стоящим за его спиной ассистентам и медсестрам. Там были еще и другие роженицы, которые ждали на кушетках и железных стульях, когда кто-нибудь ими займется, они смотрели на меня почти с ужасом; я поверить не мог, что воспринимаю происходящее совсем не так, как все остальное человечество.
– Почему нужно слушаться этих ублюдков и халтурщиков, – еще громче закричал я от ярости и одиночества, ни к кому не обращаясь. – Кто сказал, что нужно терпеливо ждать, как животное на закланье, да еще и молча? Вот вы, например, – закричал я совершенно измученной женщине с выпученными глазами, – вы довольны, что сидите там и ждете, или, может, для начала вас должны были устроить поудобнее, а?
Женщина не ответила, просто отвела взгляд. Я огляделся, понял, что все отводят взгляд, отчего у меня закружилась голова, а самым чужим человеком была Паола, которая – или мне казалось? – ловила воздух ртом и сжимала свой живот обеими руками; будь моя воля, я бы отвез ее в бабушкину клинику, но знал, что она не поедет и что в любом случае уже слишком поздно.
Я пнул по железному стулу, хоть и понимал отлично, что здесь нельзя шуметь, но уже не мог остановиться: у меня бывали такие минуты полного неприятия мира, и сейчас меня просто понесло; я весь обливался потом и кричал, кричал в этой пахнувшей формальдегидом комнате с зелеными стенами и неоновыми светильниками, словно непригодное в пищу животное, которое притащили на скотобойню. Прибежали два широкоплечих медбрата и обменялись молчаливым кивком с гинекологом, словно в гангстерском фильме.
– Здесь могут находиться только роженицы.
– Тогда что делаете здесь вы и что здесь делает этот ублюдок? – закричал я, а они стали толкать меня к лестнице, заломив мне руки за спину и пиная по голеням всякий раз, когда я пытался вырваться; так они протащили меня по всем коридорам и через холл, и наконец вытолкнули на бетонное крыльцо, и, тяжело дыша, словно выполнили потребовавшую усилий трудную работу, пригрозили позвать полицию, если я только сунусь обратно. Люди останавливались и глазели на нас с холодным нездоровым любопытством, столь характерным для миланцев, я не мог найти ничего, что бы мне нравилось или хотя бы не казалось враждебным: начиная от лиц прохожих и кончая городским шумом, пыльным влажным воздухом, цветом стен, запертым со всех сторон горизонтом.
Около получаса, наверное, я кружил вокруг клиники с таким мучительным ощущением своей чужеродности, что мог бы броситься под машину, избить полицейского, выпить все спиртное в первом же попавшемся баре, чтобы вырубиться или хотя бы ни о чем не думать. Вместо этого я действительно вошел в какой-то бар, позвонил бабушке, попросил приехать и пошел ждать ее на углу клиники.
Бабушка, которая терпеть не могла водить машину и не понимала, как парковаться, даже если и находила где, ужасно долго до меня добиралась. Она была в ярости, что мы не приехали к ней, как обещали.
– Трусы и слабаки, – повторяла она. – Будь все люди такими, все бы стояло на месте. Уж от тебя-то я этого никак не ждала, после того, что мы пережили, когда ты родился!
Я объяснил ей, что я тут ни при чем и что никакой я не слабак: из клиники меня вышибли. Но она никак не могла успокоиться, ей страшно не нравилось выступать заложницей традиционной медицины.
– Ты хоть знаешь, сколько женщин погибало от сепсиса потому только, что врачи руки не мыли? Не когда-то в доисторические времена, а чуть ли не вчера? Ты знаешь, что врача, установившего связь между немытыми руками гинекологов и родильной горячкой, довели до сумасшествия? Он был венгр, все медицинское сообщество поносило его и высмеивало, пока он не угодил в психушку.
– Ладно, бабушка, ладно, но я хочу видеть Паолу. Все равно она уже там.
После очень непростого разговора бабушка убедила врачей клиники впустить меня – под ее ответственность. Медбрат-охранник провел нас, злых и напряженных, по коридорам до самого родильного зала. Паола уже родила и дочку унесли; без малейшей симпатии смотрела она на меня с кушетки, на которую ее поместили.
– Видишь, тот ублюдок был не прав, и ждать больше было нельзя, – сказал я.
Она прикрыла глаза, чтобы не видеть меня или почти не видеть.
– Ты все испортил, Ливио, а ведь этот день должен был стать одним из самых счастливых в моей жизни.
23
Когда Паола вернулась домой с нашей девочкой, я осознал, что совершенно не готов выполнять обязанности родителя. Мой опыт общения с детьми сводился к нескольким месяцам жизни с Ливио в Париже, но он был уже большой, почти пятилетний, и не такой, как другие дети. А теперь передо мной лежало крохотное беспомощное существо, которое испускало высокочастотные звуки в немыслимом количестве и поглощало все наше внимание без остатка; я никак не мог понять, как с этим существом общаться – или как хотя бы установить контакт.
Паола пугалась любой ерунды и все еще злилась на меня из-за скандала в клинике. Очень быстро она поняла, что я не мастер что-то организовывать и решать практические задачи, и при каждом удобном случае ставила мне это в упрек. То и дело наведывались ее родители, брат-адвокат с женой и моя мама, которая давала идиотские советы и вмешивалась в дела Паолы, да еще и ссорилась по телефону с бабушкой, а я постепенно отступал к входной двери, открывал ее, и, заявив, что иду в магазин, сбегал вниз по лестнице – так мыши улепетывают из затопленной водой норы.
Собрав по всему дому мелкие монетки и набив ими карманы, я позвонил Мизии из телефона-автомата, таясь, как не таился бы, даже звони я любовнице.
Мизия ответила лучшим своим голосом, полным оптимизма:
– Ливио! Ну как, ребеночек уже родился?
– Родилась. Три дня назад.
– Девочка! – обрадовалась Мизия. – И как ее зовут?
– Элеттрика, – ответил я. От одного только звука этого имени у меня сводило рот.
– Да ну! – сказала Мизия.
– Тебе не нравится? – спросил я сквозь рев и грохот автомобилей и покрепче прижал трубку к уху.
– Что ты, что ты, славное имя, – ответила она вежливо, но не слишком уверенно.
– Я хотел назвать ее Мизия, – признался я, – как ты назвала Ливио своего сына.
– Я назвала его так не из любезности, а просто мне нравится твое имя.
Но Паола и слышать об этом не хотела, она настаивала на Лучане, в честь своей матери, и так упиралась, что в итоге мы назвали девочку Элеттрикой, это Паолу устроило.
– Погоди, в чем дело? – встревожилась Мизия. – Вы что там, ссоритесь и страдаете из-за какой-то ерунды?
– Нет, – сказал я, – просто со мной, наверное, что-то не так. Я что-то совсем не умираю от счастья. На самом деле мне паршиво.
На другом конце провода Мизия молчала; я весь взмок, слушая треск и шорохи в телефонной трубке, бросая в автомат монетки одну за другой и думая, что, наверное, дела мои – еще хуже, чем казалось; но потом она засмеялась, хотя смеяться вроде было не над чем, и мне полегчало.
– Черт, да что смешного? – сказал я.
– Смешно и все тут. – Она продолжала смеяться.
– Что именно смешно? – спросил я громко, словно мог преодолеть голосом расстояние, злясь, что Мизия не относится ко мне всерьез, хотя это была ерунда по сравнению с тем, как мне уже полегчало.
– Да сама ситуация, – сказала она. – Так тебя и вижу.
– Ничего смешного, – сказал я, но сам уже пытался с юмором взглянуть на то, что происходит.
– Не переживай так, Ливио, – сказала она. – Когда появляются дети, приходится резко менять свои взгляды на жизнь.
Я хотел сказать ей, что дело не совсем в ребенке, что меня волнует другое, но в карманах не осталось ни монетки, и всего несколько штук лежало столбиком на самом телефоне.
– Я чувствую себя одиноким, вот что. Смотрю по сторонам, а все чужое и все чужие, черт знает что такое.
– И со мной так бывает, – сказала Мизия, и от того, что мне передалось ее легкое смущение, я воспрял духом – словно луч света просочился сквозь щелку в бетонной стене.
– У меня кончились монеты! – крикнул я. – Телефон глотает последние!
– Приезжайте к нам! – крикнула она, подстроившись под меня, потому что всегда умела подстраиваться под настроение собеседника. – Как только сможете! Не ленитесь! Мы вас ждем!
Монеты мои закончились, нас разъединили. Я вышел из телефонной будки, пытаясь понять, с какой стати я позвонил Мизии из телефона-автомата, а не из дома, и почему, когда в конце разговора она употребила множественное число, почувствовал едва заметный укол разочарования.
Когда нашей девочке исполнился месяц, я снова предложил Паоле поехать в Париж, и у нас опять вышла яростная перепалка на счет того, возможно ли куда-то вести такое юное существо. Мы еще несколько дней это обсуждали, и наконец, видимо, вконец измученная, Паола сдалась: «Ладно, раз ты никак без этого не можешь».
Я тут же позвонил Мизии, но не застал ее дома и оставил на автоответчике сообщение с просьбой перезвонить – она не перезвонила. На следующий вечер я дозвонился.
– Ты знаешь, просто чудо, мы решились. Едем к вам! – закричал я.
– Ливио. Сегодня утром умер отец Томаса. Мы улетаем в Буэнос-Айрес, – сказала Мизия.
– Че-ерт, – сказал я, будто школьник, на бегу врезавшийся головой в стену. – Сочувствую, – добавил я, и мне было плевать на отца Томаса, несмотря на всю боль в голосе Мизии, я так за себя расстроился, что едва дышал.
– Позвоню тебе, когда вернемся, – сказала Мизия. – Сейчас мы слишком потрясены, и не можем думать ни о чем другом.
– Конечно, – сказал я. – Я все понимаю. Спокойно вам долететь. Передай всем мои соболезнования.
Сидевшая тут же, в гостиной, Паола смотрела на меня вопросительно.
– Мы не едем в Париж – довольна? – положив трубку, сказал я ей, словно виновата была она. И мне действительно казалось, что так и есть.
Мизия позвонила из Аргентины в конце марта: сказать, что после смерти отца Томасу пришлось взвалить на себя сложный и запутанный семейный бизнес, ни в какой Париж они не поехали и не собираются, отдали Ливио в школу в Буэнос-Айресе.
Мы поклялись друг другу, что найдем способ повидаться, неважно где и когда, но наши обещания были такие неопределенные, что лишь еще сильнее расстроили нас обоих.
24
Лондон, 28 сентября.
Ливио,
Я все пытался понять вчера вечером, что мешает мне набрать твой номер, а утром решил, что лучше написать, так мне проще, и, наверно, это самый ненавязчивый способ восстановить связь с тобой после большого перерыва или, может, самый трусливый из всех возможных, уж не знаю. Я вернулся три месяца назад, но все время работал и занимался ногой, так что на личную жизнь времени совсем не оставалось, вот я и не объявился раньше – ну, или это хорошая отговорка, так?
Ногой приходится заниматься из-за того, что случилось еще в июне, в Перу, когда наш «лендровер» с брезентовым верхом рухнул под откос с высоты в триста метров: мы возвращались вчетвером с северо-востока страны, со съемок в местечке Толмечин, где нас чудом не схватили солдаты. Мы ехали вдоль поросшей лесом горы по грунтовой дороге с обрывами по бокам и порядком нервничали после того, что случилось: и я, и наш проводник из местных, Паулу, и Уильям, звукооператор, и моя подруга-американка Эллен Кравиц, фотограф, – несмотря на то, что под джутовыми мешками у нас лежали «калашников» и пара пистолетов, нам все равно, знаешь, было не по себе; но в какой-то момент, когда мы резко повернули, Паулу вдруг бешено замахал руками и закричал: «Смотри, смотри, el Arco Iris!», [44]44
Радуга (исп.).
[Закрыть]и действительно, справа от нас стояла радуга, просто удивительная, я ничего подобного не видел. Ее трудно описать: радуга была гораздо больше и шире, чем обычная, в полнеба, с очень ярко и четко очерченными дугами, и для нас – в том состоянии, в каком мы находились, – в этом было что-то сверхъестественное. До того момента нас занимали лишь бытовые проблемы: солдаты, шпионы, дождь, насекомые, ужасная влажность, от которой портилась пленка, и то, что бензина не хватало, еды тоже, а спали мы очень мало, но тут мы просто преобразились, как и должно быть, когда видишь чудо, галлюцинацию или некое видение, явно высокосимволичное, только непонятно, в каком смысле. А через мгновенье наш «лендровер» и мы в нем уже катились вниз по откосу. Поразительно, я не раз во сне видел нечто подобное, и оказалось, что в жизни все тоже видишь, как в замедленной съемке: почти вертикальный склон, летящие навстречу стволы деревьев и сам наш «лендровер», который мягко и очень спокойно накренился на бок, а потом уже покатился кубарем. Не знаю, как такое возможно, видно, когда ты просто не веришь своим глазам, или насмерть перепуган, или сделать ничего не можешь и это понимаешь, то и возникает разрыв между тем, что происходит, и твоим восприятием, причем какие-то твои чувства притупляются, а другие, наоборот, обостряются, в общем, мне казалось, что я смотрю фильм на монтажном столе в аппаратной, и звуковое оборудование отличное: я на удивление четко различал, как трещат ломавшиеся под нами кусты и ветки, громыхают камни, чавкает грязь, хрустят стволы, скрежещут металл, резина и рессоры, булькает в моторе жидкость и плещется бензин в бензобаке, перекатываются наши чемоданы, камера и все другие вещи, что мы брали с собой, и различал каждый наш вздох, отдельные восклицания, крики…
Короче: Паулу, бедняга, разбился насмерть, и мы так и не смогли его вытащить из-под капота «лендровера», Уильям сломал руку и несколько ребер, и порезал голову, так что лицо у него было все в крови, я сломал ногу в двух местах, и одна только Эллен не пострадала, потому что она уцепилась за что-то в днище «лендровера», словно то было дно попавшей в бурю лодки, и не ослабляла хватки, – если бы не она, мы бы там остались навсегда. (Как ты догадываешься, было весьма непросто вытащить нас с того места, куда мы приземлились, спасателей тут не вызовешь, а нам было не так-то просто лезть вверх по откосу, утопая в грязи и продираясь сквозь заросли, и нога болела так сильно, что я бы застрелился, попадись мне под руку один из наших пистолетов, но все наши вещи – рубашки, трусы, бумаги – раскидало по ветвям деревьев, удивительно даже, на какое расстояние может разлететься все то, что раньше было аккуратно сложено и занимало совсем немного места.) Когда я обо всем этом вспоминаю, то помимо смерти Паулу (жаль его ужасно, хороший был парень) больше всего меня поражает то, что мы сорвались в эту пропасть, в эти кровь, грязь, крики, боль и страх лишь потому, что увидели самое поэтическое и неземное видение на свете, что тоже в высшей степени символично и тоже непонятно, в каком смысле.
(Ты и представить себе не можешь, какая же Эллен практичная и деятельная, она не просто вытащила нас оттуда, но и собрала коробки с пленкой, пока я корчился от адской боли в ноге; в итоге она оставила нас на краю дороги и вернулась, не знаю уж через сколько часов, с каким-то парнем на телеге с лошадью. Потом она добилась, чтобы нам с Уильямом вправили и загипсовали переломы в местечке под названием Фратернидад-де-Кабозон (видел бы ты его, Ливио, оно словно сошло со страниц романа самого что ни на есть банального и слащавого латиноамериканского писателя); вот только мне так плохо все сделали – или, может, я так сильно дергался – что когда через месяц сняли гипс, оказалось, что я хромаю. Хромаю так живописно, так трогательно – хоть смейся, хоть плачь.) А потом Эллен по какой-то странной причине продолжала обо мне заботиться и в конце концов, хоть я и превратился в самого несговорчивого на свете человека, уговорила меня вернуться в цивилизованный мир, где немного лучше лечат, а поскольку в Нью-Йорк, куда она собиралась меня отвезти, мне совсем не хотелось, мы вернулись в Лондон (где мне пришлось опять ломать ногу, но только в более стерильной обстановке, и где меня опять подлатали, но только более качественно).
Итог всей эпопеи: теперь я хромаю куда элегантнее, чем в Перу, и живу с Эллен, которая спасла мне жизнь и в прямом, и в переносном смысле; все то время, что у меня оставалось после волокиты с ногой, я монтировал и озвучивал отснятый материал, но получился не документальный фильм, как я изначально хотел, а какой-то странный гибрид, и я наложил поверх разные свои замечания да соображения в вольной манере и очень красивую музыку, частично записанную там, а частично – в Лондоне. Так уж вышло, что кое-кто видел фильм еще до того, как я кончил его монтировать, и его включили в программу Фестиваля в Брайтоне, который патронирует сама королева и который начнется 5 октября, я этого не хотел, но Эллен настояла, мол, иначе зачем вообще я поехал в Перу; не знаю, наверное, она права, но я не в восторге от того, что опять выступаю в этой дурацкой роли режиссера-с-большой-буквы, хоть фильм-то не обо мне, а может, и обо мне тоже, и потому я все же решил спросить тебя, с расчетом получить от тебя моральную поддержку, услышать твое критическое, надеюсь, мнение, и вообще, раз уж подвернулся случай после такого перерыва, не хочешь ли ты прилететь в Лондон числа этак 4-го октября, чтобы смотаться со мной в Брайтон, я был бы очень рад, а ты уж сам решай, хочешь ли и можешь ли.
Обнимаю.
М.








