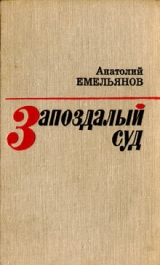
Текст книги "Запоздалый суд (Повести и рассказы)"
Автор книги: Анатолий Емельянов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Что делать мне? С каким бы удовольствием я убежал сейчас следом за Бардасовым!..
А Михаил Петрович, сидящий за другим концом стола, делает мне какие-то знаки. О чем оп? Просит слова. Пожалуйста.
– Слово имеет главный бухгалтер колхоза «Серп»…
– Поправочка, товарищи, поправочка! – робким голоском выкрикивает Михаил Петрович. – На счету в банке не двести пятьдесят тысяч, как сказал Яков Иванович, а двести пятьдесят три тысячи и триста двадцать пять рублей!..
Но никто, видимо, не понимает его:
– Что? Где! Какая поправочка? Двадцать пять рублей? Где?..
И Нины, которая только что сидела здесь, за столом президиума рядом со мной, нет. Куда она делась? Ушла, убежала… За мной, ссутулясь, прячется ольховский бригадир, потерянно сидит, опустив голову, самый почтенный наш тракторист Алексеев, к нему жмется доярка Шустрова Лена, совсем девочка… Нет, они не помощники теперь. И вот я уже решился подняться и говорить. Я не знаю, о чем буду говорить, не знаю еще тех слов, но я скажу не о хозрасчете, нет, я скажу, что только злые и неблагодарные люди, у которых помутился разум, так могут себе Бредить!..
– Комиссар! Эй, комиссар, дай-ка мне сказать!..
Голос женский, и это неожиданно как-то, странно. Однако очень он мне кажется знакомым, какие-то неприятные воспоминания роятся во мне, разбуженные этим голосом. Я еще не могу разглядеть женщины, которая идет к сцене, идет смело, на ходу разматывая платок, плюшевая черная жакетка блестит в свете электрических лампочек. Резким движением сдернула наконец платок с головы, сбились на сторону черные волосы, сверкнули холодно и остро черные глаза – Фекла! Фекла из Тюлеккасов! «Что будет!» – с ужасом мелькнуло в голове. Но уже поздно: Фекла стоит за трибункой!
– Мы, как я погляжу, чересчур добрые, – говорит она и вздыхает так глубоко, словно несла какую-то тяжесть и теперь сбросила ее со спины. – Слишком мы добрые… Ладно, заставили Бардасова написать заявление, надоел он нам, десять лет Бардасов да Бардасов. То ли дело раньше было: каждый год новый председатель! Правильно я говорю?
Зал напряженно молчал. К чему это она гнет?
– Эх вы хура-халых!..[ Xура-халых – народ, простолюдье.] – опять с тяжелым вздохом говорит Фекла. И кажется мне, что какая-то давнишняя слежавшаяся горечь вырывается из ее груди. – Глупые вы овцы. Здесь, когда надо хорошо головой думать, вы слушаете какого-то Казанкова, на которого в деревне плюетесь, за человека не считаете достойного. А тут ого слушаете и плюете на Бардасова, который столько нам всем добра сделал… Так я говорю или нет? Молчите! Так вот мое слово: прежде чем разбирать заявление Бардасова и выбирать нового председателя, я ставлю на голосование вопрос: выселить из Тюлеккасов позор нашей деревни – Казанкова! Голосуй, комиссар.
Раздаются робкие, короткие смешки. В задних рядах, где набилось плотно тюлеккасипцев, какая-то возня, стук стульев. И вдруг оттуда голос Казанкова:
– Не имеете права! Закону такого нету!..
Но Фекла, подавшись за трибуной вперед, гремит:
– А есть такой закон – клеветать на честных людей? Есть такой закон – подзуживать и мутить народ?
И опять ко мне: – Голосуй, чего ждешь?
Я поднимаюсь на деревянных ногах и говорю:
– Вопрос о Казанкове ставлю на голосование. Есть предложение…
А у самого в голове свербит: правильно ли это? Можно ли так? Но тут мне вспоминается его жена, как она пришла в партком перед своим отъездом, как плакала, какие слова говорила… И твердым голосом я продолжаю:
– Выселить клеветника и тунеядца Казанкова из Тюлеккасов!
– Не имеете права! Я буду жаловаться в Москву!..
Но под смешки, ухмылки на лицах, под редкие одобрительные возгласы женщин поднимаются все-таки руки. И рук этих все больше и больше. Какая сладкая минута!..
– Кто против? – весело спрашиваю я. И ни одной, даже несмелой, руки! – Единогласно! – сообщаю я. – А раз так, то Казанков может покинуть собрание.
Образумились люди, что ли? Пришли в разум? Отсюда плохо было видно, кто там подталкивал в спину упиравшегося Казанкова, да и люди все повставали, чтобы видеть это зрелище. Но вот опять отворилась и с громким стуком захлопнулась дверь. И мне подумалось: а ведь такого не могло бы случиться полгода назад, нет, не могло!..
– Ты кончила, Фекла? – кричат из зала. – Слезай) чего стоишь!..
– А поговорю еще, раз уж взошла сюда! – И встает поудобнее, а потом, словно спохватившись, наливает из графина воды и пьет, и это на самом деле как-то смешно у нее получается. Может быть, Фекла впервые в жизни говорит вот так, с трибуны? Да и то сказать, когда ей было и говорить? Двадцати двух лет, как я узнал, осталась она с тремя детьми, а молодой беспутный муж удрал на целину. Правда, говорили, что потом он приезжал, но Фекла не приняла его обратно, даже и видеть не захотела, на порог, говорят, не пустила, и он, пошатавшись по окрестным деревням в пастухах два года, уехал куда-то в Сибирь и как в воду канул. И вот одна она вырастила трех ребятишек, а старший, слышь, уже отправился нынче в армию. Вдова… Не о ней ли говорил сегодня Бардасов?
– Эсрелю[ Эсрель – злой дух.] не хватает мертвых душ, пуяну[ Пуян – богач.] не хватает добра. Так, что ли, у нас говорится? Так. Ну вот. Если сегодня отменить колхоз наш и разделить землю по колхозникам, кто ее возьмет? Если и возьмет, так один, может, Чиреп и позарится. Ему много надо. Никак он не насытится. Значит, Чиреп самый из нас хозяйственный мужик. Вот и сейчас место председателя свободно, давайте и выберем его, пусть командует! Правильно я говорю? – И заключила: – Ставь на голосование, Александр Васильевич!
Ай да Фекла! Как прекрасно вмазала той же самой дубинкой, которой Бардасова били! Ай да молодец!..
Клуб, словно бочка, наполнился смехом, сдержанным, но уже неукротимым, здоровым, как рожденье. И над кем смеялись? Над собой ли, над своей ли глупостью, в которую впали так дружно, или над Чирепом?
– Я заявления не давал, конешно, зачем надо мной смеяться!
– Догоняй друга своего Казанкова, вот что! – кричит Фекла перекрывая смех людей. И крик этот дружно подхватывается:
– Догоняй, правда! Два сапога – пара!.. – И так далее.
– А теперь, мужики и бабы, давайте серьезно говорить, – сказала Фекла, когда дверь и за Чирепом захлопнулась, а смех утих. – Потешились в субботу, а завтра ведь и работать надо. Не к Чирепу пойдем за деньгами-то, а в правление. Я все сказала, а теперь пускай умные люди говорят, какой у нас будет хозрасчет. Ты, что ли, Александр Васильевич, говори, больше, гляжу, тут некому сказать.
Вот так все повернулось неожиданно. И когда я начал говорить, я уже видел в зале разумных людей, людей, уже способных к трудному, но трезвому соображению о завтрашнем дне. И уже не было ни вопросов, ни реплик, ни подначек, по в глазах ясно читалось какое-то недоумение, какая-то растерянность виноватая, когда они обращались к пустому месту за столом, где сидел Бардасов. И всем, конечно, все было ясно и понятно в этом нехитром хозрасчете. Я мог остановиться где угодно и сказать: «Кто – за, прошу поднять руки», и руки бы поднялись. Но я повторил все то, что говорил Бардасов, сказал многое из того, что говорила Нина, да и то, что я видел и узнал сам в «Янгорчино», и все это было терпеливо выслушано, терпеливо и покорно. А потом, словно мстя кому-то, я попросил еще говорить и Михаила Петровича, и он обрушил на головы людей такой водопад цифр, словно читал свои годовые отчеты за несколько последних лет. И это было терпеливо выслушано.
Но мне было не до цифр, по до того, чтобы вникать в их неопровержимый смысл. Тяжелые мысли, на которых у меня не было ответа, ворочались в моем мозгу. Ну почему, почему моя чувашская деревня всякий раз долго сомневается? Почему она никак не может твердо решить, что трактор лучше хомута?.. В таких случаях райком делает поспешный вывод: запущена агитационная работа, партийная организация плохо работает с людьми… Обвинять легко, и критиковать работу других очень просто, критиковать прекрасно может и Казанков, и шорник Чиреп – и того лучше… Но не поступаю ли и я сам поспешно, с тем только умыслом, чтобы не поругали в райкоме? Да, партийная дисциплина, принцип демократического централизма делают нашу партию единой и крепкой, ко ведь это вовсе не отрицает бездумного исполнения решений и постановлений, такое исполнение хорошо выглядит только на бумаге, в жизни же оно часто оборачивается самой настоящей бедой. И ведь не решение, не постановление виновато, а паша манера ретивого исполнения, ретивого и бездумного, как будто централизм отменяет в человеке трезвое размышление! А без такого спокойного и хозяйственного размышления у нас, в сельском хозяйстве, просто невозможно, да, невозможно!.. Когда подметаешь двор, летит пыль, это верно, по почему мы спешим часто видеть пыль в вековом крестьянском опыте? И разве все решения Центрального Комитета отрицают его? Конечно же, нет! Наоборот! То и дело слышны наказы нам, партийным работникам на местах, чтобы мы разумно вели дело, поднимали хозяйства, повышали благосостояние людей и колхозов, а мы в какой-то странной спешке выскочить вперед, выслужиться перед райкомом ломаем дрова, держим за руку толковых председателей: сей кукурузу, сей горох, сей то. сей се! А это не смей, клевер – нельзя, люцерну – нельзя по науке! Но разве может быть единый научный рецепт для такой огромной страны, как наша? Если и может быть что-то научно единое, так это трезвый разум, трезвое соображение. А трезвое соображение должно знать, что оно не всеобще, оно должно иметь в виду, что мы здесь, сидящие по деревням, тоже думаем, работаем и кое-что знаем о своей земле. Пусть мы не сразу схватимся за кукурузу или за хозрасчет, пусть мне лично но выйдет медали за внедрение риса на полях колхоза «Серп» или за разведение дельфинов в кабырском пруду, но во я не откажусь от похвалы, если к «Серне» на будущий год древняя рожь уродиться под двадцать центнеров с гектара. Ведь трезвое соображение состоит в том, чтобы не разжигать сырые дрова. Неужели за то, что у меня не хватает ума запасти дрова впрок или просто лень, и вот пришла зима, и я мучаюсь с сырыми дровами, а в доме моем все равно холодно, неужели за эти только мучения меня хвалить надо? Кнутом меня надо вытянуть, вот что, а не хвалить, не медаль мне давать! Приглядись-ка, где у нас мучаются с сырыми дровами? Только если лодырь какой. У каждого во дворе поленницы дров на две зимы вперед, эти поленницы и сверху прикрыты досками, кусками старого железа с крыши, чтобы ни капли дождя на дрова не попало. И затопит хозяйка печь такими дровами – смотреть любо-дорого, а жару от таких дров!.. И никаких мучений вроде бы и пет. Да, мучений нет, а есть трезвое соображение о своей жизни. Вот за эту радость надо благодарить, а не изгонять ее, не ставить выше мучений по глупости, по лени. Впрочем, почему я жду этого «трезвого соображения» откуда-то? Я ведь и сам должен этим соображением руководствоваться в делах и в отношениях с людьми. Пусть спорят о «хусрасчуте», ведь для них это тайна почище космоса, ведь они живут не для того чтобы схватить благодарность, нет, впереди у парода – вечность, впереди будут и хорошие, благодатные годы, будут и гибельные засухи и градобои, и благодарностями от них не оборонишься, нет. Пусть спорят, пусть сомневаются, пусть все пробуют «на зуб», пока не убедятся в надежности «хусрачута», а когда они убедятся в его пользе, никакими клещами не выдерешь его из жизни, как не выдерешь сейчас из жизни электричество, машины!.. Нет, разум всегда победит, всегда возьмет верх, всегда будет править жизнью и торжествовать над глупостью!..
15А в правлении нестерпимое уныние. В председательском кабинете сидит Михаил Петрович, он перетащил туда все свои толстые, как осенние карпы, папки. Судя по всему, он поместился здесь не на день. Я спрашиваю у него, где председатель. Он пожимает плечами и даже не глядит на меня, и этот жест можно понять двояко: «не знаю» или «зпаю, да не скажу». Но при мне же на несколько телефонных звонков ответил:
– Бардасов в Тюлеккасах. – И тут же: – Бардасов в Ольховке.
Но я-то знаю, что нет Бардасова ни там, ни тут.
«Опять уехал куда-то, – подумалось мне. – Сейчас полным ходом идет ремонт техники, запасных деталей нет, вот и уехал».
Но не спокойно было на душе.
Потом мелькнула и другая мысль: «Не запил ли?» Я вспомнил, как еще осенью Гордей Порфирьевич мне сказал: «Ты за Якку присматривай, он ведь и сорваться может, это с ним раньше случалось». Но нет, я не видел Бардасова за все время пьяным. Правда, когда он возвращался из своих поездок, из «отхожего промысла», вид у него был довольно помятый, лицо опухшее, в глазах нездоровая желтизна, однако не с курорта же он возвращался, приходилось, конечно, ему подкреплять деловые беседы и щедрым застольем, это ясно.
Попался мне навстречу в коридоре и всезнающий наш пожарник Сидор Федорович, сдернул с головы военную шапку с темным пятном от звезды, закатил этак страдальчески глазки, вздохнул:
– Горим, комиссар, горим, ох!..
Но уж от него я меньше всего хотел услышать о том, где Бардасов и что с ним – противна показалась мне эта лукавая печаль. И я не стал расспрашивать, не показал любопытства.
А Нина меня просто поразила: так глубоко переживать!..
– Ты что, – говорю, – все ведь в порядке, ты зря убежала.
– Да ну их, я не потому…
– Почему же?
Молчит. Отвернулась, едва слезы удерживает, а молчит.
– Эх, молодось, молодось, как говаривал один мой знакомый.
Дернула плечом: отстань, мол, и без тебя тошно.
– Ладно, – говорю, – успокойся, все хорошо обошлось. Только вот Бардасов куда-то пропал, ты, случаем, не знаешь, где оп? – Ведь я сказал так, без всякой задней мысли, и чего она вдруг вспылила?
– Отстаньте вы все от меня со своим Бардасовым! У жены спрашивайте!.. – И такими гневными, злыми глазами на меня сверкнула, что я, честное слово, растерялся даже.
Потом сижу у себя и думаю обо всем этом. Почему – все? Почему – у жены спрашивайте?.. Ничего не пойму. Жену Бардасова, Евгению, я вижу редко, потому что она работает в больнице медсестрой, в правление, ясное дело, не ходит, а я в больнице еще, слава богу, гость редкий, и вот так встретимся на дороге раз в месяц, «тавдабусь» – «тавдабусь», – вот и весь разговор. Я даже как-то и не задавался вопросом, почему она всегда какая-то замкнутая, нелюдимая, с такими сурово-сдвинутыми тонкими бровками, со строго поджатыми в ниточку накрашенными губами. Ну, само собой, дом, семья, дети, у мужа такая беспокойная работа, а тут свои заботы больничные. Короче говоря, у меня было такое впечатление, что дома у Бардасова полный порядок, любовь и дружба, ведь такой хороший дом, все прибрано по-хозяйски, все удобно, чисто, уютно…
Но в чем же дело: «У жены спрашивайте!..» Да с таким каким-то скрытым страданием…
Тут у меня в голове – и сам не знаю почему? – завертелись всякие подозрения: отлучки Бардасова, поездки Нины и Бардасова в «Янгорчино», а еще раньше, когда однажды мы танцевали, ее какое-то спокойное, отрешенное настроение, будто не здесь она мыслями, а где-то в другом месте… И еще, еще – ведь это именно я их видел однажды вечером, когда ходил встречать Люсю, да, да, это были они: ведь я узнал «газик» председательский, узнал и Бардасова за баранкой, и помню – мелькнуло еще: куда же они с Ниной поехали так поздно? По мелькнуло и исчезло, не до того мне было, ведь Люся уже шла по дороге ко мне. И, конечно, я тут же все постороннее и забыл.
Но не хотелось верить мне в свои домыслы, нет, не хотелось, и я приказал себе все это выкинуть из головы, не мелочиться, да, не мелочиться, не искать «поля деятельности» в душах людей, не маленькие они, не дурачки, лучше меня понимают, что им делать и как быть, если что там между ними и есть.
Так я себя укоротил, старался забыть о Бардасове, не лепить его к Нине, Нину – к нему, я даже взял у Михаила Петровича сведения за январь и начал писать «Молнию»: «Ольховская бригада план января по удоям молока выполнила на 120 процентов! Слава ударникам труда!» Слава-то слава, да что с Бардасовым, где он? Нельзя же все-таки… Ладно, хватит, давай еще «Молнию»: «Тракторист Алексеев Михаил Николаевич на две недели раньше закончил ремонт своего трактора! Механизаторы, равняйтесь на передовиков производства!» Так хорошо. Но если он и завтра не появится в правлении? Появится, как это так не появится! Он же как-никак коммунист, да я его на партком!.. Ладно, стоп! Позвоню-ка я лучше в редакцию районной нашей газетки, передам заметочку.
– Алло, редакция? Это говорит секретарь парткома колхоза «Серп»… Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы вы напечатали заметочку, да, да, передовик… Ну, само собой! Записываете? Давайте. «Пример коммуниста». Это заголовок. Так, диктую. «Имя скотника Шустрова Бориса Михайловича хорошо известно в колхозе «Серп». В социалистическом соревновании он каждый месяц добивается высоких показателей…» И так далее.
Так, хорошо… А вдруг Владимиров позвонит испросит: «А где Бардасов?» Что я скажу ему? Не знаю, мол, Геннадий Владимирович, куда-то пропал. Нет, это черт знает что такое! Нельзя же быть таким капризным, в конце концов, как баба!..
В общем, много полезных я дел сделал за этот день, до которых в другие дни как-то руки не доходили, а вечером все и объяснилось. На ловца, говорят, и зверь бежит, так вот, не успел я занести дома ногу за порог, как гость ко мне: Анна Петровна, мать Бардасова!
– Может, – говорит, – дойдешь до нас? – И добавила, не очень, правда, уверенно: – Якку звал…
А когда шли по улице, она огляпулась по сторонам и тихо поведала:
– Запил Якку… Давно уж с ним этого не было. – И схватила меня за рукав. – Пойдем, сынок, ты уж его построжи, ну, поругай по своей линии. Меня совсем не слушает теперь, а Женьку близко не пускает, как зверь сделался. Ты уж поругай его. Как же так, разве можно ему пить? И на работу не ходил, колхоз бросил, ох-ох!..
Во дворе она долго прислушивалась к звукам в доме, по за светлыми окнами все было тихо, словно там не жил никто, а свет горел в пустых комнатах.
– Уснул разве? – прошептала Анна Петровна, но меня не отпустила, а повела на крыльцо.
Уже в сенях в пос мне ударил запах водки, и я вспомнил, как сам Бардасов с гневом говорил недавно совсем о пьяных неделях «поминок по свиньям». И еще вспомнилось: «Устал я, комиссар…»
Что я скажу ему? Какие отрезвляющие слова? Будь на месте Бардасова кто другой, тут я бы много не думал, нашел бы, что сказать, пригрозил бы выговором, обсуждением на собрании, товарищеским судом, – мало ли у нас средств устрашения! Но тут что скажешь?
Вот он сидит за столом, уставленным тарелками, стаканами, блестит начатая бутылка водки, а сам уронил голову на грудь и словно спит. Может, и в самом деле спит, и я уйду, а завтра, когда он протрезвеет… Но Анна Петровна, чувствуя, должно быть, во мне поддержку и защиту на всякий случай, с отчаянной строгостью выговаривает:
– Погляди, Александр Васильевич, полюбуйся! Это называется председатель колхоза!..
– Молчи, мать, молчи, – бормочет Бардасов и, откачнувшись от стола, оглядывается. И я вижу мутные, тупые, пьяные глаза его, опухшее лицо, перекошенные синие губы. – А, это комиссар! Ну, садись, посмотри, как отдыхает председатель, а старуху не слушай, э-э… Подай, мать, комиссару…
Я сажусь на краешек стула и говорю:
– Заболел, значат?
Он молчит, он смотрит на меня с какой-то недоброй кривой ухмылкой, одинаковой, впрочем, у всех пьяных. Наверное, он хочет оказать, что у него болит душа?
– Пьяный и трезвый общего языка не найдут, комиссар, а ругаться сейчас бесполезно. Ты бот сначала выпей, а потом мы поговорим. Вот, пей. – И он наливает мне в стакан. – Я привык, когда меня ругают, так что можешь не тратить слов. В районе ругают, в колхозе ругают, дома мать с женой душу вынимают, все им не так! Почему мне вздохнуть не дают, я спрашиваю? Не пей, не таскайся по бабам!.. А много я пью? Скажи, видел ты меня пьяным? То-то. По бабам!.. Гм, по бабам… Какие бабы? Где бабы?.. Да пошли вы все к такой матери. – Посидел, уронив голову на грудь, потом опять вскинул на меня тупой, мутный взгляд. – Скажи, может председатель раз в году отдохнуть пару дней или нет? У меня голова лопается от этого проклятого колхоза… А, да разве вы можете понять!.. Мать! Лине! Где водка? Подай! Слышишь, что я говорю? Вот так, комиссар. Что ты мне хочешь сказать?
– Ну что ж, отдохни, – говорю я. – Самое время отдохнуть – февраль, скоро будет весна.
– Не говори мне про весну, лучше молчи. – И он опять уронил голову на грудь.
Я встаю и ухожу.
– Пропадет Якку, пропадет! – вздыхает Анна Петровна. – Почему ты не отругал его как следует по своей линии?..
– Не пропадет, а поговорю я с ним, когда протрезвеет. Мне кажется, это ненадолго.
Но старуха твердит свое: пропадет Якку!
– Да что же ему пропадать? Вот протрезвеет и опять станет прежним.
– Плохо с Евгенией стали жить, плохо, – вдруг признается она и чуть не плачет. – Ты бы поругал его…
И я успокаиваю ее, обещаю непременно поругать. И еще говорю, что все наладится, все будет хорошо, не такой уж беспутный ее сын Якку, чтобы потерять голову, до свиданья, все будет хорошо, не волнуйтесь. И выхожу на улицу. Может быть, правда, очень поспешно, старуха обидится – ведь она так на меня надеялась, тащилась за мной через весь Кабыр… А что я ей скажу? Про себя даже ничего не знаю, про свою жизнь, а тут еще чужие дела интимные разбирать…








