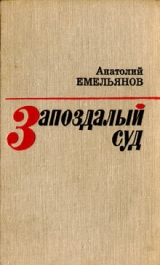
Текст книги "Запоздалый суд (Повести и рассказы)"
Автор книги: Анатолий Емельянов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
2
С четырех часов утра, это, считай, с восходом солнца, председатель колхоза Федот Иванович Михатайкин уже на ногах.
Любит Федот Иванович, еще до того как заявится в правление, еще до встречи с бригадирами и механизаторами на колхозном подворье, побывать на полях. Любит посмотреть и самолично убедиться, на каком поле земля уже поспела к севу, а на каком еще сыровато и, значит, надо погодить. Конечно, есть в колхозе и агроном, есть и бригадиры, и можно бы на них положиться. Однако же, чтобы на душе было спокойно, чтобы не вышло промашки, лучше видеть все собственным глазом. Да и хорошо, тихо ранним утром в полях, никто и ничто не мешает обдумать на день колхозные дела. Разумеется, еще и с вечера Федот Иванович уже знает, кто и чем будет завтра заниматься. Но прикинули они дела на завтрашний день с бригадирами в расчете на ясную погоду, а к утру, глядишь, пошел дождь, или наоборот – надо все заново передумывать. Недаром же старая крестьянская мудрость гласит: утро вечера мудренее.
Нынче день с самого раннего утра погожий, солнечный, и значит, перестраивать в намеченных планах ничего не надо. Надо только проследить, чтобы все в срок, в свой час выполнялось.
Возвращаясь с полей в деревню, Федот Иванович у самой околицы увидел в зеленях два пары гусей с гусятами.
«Кто-то рано позаботился посадить гусынь на яйца – гляди-ка, уже и выводки водят», – хозяйственно подумал Федот Иванович. Но тут же его мысли взяли другое направление. Всходы только проклюнулись, а эти милые пушистые гусятки их же под корень стригут. А уж если помет выкинут – на том месте и вовсе голое, выжженное место будет. И хозяин этих выводков все это знает не хуже председателя колхоза. Или, считает, это, мол, поле не мое, а колхозное…
Федот Иванович поднял с дороги тальниковый прутик и погнал гусей в деревню.
Ему не надо было спрашивать, чьи это гуси. Те сами нашли хозяина. Им оказался Петр Медведев.
Пришлось круто поговорить с Петром. Особенно возмутило Федота Ивановича, что тот начал оправдываться: много ли, мол, вреда полю могут принести этакие крошки. Будто он не знает, что прожорливее уток да гусей нет никого из всей домашней живности. Да дай им только волю – эти крошки выстригут половину будущего урожая.
– Запомни: еще раз увижу этих стригунов – самолично перебью всех до единого, и потом жалуйся хоть самому прокурору, – пригрозил Федот Иванович. – А то живет у околицы, и колхозное поле ему, как свое. Даже еще лучше, чем свое – на свое бы небось не выпустил.
Медведев – здоровенный, густо заросший рыжим волосом мужчина, воистину медведь – больше не перечил председателю, но видно было, что остался при своем убеждении. Это Федота Ивановича окончательно вывело из равновесия: он готов был хоть сейчас, немедленно порешить врагов колхозного урожая. И чтобы не наговорить лишнего или, того хуже, не сделать вгорячах опрометчивого поступка, Михатайкин резко повернулся и зашагал прочь от дома Медведевых.
Натоптанная тропа привела его, через огороды, к широкому оврагу. Овраг вытянулся на добрых два километра и, постепенно углубляясь, выходит к самой Суре.
С этим оврагом у Федота Ивановича связаны большие планы.
Три года назад овраг был перегорожен земляной насыпью, образовался пруд, в который были запущены карпы, и прошлой осенью рыбаки уже вытаскивали рыбины на три, а то и на четыре килограмма. И в этом году решено было повыше первого запрудить еще два пруда. Тут уж пахнет не одной рыбой. Из верхнего пруда легко будет наладить поливку двенадцати гектаров хмеля. Двенадцать гектаров вроде бы не так уж много. Но так может рассуждать только человек никогда не видевший хмельника. Плантация хмеля даже в один гектар может приносить больше дохода, чем обыкновенное хлебное поле в полсотни гектаров! А кроме хмеля, по обеим сторонам оврага, можно будет высаживать и самые разные овощи – капусту, огурцы, помидоры, благо, что на полив воды будет вдосталь. Полувысохший овраг должен приносить колхозу доход! Город рядом, те же огурцы или помидоры только успевай возить. Ну, а для денег, как говорится, место всегда найдется.
Однако же вот он, овраг, а вон и начатая плотина, но почему такая звонкая тишина здесь стоит, почему гула моторов не слышно?
Федот Иванович подошел к приткнувшимся друг к другу двум бульдозерам, и ни в их кабинах, ни вокруг никого не увидел.
«Ну и трактористы! Ну и барчуки! Седьмой час, а они еще и не начинали работать, они еще в теплых постелях с женками нежатся…»
Немного улегшееся возмущение вновь завладело Михатайкиным. Он почувствовал, что у него даже руки нервно вздрагивают. И не зная, не видя, на ком бы сорвать злость, он, пройдя склоном оврага еще немного, увидел работающую на своем огороде Розу.
«Вот еще одна лентяйка! На колхозной работе ее нет, а на своем огороде, смотри-ка, спозаранку копается…»
И он ускорил шаг.
Подойдя ближе, Михатайкин увидел, что Роза сажает картошку под лопату, и это зрелище доставило ему некое самолюбивое удовольствие. Так-то!
– Ну, что? Теперь-то поумнела? Лодырям, которые только числятся в колхозе, а не работают, я не давал жизни и не дам!
Роза выпрямилась и обернулась на голос. Похоже, она то ли не сразу уловила смысл сказанного, то ли ее сбил с толку веселый топ, каким разговаривал с ней председатель. Во всяком случае, и лицо, и вся фигура Розы выражали полную растерянность.
Да, нежданным-негаданным был для Розы приход председателя колхоза, потому не сразу дошел до нее и смысл его слов. Поставив ногу в черном чесанке на нижнюю жердину изгороди и ухватившись обеими руками за верхнюю, он глядел на нее и как-то странно улыбался. Попробуй разбери, что должна означать эта улыбка!
Роза тоже какое-то время молча смотрела на Михатайкина, а потом снова взялась за лопату и принялась копать. Ей хочется скрыть свою растерянность, хочется показаться спокойной и даже безразличной. Но уж о каком спокойствии можно говорить, когда все внутри у нее напряглось, натянулось, как струна. Копать-то она копает, но против воли нет-нет да и поглядывает на Михатайкина. Поглядывает, не поднимая головы, и видит только его чесанок, которым он придавил осиновую жердь, так придавил, что та прогнулась почти до самой земли и вот-вот сломится. Ах, этот проклятый чесанок! Недаром в деревне можно слышать: «Что ты, как Михатайкин, летом в чесанках ходишь»…
– Лентяйка ты, Роза, – слышишь, что я говорю? – первой лентяйкой на деревне стала. Потому и муж от тебя уехал… А теперь гни спину, ковыряй землю-матушку – это потяжелей, чем с сумкой через плечо в помощниках бригадира ходить… Ковыряй, и лошади у меня не спрашивай. Умолять будешь – не дам. Вот так!
Все так же молча и по виду спокойно, Роза продолжает рыхлить землю. Не вспаханная с осени земля заплыла, затвердела, на лопату приходится надавливать носком сапога. Вместе с влажными комками земли на поверхности появляются розовые черви – дождевики и, почувствовав свою беззащитную оголенность, начинают неистово извиваться, стараясь поскорее снова спрятаться в землю. Подобно этим червям, и Розе тоже бы хотелось куда-то спрятаться, хоть под землю скрыться с глаз разъяренного председателя.
Все соседи уже давно посадили на своих огородах картошку. А ей бригадир, сколько ни упрашивала, так лошади и не дал: председатель запретил – как я могу его ослушаться?! А теперь вот и сам председатель пришел и измывается над ней. Роза понимает, что особенно злит Михатайкина ее молчание, но какой разговор может быть с человеком, который вместо того чтобы помочь ей в трудном положении, думает только о том, чтобы потешить свое председательское самолюбие! Ему нет дела до ее горя, до ее беды, он знает только себя самого…
– Ты что, оглохла, что ли? – Так и есть, Михатайкина приводит в ярость ее молчание. – Или ты себя считаешь даже выше председателя колхоза? Где так языком чешешь не хуже старой девы, а тут молчишь, словно воды в рот набрала…
Роза делает последнее усилие, чтобы сдержаться. Но чуть подняв глаза от лопаты, она видит, что чесанок все так же давит, гнет жердину, и ее охватывает чувство, будто председатель колхоза своим чесанком давит на душу, на ее исходящее горем сердце. Нет, выносить этого она больше не в состояппп!
Роза резко выпрямляется, откидывает за спину свесившуюся на грудь косу и, зло прищурив горящие болью и ненавистью глаза, делает шаг, второй к Михатайкину.
– Слушаю тебя и вот о чем думаю, – Роза остановилась на полоске люцерны перед председателем и прямо, дерзко посмотрела в его непроницаемо черные глаза. – Нас в школе учили, что улбутов, помещиков, в семнадцатом году всех прогнали. Теперь я вижу – новые появились…
– Ну-ну! – прикрикнул Михатайкин, – Говори, да не заговаривайся!
– Не нукай, еще не запряг! – отрезала Роза. – Так вот ты самым настоящим улбутом в нашей деревне себя чувствуешь. Что хочу, то и ворочу! Мало тебе того, что лошади не дал, заставил лопатой огород копать, – еще и пришел измываться… Погоди, допрыгаешься, насытишься – подавишься…
Роза и чувствует, понимает умом, что не надо бы этого говорить, что она только себе хуже делает, по уже не может сдержаться.
– Такими лодырями, как ты, я уже давно сыт, – продолжает свое Михатайкин. – Все здоровье с вами потерял, все нервы растрепал… Говорить все научились, а работать за них должен председатель…
Тут Михатайкин остановился на секунду и, то ли что-то вспомнив, то ли сейчас вот, в эту самую секунду решив про себя, уже другим, более ровным голосом закончил:
– А тебе я вот что скажу: не мучайся, не рой!
Роза ушам своим не поверила: уж не сжалился ли над ней председатель?
– Не рой, – повторил Михатайкин, – потому что огород я у тебя все равно отберу. Так что иди-ка домой да приляг с дочкой, отдохни. Так лучше будет.
– Эго ты иди да ляг со своей бухгалтершей, – взорвалась Роза. – Пьянствуйте, веселитесь, грабьте колхоз!
– Ах ты с-с-сука! – вне себя от ярости просвистел Михатайкин. – Может, ждешь, чтобы к тебе пришел? Не дождешься! Плевать я на тебя хотел. Орел на мышей не охотится. А за свои слова – без последних заработанных дней останешься. Вот так!
– Пробовал приставать, да не вышло. Не все кобылы отвечают на ржанье таких старых жеребцов, как ты.
– Ты вон как заговорила! Оштрафую на десять дней – по-другому запоешь, курва!
– Штрафуй! Наживайся! Пусть колом в твоем горле станут мои дни. – Роза словно с горы катилась и но могла уже остановиться.
– Не бойся! В волчьем горле воробьиная кость не застревает. А и застрянет – сумеем проглотить… Еще раз говорю: не трать зря силы, иди домой. – И как последний кол забил – Вот так!
Председатель ушел той же дорогой, что и пришел. На строительстве плотины с громом и треском взревели моторы бульдозеров. Должно быть, пошел давать накачку поздно явившимся на работу бульдозеристам.
А Роза как стояла на полоске люцерны, так и осталась, словно ноги ее вросли в землю. Какое-то время она бессмысленно провожала взглядом торопко шагающего склоном оврага Михатайкина, потом зачем-то посмотрела на свои, в кровяных мозолях, ладони, перевела взгляд на огорожу и лишь после этого упала грудью на осиновую жердину и горько, навзрыд, заплакала.
Она не помнит, много ли, мало ли времени так проплакала. Голова была в каком-то горячем тумане, мысли путались, и от обиды, от сознания полной беспомощности, сердце готово было вот-вот разорваться.
Но вот в ее затихающие рыдания словно бы стал вклиниваться, вплетаться еще чей-то тоже горький, отчаянный плач. Роза умолкла, прислушалась. Да ведь это же проснувшаяся дочка плачет!
Прихватив лопату, Роза стремительно пошла, почти побежала огородом к дому.
Да, конечно, дочка Галя проснулась в своей кроватке и, не видя, не слыша рядом никого, горько, безутешно расплакалась.
Роза взяла с веревки сухую пеленку, завернула в нее дочку, дала грудь. Девочке скоро два годика, давно бы надо отнять от груди, но уж очень она болезненная, бледненькая, худенькая – жалко. Врачи признают врожденный порок сердца и говорят, что девочке нужен особен по внимательный уход, а как может Рола за ней заботливо ухаживать, если приходится разрываться на части между колхозной работой и повседневными домашними хлопотами да заботами! Вон председатель и так лодырем называет за то, что она ходит в колхоз не каждый день…
При воспоминании о Михатайкине перед глазами Розы встала недавняя их перепалка, и словно бы свет померк в глазах от вновь подступившей к сердцу обиды.
Будто не знает, не помнит председатель, как она работала в колхозе, когда у нее не было Гали. Попрекнул сумкой через плечо. Да, когда укрупняли бригады, делали их комплексными, она два года ходила в помощниках бригадира. Но что она, сама, что ль, выпросила эту должность? И разве после этого, когда бригады вновь разукрупнили, не ходила она вместе со всеми на любую рядовую работу?!
Из конюшни донеслось протяжное мычание теленка.
Вот, лишнюю минуту с ребенком посидеть и то некогда. Надо готовить болтушку с пахтаньем. И ведь кормила сразу же после дойки – уже успел проголодаться. Зря, пожалуй, она оставила теленка, зря пожалела, надо бы прирезать – лишние хлопоты, а их и так хватает.
Роза опять уложила дочку в кроватку.
– Спи, Галеньку, усни…
А когда принесла пойло теленку – в соседнем с конюшней закуте, учуяв запах съестного, завизжала свинья. Теперь, хочешь не хочешь, надо и ей что-то давать.
Накормив скотину и вернувшись в избу, Роза почувствовала, что и сама голодна. Солнце вон уже где, а она еще не завтракала, разве что стакан парного молока после дойки выпила. Однако же готовить горячий завтрак – много времени потеряешь, а оно не ждет, огород не ждет, надо копать. Так что поест она кислого молока с хлебом, да и ладно, до обеда дотянет.
Роза вытащила из погреба глиняную корчажку с молоком, поставила на стол. Молоко заквасилось удачно и село «стулом», хоть ножом режь, как масло. И пенка сверху не подгорела, а только зарумянилась.
Но не успела Роза хлебнуть и трех ложек, как услышала где-то за домом, на огородах, гул трактора.
Уж не ее ли огород кто приехал вспахать?.. Нет, конечно. Чудеса бывают только в сказках. Наверное, кого-то председатель прислал рыхлить междурядья на плантации хмеля… Постой, постой. А ведь она вчера разговаривала с одним из бульдозеристов, работавших на плотине, и он обещал где-нибудь раздобыть плуг и вечером вспахать ей огород. Обещал, правда, не твердо, да к тому же и нездешний он – из какой-то районной организации по просьбе Михатайкина его сюда с бульдозером на время прислали. Но вдруг это именно он и прикатил к пей на огород?! Вдруг у него какой-то свободный час выпал?.. Только как же человек мог въехать на огород без хозяина, ведь можно бы, наверное, сказать…
Роза положила ложку, которой хлебала молоко, и, дожевывая на ходу откусанный хлеб, выбежала из дома.
Да, трактор гудел на ее огороде!
Между двором и картошкой отец Розы когда-то посадил сад. Полтора десятка яблонь и молодое вишенье постепенно так разрослись, что теперь заслоняли своими ветками тропу, которая вела на картофельный участок.
Смутная тревога охватила сердце Розы, и она летела стремглав, как когда-то в детстве, не обращая внимания на то, что ветки больно бьют по лицу и рукам.
Да, трактор работал на ее огороде, но что это был за трактор и что он делал?..
На половине огородного участка два года назад дед Ундри по просьбе Розы посеял люцерну в смеси с овсом. В первое лето вырос один овес, а в прошлом году уже был собран на удивление богатый урожай люцерны. С каких-то десяти соток за три укоса набралось восемнадцать копен, и этого корма хватило корове на всю зиму с избытком.
И вот теперь Роза видела что-то дикое, непонятное, никак не укладывающееся в сознании – она видела, как трактор-бульдозер рушит, уничтожает участок люцерны, сгребая верхний слой в одну кучу. А в разломе ограды, через которую, должно быть, и въехал бульдозер, стоит со скрещенными на груди руками Федот Иванович Михатайкин. Стоит, смотрит на ужасную работу машины и довольно улыбается.
У Розы перехватило дыхание, и она на секунду остановилась, но тут же побежала дальше, к бульдозеру. Она плохо понимала, что с пей происходит, она не знала, что сделает в следующий момент. Она знала только, что кричать бесполезно – за ревом мотора ее все равно никто не услышит – и, значит, надо было что-то делать, делать немедля, вот сейчас же, сию же секунду.
Огромным железным зверем двигался на нее бульдозер, словно бы сдирая кожу с земли, выворачивая длинные желтые коренья люцерны и перемешивая их с нежной зеленью.
Не успев хоть как-то осмыслить свой поступок, по успев подумать, что может быть поранена или изувечена – Роза как бежала, так и легла перед бульдозером. Страшная заслонка наползла на нее, оттолкнула вместе с землей и остановилась. У самого уха грохочет мотор, от этого могучего грохота содрогается под Розой земля, на гребне заслонки подпрыгивают золотые корни загубленной люцерны, похожие на раскромсанный на куски хвост еще живой змеи.
– Уж лучше меня самое раскромсайте, – крикнула Роза.
И, видя, что тракторист открывает дверцу и вылезает из кабины, вскочила и бросилась к нему.
– Валька? Ты ли это? Негодяй! Ах, негодяй бессовестный! Чтобы угодить председателю, совесть свою продаешь!
Валька стоял и молчал. Стоял, тяжело и низко, как захмелевший человек, опустив голову, не подымая на Розу глаз. По лицу, из-под шапки, обильно тек пот, но он и пот не вытирал, словно не мог, не в силах был поднять руку.
Увидев нерешительность тракториста, Михатайкин широко зашагал к бульдозеру.
– Чего стал? – как бы не замечая Розы, сердито спросил председатель у тракториста. – Руши! Сгребай! Видишь, какая жирная земля. Добавим в нее навозу – добрый компост получится.
Валька ничего не ответил председателю, а полез в кабину, заглушил мотор и как сел на сиденье, так и остался, закрыв ладонями лицо.
– Волк ты, а не человек! – теперь накинулась Роза на Михатайкина. – Зашил бы лицо-то сукном перед тем, как идти сюда. На, убей лучше меня, чем издеваться над землей. Или заставь, чтобы убили! Прикажи. Работнички на подхвате у тебя есть.
– За «волка», за оскорбление личности – ответишь перед судом, – почти спокойно ответил Михатайкин. – Там тебя научат уму-разуму. А огород твой отобран решением правления. Так что кричи не кричи – теперь ничего не сделаешь, поздно.
Спокойствие председателя словно бы еще больше распалило Розу.
– Подлец ты после этого. Только не слишком ли расхозяился?! Дойду до прокурора, но управу на тебя найду!
– Заодно и в райком можешь зайти. Скажи им – и прокурору, и райкомовцам, что я их вот ни на столечко, – Михатайкин показал большим пальцем на ноготь мизинца, – не боюсь. Валька! Чего заснул? Заводи мотор, продолжай! Нечего на бабьи истерики внимание обращать.
Спокойствие все же начало покидать председателя: правая щека нервно передернулась, глаза загорелись холодным сухим огнем.
Валька вылез из кабины, стал рядом. Лицо его было в масляных полосах. Он провел рукой по потному лицу, измазал его еще больше и хрипло, словно бы выдавливая из себя слова, проговорил:
– Федот Иваныч, не могу.
На секунду он поднял смущенный взгляд на Михатайкина, перевел на Розу и опять низко опустил голову.
Сочувствие тракториста прибавило Розе силы.
– Земли тебе, что ли, стало не хватать?! Потерпи немного, получишь на веки вечные свои три аршина. Вот тогда народ вздохнет свободно.
– Не народ, а лодыри вроде тебя… Валька! Кому сказано – руши!
– Не могу, Федот Иваныч, – тракторист стоял все в той же растерянной позе и не двигался с места.
– Ага, значит, не можешь? Добре. Считай, что с этого часа ты уже не тракторист. Отведи машину к плотине и поставь там. Я найду нового тракториста. А ты – свободен. Можешь идти на все четыре стороны. Можешь хоть свиней пасти, хоть быкам хвосты крутить. Вот так! – И, повернувшись к Розе, добавил: – А ты ни слезами, ни криком меня не возьмешь. Сказано – сделано.
– Ты сделаешь. В твоих руках власть… Может, тогда и дом предашь огню или совсем прогонишь из деревни?! Может, и ребенка жизни лишишь?..
Роза почувствовала, как слезы опять закипают в горле и начинают застилать глаза. Не в силах совладать с собой, она резко рванула ворот платья и, с искаженным от боли и отчаяния лицом, пошла прямо на Михатайкина, словно хотела смять, затоптать его.
– На, убей!
– Ты мне не разыгрывай спектакль! – огрызнулся Михатайкин, но отступил перед разъяренной Розой.
И, как бы поняв, что если уж он отступил, то, значит, и нет смысла продолжать дальше разговор, сразу же круто повернулся и пошел огородной тропинкой в улицу.
Постепенно успокаиваясь, Федот Иванович шагал улицей деревни. Какое-то время перед ним стояло страшное в своем гневе лицо Розы, потом его заслонила смущенная, растерянная фигура Вальки-тракториста.
То, что тракторист ослушался его председательского приказа, подействовало на Федота Ивановича, пожалуй, даже сильнее, чем слезы и душераздирающие крики Розы. Непослушание Вальки прямо-таки ошеломило, сбило с толку. Ведь не было – еще ни разу не было – такого. И если так дальше пойдет – куда же может прийти? Какой же он тогда председатель, голова колхоза, если какой-то тракторист считает возможным не слушаться его?! Нет, так этого оставлять нельзя. Он сегодня же соберет правление и сегодня же снимет Вальку с работы. Снимет обязательно через правление, чтобы какому дураку или вот такой Розе но пришло в голову сказать, что Михатайкин занимается самоуправством.
А может… может, он и в самом деле переборщил во всей этой истории с огородом? Как ни что, а сдирать землю, да еще засеянную, – не очень-то хорошо, не очень-то по-крестьянски… И если Роза кругом не права, то Валька-то, может, прав?
Федот Иванович почувствовал, как в его доселе бестрепетное, ожесточившееся на тяжелой председательской работе сердце холодным ужом начинают заползать тревога и сомнение.
Нет, нельзя расслабляться! Нельзя давать волю всяким сторонним чувствам. Дело – прежде всего! А интересы дела, интересы трудовой дисциплины требуют немедленного и сурового наказания не подчинившегося его приказу тракториста. Валька нынче же должен быть отстранен от работы! Вот так. И не иначе.
Вдоль нижнего порядка, навстречу Федоту Ивановичу шел электромонтер Ванька Козлов – стройный, подбористый, еще совсем молодой, ео всяком случае, моложе своих тридцати лет. Ванька на все руки мастер. И не только в работе. Наградил бог парня хорошим голосом. И когда затевается какая-нибудь гулянка, веселье, Федот Иванович обязательно разыщет его и с удовольствием слушает Ванькины песни. Злые языки даже зовут парня «председателевым артистом». Ну да на чужой роток не накинешь платок.
Подпоясан Козлов широким брезентовым ремнем с цепью, на плечах – когти, в руке – моток шнура – картина, а не парень. И идет-то, сукин сын, как – не идет, выступает: когти позвякивают, цепь на каждом шагу этак красиво по бедру ударяет.
– Здравствуй, Ванюша! – Федот Иванович дружески хлопает Козлова по плечу. – Как раз дело тут одно тебя ждет. Так что вовремя угадал.
– Всегда готов, Федот Иваныч! – Ванька, дурачась, вскидывает по-пионерски руку к голове.
– Иди сейчас же отрежь проводку у Розы.
– Зачем и почему? – парень явно удивлен.
– Ну вот, то «всегда готов», то «зачем» да «почему»! Сказано – значит, надо выполнять… Решение правления, Ванюша. Лодырям, не работающим в колхозе, не даем и света. Давай шуруй!..
В дальнейшие пояснения Федот Иванович не пускается. Он еще раз хлопнул Ваньку по плечу и, не оглядываясь, зашагал дальше своей дорогой. Оглядываться нет нужды: Ванька – не Валька, все сделает так, как сказано, можно не сомневаться.
Козлов и впрямь не очень долго размышляет над председательским приказом, хорош он или плох. Приказ сеть приказ, и если сказано отрезать – значит, надо отрезать.
Цок, цок! – поднимается Ванька на столб. Поднялся. Хвать! – отрезан провод. Зазвенела, падая на землю, проволока, ударилась о кусты вишен, об ограду и, извиваясь змеей, легла в траву. И долго летит по линии, слышен по всей улице звенящий звук. Словно бы по всей деревне по проводам катится председательская злоба.








