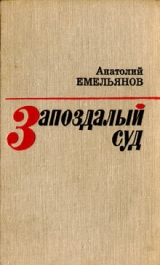
Текст книги "Запоздалый суд (Повести и рассказы)"
Автор книги: Анатолий Емельянов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Я еще у матери в Хыркасах ни разу не побывал с тех пор, как живу в Кабыре. Конечно, если бы что-то случилось, мне бы сообщили, и я утешаюсь тем, что у мамы все в порядке. Другое дело – Надя… Наверное, она сильно огорчилась, ее вряд ли утешило мое письмо. Нет, надо обязательно в ближайшее воскресенье сходить в Хыркасы, обязательно!..
Так я говорю себе, а в мыслях вовсе другое. Что? – конкретно и сказать нельзя, потому что за один только день в такую прорву колхозных дел и забот приходится встревать, что и не перечислишь. И ведь не просто так – встрял, и все, забыл, нет. Они сидят в тебе, ты вспоминаешь их, и все кажется, что не те слова сказал, не так сделал, а так бы надо было. Вот никак не могу «переварить» и дело Казанкова, как я про себя называю партийное собрание в тюлеккасинской бригаде. За себя-то, что бы он там ни наговорил в злобе – сопляк, преданный пес секретаря райкома и так далее, я не особенно и обиделся, – из-за собачьего лая, как говорится, соловьи петь не перестают. Но в своих кляузных формулировочках он так наловчился, что всякий здравый смысл тут бессилен. Оказывается, что Казанков и другие достойные люди его поколения (Гордей Порфирьевич не в счет, Гордея Порфирьевича он обозвал врагом народа) построили для нас социализм, распахнули нам двери в коммунизм, а мы, нынешняя молодежь, ломимся в эти двери как орда варваров, мы топчем в грязи их, именитых старых людей, не жалевших для нас своих жизней, своей крови! Так и оказал: «Мы не жалели для вас своих жизней, своей крови!..» Да, все это записано в протоколе, вот, пожалуйста, я не ослышался, мне не приснилось. «А тех, кто не сдается, вы сообща травите, предаете позору, выискиваете малейший повод, чтобы избавиться от пас, чтобы уже спокойно творить свои темные делишки…» Какие темные делишки мы творим? Мое поколение построило Братскую и Красноярскую ГЭС, покоряет Север и Сибирь, добывает в гиблых местах нефть, строит газопроводы в непроходимых лесах, железные дороги, создает космические корабли… Разве это «делишки», да еще и «темные»?.. Но допустим, что все это делает лучшая часть молодежи. Но ведь и все остальные не зря свой хлеб едят, они работают в таких вот колхозах и совхозах трактористами, шоферами, агрономами, да мало ли кем и где не работают люди двадцати, тридцати лет. Конечно, у нынешней молодежи не все в идеальном порядке, мы не испытали тяжести прошедшей войны, не испытали голода, детство наше было беззаботно и ясно, теплое и сытое. Но что из этого? Разве мы боимся работы, боимся трудностей? Да, молодежь нынче пошла умная, потому что все силы ее употребляются не на борьбу с голодом и холодом, а на учебу, потому что ведь, чтобы строить тот самый коммунизм, куда «распахнул» двери Казанков, надо слишком много знать, одной лопатой эту стройку не осилишь, нет, не осилишь…
Не знаю, насколько складно все это у меня сказалось на собрании, однако следом и у других развязались языки. Вспомнили ему и корову, и дом из липы, и напрасные поклепы на сельсовет, на райком, а та самая бойкая востроглазая и круглая, как репка, Фекла, которая налетела в поле на Бардасова, теперь с неменьшим пылом налетела и на Казанкова. Оказалось, что она заведует здешней фермой, на ферме работает жена Казанкова, и вот Фекла корит его, что на жену его стыдно смотреть, в одних рясках ходит, а ты, мол, все деньги у нее отымаешь! И вот вроде бы говорила-то она все вещи бытовые, домашние, но так яростно, что все высокие слова перед ее выступлением как-то поблекли. В самом деле, если от Казанкова «отказались» даже сыновья, то что тут и говорить!
Но вот чего я никак не мог дождаться: при всех обличениях ни один не сказал, не внес предложения исключить Казанкова из партии. Хотя я перед собранием и толковал об этом с бригадиром, но Яковлев как-то неопределенно поддакивал, а теперь и вовсе молчал, тупо склонив лысую голову. И как было не вспомнить мне Владимирова! Привычку сельских чувашей не выносить сор из избы, не ронять своих земляков в глазах посторонних, пусть даже этот земляк достоин самой суровой кары.
Владимиров называет в шутку «хамыръялизмом», от слова хамыръялизм, то есть односельчане, земляки. Видно, это землячество и тут давало себя знать. Потеряв надежду дождаться решительного слова от бригадира, я стал весьма недвусмысленно поглядывать на Гордея Порфирьевича, и тот, конечно, понял меня, что я жду, но молчал. Выручила меня все та же Фекла. Когда я, потеряв всякое терпение, спросил, что же мы будем делать, какое примем решение, она бойко оттараторила:
– Да какое решение, выгнать, вот и все решение!
Других предложений не оказалось.
И вот я смотрю, как поднимаются руки в голосовании. Большинство – смело, без колебаний, по некоторые… еле-еле, будто через силу, опустив головы, точно боялись, что увидит Казанков. А тот и в самом деле держался молодцом, а уходя сказал:
– Все это мартышкин труд!
И всем нам было ясно, что не обойдется без очередной серии писем во все партийные инстанции, начнутся новые разбирательства, телефонные звонки, разные выяснения фактов. А факты? Ведь в тех инстанциях, куда напишет Казанков и где его еще могут не знать (хотя вряд ли осталось такое место), люди будут иметь дело только с отражением происшедшего, да и то с таким, какое будет в апелляции Казанкова. И первая мысль, которая возникает у тех людей, будет: обидели заслуженного человека, обидели. В самом деле, исключили человека из партии за непосещение партийных собраний, но человек-то ведь старый, больной, ему трудно ходить из своей деревни на центральную усадьбу, где проводятся партийные собрания. А новый секретарь молодой, скажут те люди, погорячился, поспешил, надо поправить,. Разве бы я сам не подумал бы прежде всего именно так? А Казанков, конечно, не новичок, он поднаторел в составлении таких бумаг, он отлично знает, что, если в самой несуразной жалобе будет хоть один достоверный факт самой многолетней давности, его ни одна прокуратура не сможет обвинить в том, что он пишет неправду. Спросят: было? И волей-неволей мы, словно выпрашивая у Казанкова прощения, должны отвечать: да, было…
Но вот я сам не пойму: отчего это я в своих рассуждениях беру в расчет не трезвый подход, не трезвое решение вопроса, а все с поправкой на возможную мерзость? Может быть, я и в самом деле не прав? Может быть, мы поспешили с исключением Казанкова? Может быть, это и в самом деле достойнейший человек? Какой особый грех в том, что он продал корову и купил пишущую машинку? – любой человек волен распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Жена, сыновья? – но кто наверняка может сказать, кто тут прав, а кто виноват? О, тура, тура!.. [9]9
О, боже!..
[Закрыть]И на память мне приходит Красавцев: «Молодось, молодось…»
Надя пытается улыбнуться, но разве можно спрятать улыбкой свои горькие разочарования?
– Значит, счастье наше такое…
– Я постараюсь перевести тебя в кабырскую школу, может, им нужен биолог. Я опрошу.
Надя усмехается – ирония, одна ирония, больше ничего.
– Какие места в середине учебного года.
Она права, и я это хорошо знаю. Но что же делать? В конце концов она может пожить и в Хыркасах, в нашем доме, да, у моей мамы.
– Разве я ужо твоя жена? У меня и свой есть дом в Хыркасах.
– Но пойми, я не виноват, выбрали, что было делать… – Я оправдываюсь, оправдываюсь как мальчишка, и мне самому противны свои оправдания: не виноват, выбрали!.. Как мальчишка.
Мы стоим перед Надиным домом, света в окнах нет, должно быть, отец и мать ушли куда-то. А мой дом напротив, через дорогу. Но Надя не приглашает меня к себе, хотя и дождик накрапывает – мелкий и холодный. Она под зонтиком, и мне кажется, что она нарочно опускает его так низко – загораживается от меня, сердится. А что сердится? Ведь я не переменился, а Кабыр, если разобраться, ничем не хуже нашего райцентра…
– А сказать по правде, что ты находишь хорошего в своей партийной работе?
Вот оно что!
– Ладно бы не было специальности, – продолжает Надя ровным и спокойным голосом. – Неужто тебе так хочется разбирать все эти кляузные дела? Да и вообще. Люди работают, что-то делают, ну, коров доят, картошку копают, а твое дело какое?
– Знаешь, у нас есть такая песенка на мотив из индийского фильма «Бродяга»: «Инструктор я, инструктор я, никто нигде не ждет меня…»
– Перестань дурачиться, – резко обрывает меня Надя. – Я говорю вполне серьезно.
– Партийная работа, Надя, точно такая же, как и твоя, учительская. Только нам приходится иметь дело и с детьми, и с [взрослыми, а это иногда бывает гораздо труднее, ведь не поставишь же пятидесятилетнему человеку двойку, не скажешь: приди завтра с родителями. Если ты любишь свою работу, почему же мне нельзя любить свою?
– Люби, конечно, люби, я не хочу мешать. По мне хоть…
Но она не договорила, она замолчала и отвернулась.
Вот так раз! Первый крупный разговор. Но меня-то уже зацепило за живое. Разве счастье наше только в квартире со всеми удобствами? Ну и черт с ней, чтоб она «сгорела», я же все равно не бездомный бродяга! Да, по бездомный! В конце концов, даже вот этот родительский дом – мой дом. Не дворец, да, не дворец, я не спорю, но дом, в котором я сам вырос, выросли и два мои брата и вполне может вырасти и мой сын. Почему бы ему не расти в этом отцовском доме? Да и не слишком ли мы, сельские интеллигенты, стали привередливыми в вопросах личных благ? Не забыли ли мы свое гражданское назначение?
Но Надя не намерена слушать мои лекции. Я могу их читать в кабырском клубе. К тому же ей холодно. И она нетерпеливо дергает зонтик. Она уходит.
– Надя, куда же ты? Подожди.
И она останавливается. Она даже говорит:
– Такие горе-патриоты, как ты, перевелись давно, и сейчас все это выглядит довольно глупо. Или ты валяешь дурака, или что-то скрываешь.
– Ничего я не скрываю и говорю вполне серьезно. Но я не думаю, чтобы ты говорила серьезно.
В ответ она только смеется, да, смеется, как смеются над простофилями, над необидчивыми простодушными детьми. Вот так.
– Ну что же, – говорю, – это хорошо, что ты сказала правду.
– Что, не по нутру правда?
– Нет, все это мне даже нравится, – говорю я и смеюсь, потому что надеюсь обратить наш разговор в шутку – ведь мы же не чужие друг другу люди, мы любим, мы не можем жить друг без друга. – Правда – это всегда хорошо…
– Мне пора, – говорит моя Надя и уходит. Да, уходит и не оглядывается. Я даже не успеваю ей сказать «до свидания», не успеваю. Догнать? Нет, надо остыть, а то в горячке можно наговорить и не такого. Да и может ли быть настоящая дружба без ссоры? Ведь это своего рода испытание на прочность, на верность, не так ли? Нетерпение – плохой помощник… Про нетерпеливых секретарь райкома Владимиров говорит, что у них «нервные центры подвешены к скользкому месту», а Геннадий Владимирович – один из самых умных и толковых людей, каких я пока узнал за свою жизнь. И как он прекрасно самые напряженные моменты в каких-нибудь важных и разговорах и дебатах сбивает шуткой, точным замечанием, и глядишь – неудовольствие погашено, «враги» уже смотрят друг на друга веселыми, миролюбивыми глазами. Но у меня, видно, не получается так ловко. А может быть, и не стоит во всем подражать Владимирову? Может быть, надо искать какие-то свои приемы вести разговор? Ведь вот тот же Бардасов, у него эти свои приемы есть, да, есть, а у меня вот их нет…
13В Кабыр я ушел рано поутру, еще и не рассвело-то по-хорошему. Но я едва дождался и этого первого света. Всю ночь я не сомкнул глаз, всю ночь продумал. Слова Нади не шли у меня из головы. То я принимал решение окончательно порвать с ней и находил для этого очень убедительные причины, и тогда даже ее признание в том, что она «шесть лет ждала», казалось всего лишь лукавством, да, всего лишь лукавством, – должно быть, думал я, ей просто не везло с парнями. Но стоило принять мне такое решение, как меня окатывало ужасом, самым отчаянным ужасом, и я начинал как бы выкарабкиваться из него, подыскивая уже другие и не менее убедительные приметы Надиной любви ко мне. Так меня и кидало из одной крайности в другую, из одной в другую. Какой уж тут сон! Я чувствовал, что мать тоже не спит. Мое нервное состояние передалось ей, как это всегда и раньше бывало. И чуть забрезжило, она поднялась, затопила печь, спеша, видно, испечь мне на дорогу пирогов. Я слышал, как затрещали дрова в печке, и тут немножко отвлекся от своих мыслей и, кажется, вздремнул даже, но не больше, чем на полчаса, потому что за окном чуть-чуть посветлело, а дрова в печке уже не трещали, прогорели. И меня точно пружиной подбросило. Первым делом я подлетел к окну и поглядел на дом за дорогой. Но нет, окна там были плотно занавешены. Неужели я ждал, что Надя сидит у окошка?! И досада на самого себя опять полоснула меня по сердцу. А тут еще мама. Я знаю, что она ждет не дождется нашей свадьбы, а прямо спросить не решается. Да если бы и решилась, чтобы я ей ответил? Я хорошо вижу, что она удерживается от этого вопроса, и я с благодарной нежностью гляжу на ее маленькое сморщенное личико, на проворные сухие руки… Вот единственный на всем свете человек, на которого я могу безоглядно положиться, кто верит в меня, кто всегда поймет, кому всегда и всякий я дорог… Она спрашивает, как я живу в Кабыре, хорошо ли мне там, и я охотно отвечаю, я рассказываю про Бар дасова, про Генку, про Казанкова тоже рассказываю, и мать согласно кивает головой. Но о Наде она так и не решается спросить. Вопрос было чуть не сорвался у нее, когда она провожала меня до ворот и так выразительно поглядела на дом за дорогой, но я поспешно отвернулся и зашагал прочь. А окна были все так же плотно занавешены, и занавеска не колыхнулась, нет, не колыхнулась, та, в угловом окне, возле которого стоит Надина кровать.
И чем ей не нравится моя работа?.. Видишь ты, в ее глазах я всего-навсего дурак-патриот, и даже если меня попросят быть пастухом, я не посмею отказаться… Допустим, нынче молодые не хотят жить с родителями, им хочется отдельных квартир, да не просто квартир, а со всеми этими пресловутыми удобствами, будь они неладны, но разве весь смысл жизни человеческой только в достижении этих благ состоит? Или эти блага необходимы для того, чтобы освободить человека от зависимости быта? Так, так… В этом что-то есть справедливое. Но в таком случае я, может, действительно ошибся, согласившись работать в Кабыре?.. Эта мысль меня сильно озадачила, и я даже остановился – уж не побежать ли обратно, не повиниться ли перед Надей? Так я постоял на лесной дороге, постоял, поглядел на опавшие мокрые деревья и пошел дальше. Нет, я никогда не собирался жить в городе, меня почему-то никогда не соблазняла эта мысль, я люблю деревенское житье, моя работа – здесь…
Как тихо и покойно в осеннем лесу! Только синичка пискнет, да качнется веточка, будто сама по себе качнется, а приглядишься – это села на нее пичужка с палец, едва ее разглядишь. Вот и вся жизнь лесная, что эта пичужка. А дорога устлана багряными и желтыми листьями, что тебе ковром многоцветным спокойных тонов… И тишина лесная, и краски, и эти редкие трели крохотных птичек воспринимаются как-то болезненно-остро, как после долгой разлуки. Но мало-помалу опять одолевают мысли о Наде, о своей работе. И зло, упрямо я говорю себе: «Разве настоящая любовь зависит от того, кто какую работу делает? И чем тебе не нравится моя работа? Пусть она трудная, но в конце концов не ты же, а я ее делаю!» Так я говорю, и мне самому удивительно, почему надо защищать, отстаивать очевидное? А если бы я сказал Наде о долге коммуниста? Что бы она ответила? И от одного предположения этого ответа – так, в общих чертах, – мне даже страшновато стало. Да, мне не совсем уж безразлично, как и где жить, но это второй вопрос, да, второй, потому что, если потребуется, я пойду работать хоть в пастухи, хоть куда, я никогда не буду искать местечка потеплее, полегче. И совсем не потому, чтобы доказать Наде или Казанкову, что вот я какой! Нет, я просто испытываю какую-то биологическую неприязнь ко всяким уловкам, в подноготной которых лежит мелкий, эгоистический расчет. И вдруг мне пришло в голову: Надя и Казанков, почему я их вроде бы как рядом поставил? Нет, нет, ничего у них нет общего, ничего нет, это случайно вышло, случайно. Просто я на нее нынче злой, вот и все. Мы не поняли друг друга, давно не виделись, и все так внезапно, вот и не смогли договориться. Но ей тоже не безразличен я, она обдумает многое за эту неделю, а в следующее воскресенье мы увидимся, и все встанет на свои места. Не может такого быть, чтобы из-за такой чепухи лопнула наша любовь, да, не может такого быть!.. Так я внушаю себе, и с таким убеждением подхожу к Кабыру, и странно, при виде его я испытываю какое-то радостное нетерпение, шаг мой становится шире, и вот я уже чуть не бегу, да, чуть ли не бегу, словно в Кабыре кто-то ждет меня не дождется.
14– Окончательные итоги подводить еще рано, это мы сделаем в феврале, но уже теперь могу доложить вам, что по основным показателям мы идем с опережением прошлогоднего уровня…
Бардасов говорил спокойно и сухо, и я все ждал, что он коснется и главной цели собрания, но нет, даже не вспомнил, виду не показал. И я понял: умный, хитрый Бардасов задает такой тон предстоящему разговору, такое направление, в котором было бы неуместно говорить о переходе с совхозных норм на трудодни. Ко всему прочему, он похвалил тюлеккасскую бригаду за отличную уборку картофеля, за инициативу с желудями, нашел лестные слова и для бригадира, и для многих из бригады (я уж потом понял, что это были особо рьяные борцы за трудодни). Обычно скупой на похвалу Бардасов сейчас был щедр необыкновенно. В таких же превосходных степенях он представил колхозному собранию и нашего экономиста Нину Степановну Карликову, которая «лучше меня расскажет вам об экономическом состоянии нашего колхоза». Эти слова произвели впечатление, так что, когда Нина начала свою речь, слушали ее в глубокой тишине. Правда, речь ее была малопонятна. По крайней мере, для меня. Оказалось, в колхозе «Серп» за год очень выросли какие-то накладные расходы, а расход по заработной плате не соответствует уровню произведенной продукции. И все это в тысячах, в больших тысячах, так что мне сделалось даже как-то страшновато за Бардасова, за бухгалтера Михаила Петровича, за всю конторскую братию. Не знаю, научена она была Бардасовым, нет ли, но вот Нина сказала:
– Экономическое состояние хозяйства довольно зыбкое, банк не может выделить нам необходимых средств для самого неотложного капитального строительства, в том числе и детского комбината в Кабыре, так что в этих условиях переходить с одной системы оплаты на другую я считают преждевременным. Кроме того, без развития производства колхоз не сможет гарантировать стабильность оплаты по трудодням.
И тут в зале зародился легкий шум. Подспудное его значение пока еще было непонятно, но шум нарастал, словно к отмелому берегу приближалась волна. И вот первый внятный голос:
– А ты бы покопала вместе с нами картошку лопаточкой!
Голос был женским. И я его прекрасно узнал.
А Нина, пожав плечами, медленно и спокойно сошла с трибуны. А зал шумел. Уже понять ничего нельзя было, не имело смысла и перебивать этот шум, и Бардасов стоял за красным столом молча, бледный и какой-то даже страшный.
И вдруг на трибуне возник мой Генка! В зале послышался смешок, и шум начал спадать, – волна откатывалась в реку.
– Не собрание колхозное, а базар мужицкий! Чего вы добиваетесь? Чего вы хотите? Хотите зерно получать возами? Для чего?
– Ты сначала женись да вырасти пятерых детей, тогда узнаешь, для чего зерно! – выкрикнул женский пронзительный голос.
– Это уж вы кому-нибудь другому мозги заливайте, а я-то знаю, куда вам зерно нужно, – спокойно сказал Генка. – Все деревни солодом провоняли. Что, не так? Наделаете по пятьдесят ведер этой вонючей кырчамы[ Кырчама – брага.] и глушите ее неделями. Глушите и ругаетесь, ругаетесь и глушите. Здесь вот больше всех женщины галдят за трудодни, а сами того не понимают, что количество кырчамы не уменьшит расходов ваших мужиков на водку, не уменьшит и подзатыльников и пинков, которые вы получаете от своих пьяных мужей. Зпачит, мало еще вам достается, если хотите вместо денег получать зерно, значит, никто другой, а вы сами тянете своих мужиков и свои семьи к погибели от пьянства. Вот так, я все сказал.
Такая глубокая установилась тишина, что было слышно, как поскрипывает какой-то стул в задних рядах. Я видел, как довольная улыбка пробежала по лицу Бардасова. Признаться, я и сам не мало дивился словам Генки. Конечно, не стоит сводить всю проблему к кырчаме, но Генка ударил по больному месту и ударил наотмашь.
– Мать оставила тебе полные клети зерна, на тридцать лот твоим индюкам хватит, а народу чем кормить свою птицу да скотину?!
Я так и вздрогнул: это был голос Казанкова! Ничего не скажешь, тонкая работа. Вот так одной закорючкой, истина которой еще весьма сомнительна, перечеркнул всю больную правду Генкиных слов. Но и на этом Казанков не остановился, нет. Выходит, сказал он, если не будет зерна у колхозников, порушится все личное хозяйство, тогда как «партия взяла верный курс на поощрение личных хозяйств». Отсюда вывод: колхозники приветствуют решение партии, а руководство колхоза этому препятствует. Он пошел и дальше: а раз так, то колхозники вынуждены всякими правдами и неправдами обеспечить свое развивающееся личное хозяйство кормами, а иначе говоря, вынуждает колхозников к воровству сена, соломы, картофеля и всего прочего. Вот так! И пока он говорил, стояла точно такая же глубокая, я бы сказал – благоговейная тишина.
И как я жалел сейчас, что согласился с Бардасовым не проводить накануне общеколхозного собрания собрание партийное! Как жалел!.. «Видишь ли, комиссар, я чувствую, что настроения не переменились, и у меня очень мало уверенности, что партийное собрание сейчас может повлиять на исход собрания колхозного. Кроме того, ты человек новый, твои самые справедливые слова люди все-таки воспринимают пока как бы со стороны, понимаешь? Допустим, проведем мы собрание. О нем немедленно будет всем известно, всему колхозу, – тут ведь никакие тайны невозможны. А общее собрание решит по-своему. Понимаешь, что получится? А мне, честно признаться, очень нужен твой авторитет…» Конечно, я понял Бардасова и согласился с ним. Теоретически, так сказать, я был прав, прав в смысле партийных традиций, иначе говоря, и я тогда как-то и не подумал, что за нарушение этих традиций мне еще крепко нагорит, однако практическую справедливость Бардасова я не мог не почувствовать. И вот почему я согласился с ним, хотя теперь и пожалел. Сам не знаю почему, но мне вдруг показалось, что Бардасов маленько слукавил. Говоря о моем авторитете, не пекся ли в первую очередь он о своем? А вдруг бы собрание партийное сыграло свою роль? Но нет, нет, не стоит засорять себе мозги предположением этих мелких интриг. Вовсе не такой Бардасов!
Как бы там ни было, а собрание постановило: с первого января перейти на оплату по трудодням. Правда, человек тридцать в основном молодежь во главе с Генкой, пожелала остаться на оплате по совхозным нормам, а человек сто вообще воздержалось от голосования, по тем не менее дело свершилось. Да, дело свершилось, а торжества у победителей не было, я не видел лица, на котором бы светилась радостная улыбка. Или это ликование таилось глубоко в душах? Не знаю. Один Казанков, может быть, да, один Казанков прошел мимо гоголем, окинув меня саркастическим взглядом с ног до головы.
Я поискал глазами Бардасова, но его не было видно. Отправился домой и я. На улице меня догнал Генка.
– Не печалься, Александр Васильевич, на отчетно-выборном собрании наша все равно возьмет!
Какое-то нервное, радостное возбуждение Графа мне показалось весьма неуместным, и я пожал плечами.
– Но каков этот тип Казанков! – продолжал Генка громко. – Удивительно ловкий жук! Ведь как повернул, как сыграл! Талант! В два счета меня на лопатки завалил, ха-ха! А между прочим, Александр Васильевич, идет слушок, будто его из партии исключили. Правда – нет?
– Да, правда. На бригадном собрании исключили, но на парткоме еще не утвердили…
– Эх, что же это вы! – с досадой воскликнул Граф. – Да ведь объявить бы надо на весь совхоз громко, Александр Васильевич, чтобы все люди знали!
– Зачем?
– Да как – зачем! Понимаете, идет по колхозу какой-то слушок: Казанков, Казанков… А что – Казанков? Почему – Казанков? За что? – никто толком не знает. А мужик-то наш какой? – в первую очередь ему жалко, ему кажется, что начальство обидело человека, правды, мол, добивался, справедливости, вот оно и взъелось на него. Темный народ, мужики, одно слово. Ну вот и сделали героем дня Казанкова, а он и воспользовался, и выскочил первым заступником! Эх, Александр Васильевич!..
Да, Генка был прав, тысячу раз прав! Как же это я не догадался? Эх шляпа ты, шляпа! А иначе говоря, «молодось, молодось». Не молодость, а дурь, вот что имел бы право оказать сейчас Красавцев. И он еще это скажет, да, вскоре и скажет, когда я приеду в райком на бюро, где меня будут утверждать в повой должности. Сейчас я вспомнил его, а там я буду вспоминать Генку, его слова о Казанкове, о том, как он ловко сыграл на заветных струнах «темных мужиков»!
– Посудите сами, Александр Васильевич, ведь труд хлебороба издревле считался самым тяжелым. Веками хлеб жали серпом, косили косами, лопаточками картошку копали, а уж такая у мужика сложилась за эти века психология – он умеет ценить только себя, только свой труд, он считает, что без него и белый свет дня не продержится, А то, что электричество, моторы всякие, это, по его мнению, хорошо, но и без «лектричества» прожить можно, живали, мол, и при лучине. И вот я для него вроде бы тунеядец, вроде нахлебника. А о конторской работе я и не говорю! Всех тех, кто в чистых штанах ходит да в белой рубашке, он, извините, крысами конторскими называет. Ну что тут скажешь! Темнота, да и только. И его бы воля, так он бы никаким инженерам, никаким экономистам и бухгалтерам не платил, на хлебе да воде бы держал. Мужик ведь и знать не желает, нужен колхозу экономист или не нужен. И вот – пожалуйста, Нину обидели, Казанкова рады на руках носить из Тюлеккасов в Кабыр и обратно!.. Эх, Александр Васильевич, оплошали вы маленько с Казанковым, не довели дело. Начали так здорово, а не довели…








