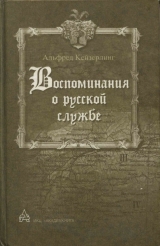
Текст книги "Воспоминания о русской службе"
Автор книги: Альфред Кейзерлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
ЗОЛОТОКОНТРАБАНДИСТЫ
Бродяге, пробиравшемуся в одиночку по глухой тайге, грозили и другие опасности, поэтому он остерегался разводить костры и оставлять какие-либо следы, а зачастую был вынужден делать крюк в сотни верст, чтобы добраться до большого тракта, где мог чувствовать себя более-менее в безопасности. Если в тайге его заставали пурга и сильный мороз, который поздней осенью в Сибири начинается внезапно и держится помногу дней, он был обречен. Но, коли он все-таки невредимым добирался до какого-нибудь села или до города, там непременно находились люди, которые скупали у него краденое золото, конечно, по очень заниженной цене. За этими скупщиками гонялась полиция, так как треть изъятого золота причиталась ей в качестве премии. В безопасности золото было, только когда благополучно оказывалось на границе и перекочевывало в карман скупщика-китайца.
Чтобы скрыться от полиции, которая по части отлова золотых контрабандистов зубы проела, эти сорвиголовы пускались на невероятные ухищрения. Например, рассыпное золото запаивали в маленькие металлические гильзы, к которым приделывали катушку, а к ней – замаскированный поплавок. Намотанную катушку покрывали клеем, который постепенно растворялся в воде.
Если полиция загоняла контрабандиста в тупик, он бросал свою гильзу с катушкой в какой-нибудь водоем – пруд, реку, колодец. Поплавок, находившийся сначала под водой, через некоторое время всплывал на поверхность, так как клей на катушке растворялся, а когда опасность была позади, контрабандист возвращался и вытаскивал свою гильзу из воды.
Пользовались контрабандисты и другими хитроумными приемами, чтобы спрятать свой товар и переправить его через границу.
Однажды генерал-губернатору барону Корфу пришлось сделать остановку на пути из Верхнеудинска в Кяхту – одна из осей тарантаса перегрелась. Остановились мы возле небольшой рощицы. Ямщик и сидевший на козлах казачий вахмистр выпрягли лошадей и сняли с тарантаса передние колеса, чтобы заново смазать ось. На козлах у ног ямщика всегда есть специальный ящичек, где хранятся фунтовые упаковки колесной мази. Их-то теперь и достали, и одну израсходовали почти полностью.
Пока тарантас приводили в порядок, из зарослей вышли двое бродяг, вежливо поздоровались и предложили свою помощь. Нас порадовало, что в этой глухомани нашлись помощники, ведь тарантас был тяжелый, а лошади беспокоились. Остановка поэтому вышла короткая, барон Корф велел дать бродягам хорошие чаевые, и мы поехали дальше.
Но едва лошади тронулись, как навстречу на полном скаку вылетели трое верховых полицейских. Генерал-губернатор приказал остановиться и спросил их, куда они так спешат и за кем гонятся. Они отвечали, что преследуют золотоконтрабандистов и на сей раз, наверняка схватят, потому что полиция обложила их со всех сторон. Мы пожелали им удачи и собрались ехать дальше. Меж тем нас нагнали шедшие следом бродяги. Полицейские тотчас бросились на них и закричали: «Вот они, мошенники, их-то мы и ищем!» Бродяги разыграли удивление и объявили, что в жизни не имели касательства к золоту и что полицию кто-то не иначе как обманул. Их немедля подвергли обыску. И хотя ничего не нашли, полицейские все равно увезли их с собой.
Мы продолжили путь и уже через несколько часов прибыли в Кяхту, а там заехали к богатому чаеторговцу Немчинову, который принял нас воистину по-княжески. Во дворе у него всегда толклось великое множество китайских купцов и погонщиков верблюдов.
Наутро один из оборванных китайцев вручил барону Корфу записку. Дескать, какой-то русский велел передать ее генерал-губернатору. Записка гласила: «Благослови Господь Ваше высокопревосходительство за доставку золота нашему китайскому другу».
Тут-то мы и сообразили, что произошло. Пока ямщик и вахмистр смазывали ось, один из бродяг-помощников спрятал свои гильзы с золотом в ящике, где хранилась колесная мазь. Вахмистр вспомнил, что велел ему закрыть ящик и поставить на место, под козлы.
«МАЙДАНЩИКИ» И «МОТЫ»
Посещая тюрьмы, я то и дело натыкался на совершенно непонятные вещи, например на «майданщиков», торговцев, и «мотов», транжир.
Майданщик – обычно это был еврей, армянин или татарин – держал в тюремной камере более-менее крупный тайный склад, где для арестанта имелось практически все, что пожелаешь, – только плати. Кроме денег, торговец принимал мясо и хлеб, продавая то и другое здесь же, в тюрьме, в обмен на услуги или за деньги арестантам, которые хотели помочь своим семьям, мыкающим горе за стенами тюрьмы. Майданщик также сдавал напрокат карты и кости. Сам он, как правило, не играл, хотя получал долю от выигрыша. Обычно он бывал и посредником, в обмен на спиртное скупал у мотов казенное платье, белье и сапоги, а затем отправлял все это за пределы тюрьмы и перепродавал.
Поскольку в камерах, кроме нар и параш, ничего не было и не могло быть, для меня оставалось загадкой, где они умудрялись прятать эти свои майданы {19} , пока однажды в верхнекарской тюрьме не попытался бежать особо опасный арестант; тогда-то сия тайна и разъяснилась. Арестант воспользовался старым пустым майданом, находившимся в глубокой яме под нарами. Оттуда он проложил подкоп под фундамент и добрался почти до палисада, когда неосторожный шум привлек внимание наружной охраны и выдал его. Свою попытку он предпринял без ведома других арестантов. Когда дежурный казак сообщил начальнику тюрьмы о своем наблюдении и камеру обыскали, арестанты тотчас сами указали лаз в яму под нарами, который был так искусно замаскирован, что без их помощи его бы нипочем не нашли. Как стена, так и пол под нарами были совершенно ровными и гладкими, ни в камере, ни за пределами тюрьмы не было ни малейшего следа вынутой земли. Старый майдан оказался настолько велик, что всю землю беглец смог разместить там. Этот майдан он купил у своего предшественника, которого перевели в другую тюрьму, и каждый вечер исчезал в яме под тем предлогом, что надо, мол, хорошенько там все устроить. Поэтому арестанты сразу же смекнули, в чем дело, и, услыхав о подозрительном шуме возле палисада, обследовали майдан. По арестантским законам, бежать из-под тюремной охраны запрещалось по причине суровых репрессий, которым казаки в таких случаях подвергали поголовно всех узников тюрьмы, и ярость арестантов была ничуть не меньше, чем ярость охраны.
Я приехал в Верхнюю Кару как раз в то утро, когда эта попытка к бегству была раскрыта, и своими глазами видел возмущение и ярость арестантов, казаков и администрации. Казаки требовали отдать виновника им, причем арестанты нисколько не возражали. Вступился за беглеца только старый начальник здешних тюрем, в прошлом гвардейский офицер. С первых же минут личного знакомства этот тюремный начальник внушил мне доверие, он был единственный, у кого все оказалось в отменном порядке, без недостач на складах и в кассах, а в тюрьмах царила необыкновенная чистота.
Начальник объявил арестантам и охране, что возьмет на себя ответственность за этого человека, если тот даст арестантское слово не бежать, пока находится в его тюрьмах. Тот задумался, по лицу было видно, что в душе у него идет тяжелая борьба. В конце концов, он поднял голову, кулаком хлопнул по правой ладони тюремного начальника и сказал: «Даю нашему глубокоуважаемому господину начальнику Львову мое арестантское слово, что, пока нахожусь в его тюрьмах, не сбегу». Все стороны с таким исходом согласились, а я спросил Львова, как он может пойти на такой риск и поручиться за бандита, который норовил сбежать из всех тюрем и у которого на совести не одно убийство. Львов отвечал, что данное ему арестантское слово еще никто не нарушал, хотя он уже двадцать лет служит начальником тюрем. Этого арестанта он на восемь дней упрятал в карцер на хлеб и воду, тем все и кончилось.
Столь же изощренным образом были устроены другие майданы – в стенах, под потолком, под печными фундаментами. Надзиратели обычно состояли в сговоре с майданщиками и тайну не выдавали. Не только на каторге, но в любой российской тюрьме непременно имелся майдан.
«Мотом», т. е. транжирой, называли арестанта, который продал свое казенное платье, белье, сапоги, полушубок, шапку и халат и по утрам, когда камеру отпирали, стоял либо нагишом, либо в тряпичной набедренной повязке. Случалось, поголовно вся камера, а то и не одна за ночь сбывала всю свою одежду и утром заступала на работу босиком, в набедренных повязках. Начальники тюрем в таких случаях впадали в безудержную ярость, назначали массовые экзекуции – от пятидесяти до ста розог – и десять-четырнадцать суток строгого карцера на хлебе и воде. Начальнику тюрем приходилось самому изыскивать средства на закупку одежды для арестантов, вот почему он мог простить все, только не разбазаривание казенного платья. А это платье для каждого арестанта состояло из двух пар штанов, двух халатов, двух пар сапог, полушубка, пальто, двух комплектов исподнего, кожаных и шерстяных рукавиц, а также летней и зимней шапки. Одежда была из солдатского сукна, полушубок – хорошей овчины, а кожаные и валяные сапоги – из добротного материала, выдавались эти вещи начальникам тюрем по числу арестантов, должны были прослужить определенный срок и, если рвались раньше времени, подлежали починке.
По прибытии в тюрьму арестант иногда получал только часть обмундирования. Изношенную вещь выбрасывать не разрешалось, нужно было предъявить ее тюремному начальнику и взамен получить новую. Если одежду носили аккуратно и не разбазаривали, начальник мог сэкономить изрядную сумму, в противном случае он покрывал убытки из собственного кармана. Вот почему любой «мот» вызывал злобу и ненависть. Начальник тюрем неизменно смотрел на «мота» с отвращением, как на самого злостного из преступников, и все наказания, какие он только мог назначить, – жестокая порка и две недели сурового карцера, – обрушивались на это чудовище. Но никакие кары не удерживали закоренелого «мота» от повторения проступка. Карточная игра и водка снова и снова вводили его в соблазн.
Скупщиком или посредником обычно был майданщик, экспедиторами – солдаты наружной охраны и бродяги, которые в качестве агентов купцов средней руки из Сретенска, Нерчинска и других городов принимали от казаков эти вещи. Казакам было совершенно безразлично, одеты арестанты или нет, им надлежало только следить, чтобы они не удрали с огражденной тюремной территории или со своих рабочих мест на приисках. Надзирателям обыкновенно тоже кое-что перепадало от подобных сделок, и они смотрели на все сквозь пальцы. Например, позволяли арестанту после вечерней поверки не возвращаться в камеру, а проводить ночь на улице между тюрьмой и палисадом, куда из зарешеченного окна под потолком камеры спускали перевязанные пакеты с вещами и он либо перебрасывал их через частокол солдатам, либо привязывал к веревке и наружный охранник перетягивал их к себе. Если надзиратели в деле не участвовали, то от зарешеченного окна тюрьмы к палисадам устраивали веревочно-проволочную тягу. Существовали и иные хитрые выдумки, позволявшие переправлять вещи наружу, а товары для майданщиков – внутрь.
АРЕСТАНТСКАЯ ПОЧТА
Дополнительными посредниками между внешним миром и тюрьмами различных районов служили голуби и собаки. Первые доставляли почту на дальние расстояния, вторые – обычно крупные, кудлатые бурятские сторожевые псы и небольшие сибирские лайки – прекрасно подходили для курьерской почты и для контрабанды запрещенных предметов, которые прятали в их густом меху. Голуби и собаки во всех тюрьмах кишмя кишели, арестанты заботливо их кормили, холили и лелеяли, а когда случались нередкие переводы из одной тюрьмы в другую, непременно брали с собой – собаки бежали следом, а голубей ловко прятали.
Чтобы защитить голубей от хищных птиц, использовали особые, очень практичные свистульки; впервые я увидел их в Каре, а затем в Пекине. В Каре я сначала обратил внимание, что по утрам, когда голуби взлетали с тюремных дворов и кружили в воздухе, временами слышались какие-то пронзительные, но довольно мелодичные звуки. На мой вопрос, откуда эти звуки идут, мне сказали: от голубей. Я никогда не видывал певчих голубей и потому продолжил расспросы. Скоро мои казачки, Петька и Осейка, принесли целую коллекцию маленьких, легких свистулек из камыша либо легкого дерева, длиною в 1–2 дюйма, иногда соединенных по две, по три в подобие свирели. Они же показали, как эти свистульки прикрепляются между средними хвостовыми перьями голубя. И когда птица взлетала, слышался свист. Соколы и иные хищные птицы якобы остерегаются нападать на таких голубей. Правда ли это, я не проверял. Так или иначе, нечто подобное – в усовершенствованном варианте – я видел и в Пекине, где мне назвали ту же цель их использования. Китайцы делали свистульки не только из дерева и камыша, но и из карликовых тыквочек.
Связь между тюрьмами и районами функционировала столь успешно, что зачастую арестанты узнавали о происшествиях в других тюрьмах раньше, чем администрация.
Так, однажды некий арестант попросил меня о конфиденциальной встрече с глазу на глаз. Приведенный ко мне, он сказал: «Ваше сиятельство, вам надобно срочно произвести ревизию в Алгаче. Тамошний начальник вчера отправил в Сретенск купцу Андаверову три тройки с казенным платьем. Вдобавок он проиграл этому купцу свою кассу, а теперь намеревается отослать ему еще и запас мороженого мяса. Он трое суток играл и пил с Андаверовым и до сих пор не протрезвел. Арестанты мерзнут и голодают». – «Откуда же ты знаешь, – спросил я, – что произошло вчера в Алгаче, в трехстах верстах отсюда?» – «Поверьте, Ваше сиятельство, наша арестантская почта действует быстро и надежно, – отвечал он. – Святой Дух помогает». Я все понял и более расспрашивать не стал. Голубь в России считается священною птицей.
Уже через несколько часов после этого разговора я, не называя пункта назначения, вместе с бухгалтером Петровым выехал в Алгач. Санный путь был превосходен, и на следующее утро я чуть свет нагрянул к измученному похмельем начальнику тюрем, застав его в постели, и тотчас забрал у него ключи от всех складов. Петров изъял все книги и потребовал кассу. Начальник сообщил, что надежности ради, касса находится у священника, в несгораемом шкафу. Мы немедля приступили к ревизии и допросу свидетелей, которые сей же час явились. Три андаверовские тройки с казенным платьем по моей телеграмме полиция успела перехватить по дороге. Мясо еще не вывезли, хотя упаковали. Только с кассой все было в порядке. Меня это несколько удивило, но загадка вскоре разъяснилась. По окончании ревизии я приказал начальнику тюрем занять место в моих санях, намереваясь до поры до времени поместить его под арест на гауптвахту в Каре, и тут появился «батюшка», поп, и попросил меня вернуть 2000 рублей, которые он дал начальнику только на время ревизии. Это церковная касса, из коей он двадцатого числа должен выплатить содержание диаконам, певчим и себе самому. Расписку об этом ему надлежит направить контрольной инстанции, а потому ждать никак нельзя. Когда я отклонил эту наивную просьбу, поп пришел в отчаяние и сообщил, что он и начальник тюрем всегда выручали друг друга при ревизиях и ни разу еще ничего плохого не случалось. Он действовал по-христиански, помогал ближнему в беде. Мне было очень жаль горемыку, но изменить я ничего не мог, деньги находились в тюремной кассе, и я был очень доволен, что обошлось хотя бы без денежной недостачи.
Между тем я телеграфом вызвал в Алгач Львова, начальника верхнекарских тюрем, и перепоручил ему управление здешними тюрьмами, где он за короткое время навел порядок.
По возвращении на Кару я вызвал к себе арестанта, от которого получил вести из Алгача, подарил ему рубль и угостил большой чаркой водки.
В первый день Рождества группа описанных выше мотов приготовила мне в одной из тюрем сюрприз. Поздравив узников во всех камерах, я велел отпереть карцер, где, как мне доложили, сидела четверка мотов. В камере было темно, лишь свет из открытой двери высветил четыре обнаженные фигуры в ручных и ножных кандалах. Они выстроились в ряд, один подал знак рукою с тяжелой цепью – и мне навстречу с воодушевлением грянуло четырехголосое «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus», под аккомпанемент кандального звона. Моты добились своего – сюрприз удался на славу. Я ожидал чего угодно, только не такой овации!
Еще утром в церкви я обратил внимание, что не слышно певчих, хотя обычно во время службы они пели, причем очень хорошо. Оказывается, регент {20} , великолепный баритон, а с ним вместе бас и два тенора проиграли все свое платье и на праздники угодили в карцер, на хлеб и воду. Пение было для них единственным развлечением. Комизм ситуации не укрылся даже от мрачного начальника тюрем. И я попросил его на сей раз проявить снисходительность и отпустить певчим, кстати, уже отсидевшим в карцере трое суток и получившим свою порцию розог, оставшиеся семь дней и велеть кузнецу освободить их от цепей, единственной их «одежды».
Это снискало мне репутацию меломана, и певчие часто просили разрешения исполнить передо мною церковные песнопения, а равно и другие, арестантские и застольные, песни.
ИСПОВЕДЬ ПРЕСТУПНИКА
Силу и крепость арестантского слова продемонстрировал мне следующий эпизод. Однажды утром, еще затемно, новый начальник верхнекарских тюрем попросил немедля принять его. Очень встревоженный, он рассказал, что Чернов, арестант, сидевший в его тюрьме под арестантское слово, ночью бежал, перелезши через палисад. Охрана открыла огонь, но в потемках промазала. Поскольку же Чернов преступник опасный, а заключенные и казаки очень на него злы, они тотчас устроили облаву, хотя из-за темноты безуспешно. Начальник тюрем просил меня незамедлительно объявить через полицмейстера и верховых казаков здесь, в Усть-Каре, и в ближних станицах, что Чернов бежал и начальник обещает пятьдесят рублей тому, кто доставит его живым или мертвым.
Все устремились на поиски, однако Чернов как сквозь землю провалился. Поздно вечером, когда опять стемнело, верховой казак доставил мне замусоленную записку: «Чернов мною найден. Лежит под перевернутой лодкой на берегу Шилки. Мы сидим на этой лодке, так что вылезти он не может. Я хочу сдать его сам, не перепоручая казакам. Тюремный надзиратель N.N.». Я переправил записку начальнику тюрем в Верхнюю Кару, и тот в сопровождении нескольких дюжих охранников, запасшись необходимыми цепями и веревками, помчался на указанное место.
Через несколько часов мне доложили, что Чернов взят живым и доставлен в тюремную контору. Начальник просил меня прибыть лично, так как казачий атаман оспаривает пленника, и он не знает, как поступить. Атаман командовал казачьим полком, который обеспечивал наружную охрану верхнекарских тюрем.
В сумрачной конторе при тусклом свете коптящей подвесной лампы я увидел скованного по рукам и ногам Чернова. Удачливый тюремщик вдобавок набросил ему на шею веревку и не выпускал оную из рук. Когда беглеца извлекали из-под лодки, видимо, случилась драка, потому что и Чернов, и тюремщик N.N. были в крови, а одежда у обоих порвана.
Казачий полковник, чрезвычайно возбужденный, пожаловался, что тюремная администрация без всякого основания отказывается выдать ему человека, который бежал «из-под караула». Ради своих людей он не может этого потерпеть. Начальник тюрем мотивировал свой отказ выдать арестанта тем, что нашли и доставили беглеца его люди, а не казаки. Будь это казаки, он, разумеется, слова бы не сказал, поскольку уважает старинное право. Моя попытка в принципе опротестовать это старинное право на «суд Линча» не встретила понимания ни у кого из присутствующих, даже у самого Чернова, так как он стоял молча и не заикался об уголовном праве, предусматривавшем за побег шесть лет каторги и пятнадцать плетей.
Я воспользовался своею властью и решил, что Чернов останется в тюрьме и под строжайшим надзором будет сидеть в карцере вплоть до приговора суда, который определит его дальнейшую судьбу. Услышав это, полковник заявил, что подаст на меня жалобу барону Корфу, а Чернов пришел в совершенное отчаяние. Кричал, что не может более жить как арестант, вот уж двенадцать лет сидит за решеткой, лучше умереть, коли нет свободы. Пусть его лучше казнят! Он совершил двенадцать убийств, и каждый раз его приговаривали к десяти годам каторги. Трижды он бежал из-под следствия. В его душе угнездился зверь, который все время заставляет его убивать, иначе он не может; пускай его повесят или отдадут на избиение казакам. Когда на него накатывает, он обязательно убивает.
Семинаристом он за карточной игрой повздорил с приятелем, вот тогда-то зверь впервые на него и насел. Его словно захлестнула багровая волна, он схватил со стола нож и вонзил приятелю в грудь. А когда тот вместе со стулом опрокинулся навзничь, кинулся на него и обеими руками сдавил горло, чтобы не услыхать криков. Тогда-то он впервые испытал наслаждение, как волк, давящий овцу. А когда опомнился, пришел в ужас. Убежал из семинарии в деревню, где его отец служил священником, и схоронился у пономаря. Полиция его не нашла, а пономарь обеспечивал едой и питьем. Но однажды вечером, когда пономарь пришел к нему в укрытие, зверь снова завладел им. Снова все захлестнула багровая волна, он ударил беднягу ножом, а потом схватил за горло. Снова смертная дрожь привела его в упоение. И на этот раз он ушел от полиции. Только через некоторое время, когда точно так же зарезал угольщика, который приютил его в своей лесной хижине, он был взят под стражу. Первые два убийства, впрочем, не были обнаружены, ведь он был уже далеко от родных мест и при фальшивом паспорте. За это убийство его приговорили к десяти годам каторжных работ, но он бежал из уральской тюрьмы и не один год скитался по тамошним рудникам. Когда зверь завладевал им, он убивал, снова и снова, большей частью приятелей. Долгое время эти убийства оставались тайной, поскольку ему всегда удавалось сбрасывать трупы в старые заброшенные шахты. На десятом убийстве, он, в конце концов, попался и угодил на десять лет в Кару, а отсидев срок, был отправлен на поселение. В деревне он пробыл недолго, выправил паспорт и пошел искать работу. Скоро зверь внутри опять зашевелился, он боролся с ним, водки не пил, грабежами не занимался, брал только необходимое для жизни. Все напрасно, зверь вновь и вновь завладевал им, и он совершил еще восемь убийств. Потом был схвачен и вторично попал на каторгу.
Я спросил его, отчего он не убил свое звериное «я», вместо того чтоб убивать других. «Я пробовал, – отвечал он, – но не смог, боялся смерти». На мой вопрос, как же он, давши арестантское слово, все-таки бежал, Чернов ответил: «Я не нарушил арестантского слова, данного его высокоблагородию господину начальнику Львову; пока сидел у него в тюрьме, я не бежал, даже при отпертой двери шагу бы не сделал. Новому начальнику я моего арестантского слова не давал». Присутствующие признали правоту Чернова, жизни он недостоин, но не за нарушение арестантского слова; вообще после перевода Львова в Алгач надо было и его переправить туда же.
Смотреть на сломленного Чернова было страшно. Этот жестокий человек рыдал, все тело его сотрясалось от душевного волнения, глубоко посаженные глаза метали взоры, в которых проглядывал тот самый зверь-убийца. Мне казалось, перед нами и правда не человек, а дикий зверь. Голова у него была несоразмерно большая, лоб и затылок нависали горой, нос крупный, резко очерченный, подбородок и нижняя челюсть выдавались вперед, уже седеющие волосы космами падали на бородатое лицо. Это зрелище побудило меня изменить первое мое распоряжение и поместить его не в тюремный карцер, а в лазарет. Там на него надели смирительную рубашку и заперли в камере для буйных, где он рычал всю ночь. Затем его отправили в Иркутск, в сумасшедший дом. Что с ним сталось, я не знаю.
Сведения о массе его головы вкупе с фотографией и записью его рассказов я вместе с другими экспонатами послал в Петербург на Тюремный конгресс 1888 года.








