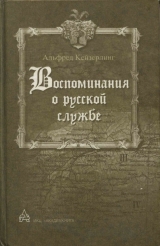
Текст книги "Воспоминания о русской службе"
Автор книги: Альфред Кейзерлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Миновал первый день в камере и еще одна ночь – для меня ничего не изменилось. Я не стану описывать мое состояние. То во мне вскипали ярость и возмущение против нанесенного оскорбления, то я впадал в глубочайшую депрессию от невозможности защитить себя.
Обыск был во вторник, в четверг меня арестовали – и наконец утром в субботу камеру отперли. Мне принесли мое собственное платье и предложили переодеться, потом вывели из камеры и передали незнакомому жандармскому полковнику, от которого я надеялся получить хоть какое-нибудь объяснение, – я был уверен, что он пришел меня освободить.
Однако полковник хранил полнейшее молчание, он только жестом пригласил меня сесть в наглухо закрытую карету, в которой приехал. Подойдя к дверце, я увидел, что на переднем сиденье уже сидят два жандарма, а на козлах рядом с кучером – еще один. Это открытие потрясло меня – значит, ничего не разъяснилось. Я поднялся в карету, полковник молча сел рядом, и лошади тронулись. Окна были завешены, и я не видел, куда мы едем – к виселице или другую тюрьму. Когда карета остановилась, мне знаком велели выходить. Я увидел, что мы находимся у запасного пути на окраине какой-то станции; там стоял паровоз с единственным вагоном первого класса. Двое жандармов опять взяли меня под конвой. Один хотел надеть мне наручники, но полковник жестом остановил его, вынул из кобуры свой револьвер и последовал за конвоирующими меня жандармами. Молча, мы вошли в вагон, почему-то салонный. Полковник сделал мне знак сесть и сам сел рядом; двое жандармов стали у дверей, третий – снаружи на платформе. На полной скорости паровоз промчался мимо царскосельского вокзала в сторону Петербурга. Там мы опять остановились за пределами станционной территории у еще не застроенной улицы предместья, и опять нас ждала закрытая карета, а рядом жандармы – двое конных и один пеший. Подошел другой полковник, подписал бумагу, которую вручил ему мой прежний сопровождающий; новые жандармы стали подле меня и, по знаку полковника, посадили в карету. Этот полковник, маленький, иезуитского вида, сел рядом со мною, двое жандармов опять поместились напротив, третий – на козлах, окна были плотно завешены, по сторонам кареты тоже скакали жандармы.
Я почти уверился, что везут меня на виселицу. Поездка продолжалась, наверное, не более сорока пяти минут, но мне это время показалось вечностью. Мозг работал с неимоверной быстротой, я не боялся смерти, меня терзал страх перед несмываемым позором, который по причине необъяснимой казни падет на мое имя, на моих детей, на мою семью и на все балтийское дворянство.
Карета подпрыгивала на скверной булыжной мостовой, и я заключил, что путь лежит не по главным улицам города. Под конец булыжники ненадолго сменились деревянной брусчаткой, потом опять каменной мостовой, по которой, однако, колеса громыхали иначе, потом карета проехала по дощатому настилу и снова, как раньше, запрыгала по камням. Тут я понял, что мы пересекли Неву по Дворцовому мосту – он замощен, но в середине мостовую прерывает разводной деревянный участок для пропуска кораблей. На мой вопрос, уж не везут ли меня в Петропавловскую крепость {113} , полковник утвердительно кивнул. Все мои предшествующие вопросы он оставлял без внимания.
Худшие мои предположения после этого не исчезли, ведь я знал, что в Петропавловской крепости совершаются и казни.
От моста дорога вела внутрь крепости. Я услышал глухое эхо, когда карета проехала под въездной аркой, и звон курантов на башне Петропавловского собора, которые каждые четверть часа играли по стиху, а каждый час – все четыре стиха хорала «Молитву возношу могуществу любви». Было 4 часа дня. Значит, дорога в ад заняла около трех часов.
Карета остановилась, дверцу открыли; мы находились меж высоких стен узкого внутреннего двора перед маленькой запертой дверью. Один из верховых жандармов спешился и позвонил, после чего дверь отворили; здешний полковник – уже не жандарм – принял от моего сопровождающего запечатанный пакет и что-то ему сказал, я не расслышал, что именно. Мне позволили выйти из кареты.
Встретивший нас полковник прошел вперед, и я под конвоем двух тюремщиков последовал за ним. Эскорт, доставивший меня, остался снаружи.
Мы поднялись по короткой лесенке, отворили дверь и очутились в большом светлом канцелярском помещении, где стояло несколько столов, за которыми чем-то занимались два военных писаря. Здесь же я заметил десятичные весы и измерительную рейку из тех, какими пользуются при рекрутском наборе. На большом столе лежали прочие антропометрические инструменты и аппараты.
Полковник сел за громадный письменный стол, для меня поставили рядом мягкий стул и предложили сесть. Засим он стал записывать данные о моей личности и подошел к делу со скрупулезным педантизмом. Эту бумагу я должен был подписать, как и телеграмму штаба главнокомандования, которую при аресте на Царскосельском вокзале мне только предъявили.
Полковник позвонил по телефону, через несколько минут появился врач в сопровождении фельдшера. Меня донага раздели, поставили на весы и обмерили буквально со всех сторон. Затем врач с величайшим тщанием обследовал мои внутренние органы, после чего меня провели в соседнюю ванную комнату, где фельдшер коротко меня остриг и выкупал в ванне.
Все эти процедуры, однако, были проделаны деликатно и вежливо, как приличествовало моему положению и рангу. Грубость жандармов и тюремщиков в Царском составляла разительный контраст здешней корректности. Только одно осталось без изменения: на вопрос, в чем меня обвиняют и что меня ждет, полковник ответил, что знает не больше, чем я сам, и попросил более не задавать вопросов ни ему, ни персоналу. Приказ, полученный им и его людьми, гласил: «Абсолютное молчание».
Собственную мою одежду и белье, пока я сидел в ванне, аккуратно сложили и унесли; мне выдали превосходную длинную ночную рубаху из тонкого полотна и такие же кальсоны, кроме того, добротные, тонкие чулки и совершенно новые кожаные домашние туфли отличного качества; из верхнего платья я получил только длинный, мягкий и теплый кавказский бешмет, длинный, до пят, похожий на шлафрок {114} , синего жандармского цвета.
Из канцелярии меня вывели в сводчатый коридор; мы бесшумно шагали вперед – пол был устлан толстой, мягкой циновкой, а поверх нее ковром. Я чувствовал, что вступил в царство безмолвия, тайны и абсолютного одиночества, куда не проникает ни звука и где несчетные вздохи так и отзвучали, никем не услышанные.
КАМЕРА И РАСПОРЯДОК
В этот коридор выходили 3–4 железные двери, третью из них отперли, и из светлого коридора я шагнул в полумрак. Гладкие каменные плиты на полу; скругленные стены поднимались сводом высотой футов двенадцать, образуя помещение площадью примерно 25×15 футов. Широкое окно с тройной решеткой, около 5x2 фута, было пробито на высоте футов 10; за ним виднелась высокая стена, поэтому света сюда попадало немного; окно составляло с внутренней стеной единую поверхность. В стену же был вделан круглый толстый стеклянный плафон для искусственного освещения – под ним помещались две электрические лампочки, которые включали снаружи. Под этим светильником располагалась койка – железная, изголовьем прикрепленная к стене, ножки низкие, вделанные в пол; на металлической сетке лежали матрац и подголовник, накрытые простыней, туго стянутой под сеткой; пространство между койкой и полом было очень невелико – даже руку не просунешь, чтобы ослабить простыню. Поверх было расстелено толстое, на редкость мягкое и теплое шерстяное одеяло, большое – можно завернуться целиком.
Чуть наискось от двери в стену были врезаны две железные пластины, но поднимали их и опускали только снаружи. Верхняя, опускаясь, открывала умывальник с водопроводным краном над ним; нижняя – ватерклозет. Подле койки находилась откидная решетка, служившая столом. Стула не было.
В толстой железной двери имелось отверстие с заслонкой, через которое передавали еду, а над ним – продолговатая, примерно в пядь длиной, забранная толстым стеклом прорезь, в которую из коридора можно было видеть всю камеру. Стены и пол выкрашены светло-серой масляной краской, все совершенно чистое и новое; воздух чистый и в меру теплый.
Прежде чем запереть дверь, унтер-офицер вручил мне тетрадь и сказал: «Это каталог тюремной библиотеки; узникам дозволяется получать на выбор две книги в неделю. Раз в неделю, по четвергам, книги приносят. Пожалуйста, посмотрите каталог, а через час я снова подойду к двери. Позвоните трижды, тогда я открою заслонку, и вы назовете номера нужных книг. Назовите несколько номеров, тогда я буду знать, что принести, если какой-нибудь из желаемых книг не окажется на месте. Обращаю ваше внимание на то, что ни в рукописном каталоге, ни в самих книгах нельзя делать никаких пометок – ни ногтем, ни пятнами. И каталог, и каждая книга тщательно проверяются; при обнаружении пометок книги подлежат сожжению, а соответствующие страницы каталога будут вырезаны и переписаны заново. Вы же лишитесь права пользоваться библиотекой. Это все во вред одним только заключенным, так как уничтоженные книги не восполняют».
Потом он спросил, курю ли я, и, услышав утвердительный ответ, выдал мне пять папирос и пять спичек, но без коробка, вместо коего вручил лишь кусочек чиркающей поверхности, и сказал: «Папирос вы можете получать сколько угодно, если врач не запретит. Но помните, окурки и использованные спички вы должны сдавать по счету, чтобы получить новые». Еще он объяснил мне, как нужно звонить: если хочу пить – один раз, если умыться – дважды, если хочу воспользоваться туалетом – четырежды. Кормили меня четыре раза в день: в восемь, в двенадцать, в четыре и в семь. В 7 утра камеру будут прибирать, на это время я буду переходить в маленькое помещение, куда из моей камеры ведет особая дверца. Эту дверцу, выкрашенную под цвет стены, я до сих пор даже не заметил; она открывала стенную нишу, освещенную тусклым светом из коридора. В заключение унтер-офицер сообщил, что ни ключник, ни надзиратель разговаривать со мной не вправе. Только ему сегодня было приказано ознакомить меня с тюремным распорядком.
ОДИН
Когда я получил эти разъяснения, тяжелая железная дверь камеры захлопнулась, повернулся ключ – в одном замке и во втором, – и вот настала мертвая тишина, я не слышал ни звука.
Усевшись на койку и обведя взглядом стены и дверь моей клетки, я заметил, что все-таки не один. Сквозь дверную прорезь, увеличенные стеклянною линзой, на меня неотрывно смотрели два глаза. Жуткое ощущение – я чувствовал себя беззащитным перед ними, скрыться было невозможно. Где бы в камере я ни находился, их взгляд неотступно следовал за мною.
Скоро на башне собора заиграли куранты: «Молитву возношу могуществу любви», – и снова тишина, коротенький напев оборвался, единственные звуки, еще соединявшие меня с внешним миром.
Я бросился на койку, все мысли, все чувства покинули меня, я погрузился в глубокий сон. Разбудил меня легкий шум открываемой дверной заслонки. На ней я увидел оловянную тарелку с деревянной ложкой, деревянную чашку с молоком и крохотный ржаной хлебец. На тарелке была рыбная запеканка с белыми грибами. Посуда чистая, приготовлено все вкусно. Молока в чашке оказалось этак с пол-литра. Тюремщика, принесшего еду, я не видел, со стороны коридора отверстие закрывала вторая заслонка.
Когда я опять сел на койку и поставил свой ужин на решетчатый низкий столик, я снова услышал куранты. На сей раз все четыре стиха первой строфы прекрасного хорала, а затем семь ударов – значит, я провел в крепости уже три часа, и не менее 45 минут из них проспал мертвым сном. Этот мертвый сон остановил бешеную гонку мыслей, и впервые за трое суток, прошедших с момента ареста, я ощутил голод и пустоту в желудке.
После ужина взгляд мой упал на тетрадь с перечнем книг. На первой странице – крупная надпись: «Внимание!», – а ниже уже слышанное мною от унтер-офицера предупреждение не делать ни в каталоге, ни в книгах никаких пометок; заканчивалось оно так: «Помните, что, нарушая это правило, Вы вредите другим узникам и что всякая книга с пометками сжигается и замене не подлежит. Все книги библиотеки суть подарки Ваших предшественников либо конфискованы у них».
Читая каталог, я очень удивился: наряду с беллетристикой и специальными трудами по разным отраслям науки на разных европейских языках там значилась всевозможная международная революционная литература, строго в России запрещенная: уже само владение ею считалось преступлением и каралось ссылкой в Сибирь. В мозгу мелькнуло, что этот каталог, возможно, ловушка, ведь по выбору книг можно сделать выводы об умонастроении и взглядах читателей. Иного объяснения этой уникальной для России свободы от цензуры я найти не сумел.
Я отметил себе в памяти каталожные номера нескольких романов Виктора Гюго и исторического труда о разделе Польши; ведь определенную роль в этом разделе сыграл один из графов Кейзерлингов, российский посол при дворе Марии Терезии {115} . Затем я составил посуду от ужина на заслонку и позвонил три раза. У отверстия появился унтер-офицер, я назвал ему номера книг и отдал каталог. «Завтра в семь, – сказал он, – вы получите желаемое». Передал я в коридор и окурки трех выкуренных папирос вкупе с горелыми спичками; чьи-то руки забрали посуду, положили три новые папиросы и пять спичек, после чего заслонка опять закрылась.
Меряя шагами камеру то вдоль, то поперек и постоянно чувствуя на себе неотрывный взгляд из-за стекла, я размышлял, есть ли вообще возможность бежать отсюда. Сам я не стал бы бежать и при открытых дверях, для меня существовало только одно – оправдание. Меня страшил позор, а не смерть. Занимаясь этими чисто теоретическими рассуждениями, я не мог не восхититься рациональностью, с какою здесь все было устроено; более целесообразной и практической системы просто придумать невозможно. Заключенным предоставляли все необходимое для поддержания физического их здоровья, учитывали даже их привычки касательно опрятности, питания и курения, обращались с ними вежливо, ни оскорбительным словом, ни неуважительным жестом не напоминая об их положении. И все же каждый не мог не чувствовать, что находится в преддверии вечности, что мир для него более не существует, что он беспомощен и отдан во власть чуждых сил, он даже собственной жизнью не располагал, так как и покончить самоубийством здесь невозможно. Все продумано до тонкостей – ни гвоздя, ни дверной ручки, ни оконного переплета, ни даже кроватной спинки, чтобы привязать веревку; нет ни простыни, ни вообще чего-либо, чтобы эту веревку свить. Стены прямо от пола наклонные, биться об них головой бесполезно. Острых углов нет; койка до того низкая, что и стоя на коленях об нее голову не расшибешь. Металлических предметов в руки не дают; посуда деревянная и из мягкого олова. Ложка и та круглая, деревянная, вилок узникам не полагалось.
Предосторожности шли еще дальше. Когда я однажды попросил ревизовавшего мою камеру полковника, чтобы мне дали иголку – нужно было удалить расшатанную зубную пломбу, которая причиняла сильную боль, – мне дали оную лишь через двадцать четыре часа; видимо, полковник испрашивал разрешения вышестоящих инстанций. Иглу мне принесли трое тюремщиков, один из них, уже знакомый мне унтер-офицер, передал ее мне, его спутники взяли меня за локти, а сам унтер-офицер, пока я выковыривал пломбу, глядел мне в рот. Происходило все в полном молчании, но я прекрасно понимал, что они опасались, как бы я не проглотил иголку. В конечном счете недреманное око за стеклом так или иначе помешает любой попытке самоубийства.
До десяти вечера в плафоне над койкой постоянно горела десятисвечовая лампочка, а ночью – двусвечовая, так что глаза за стеклом все время видели меня – спящего или бодрствующего. Я и не предполагал, что неотрывный наблюдающий взгляд, от которого некуда скрыться, может стать такой невыносимой пыткой.
СТРАШНАЯ НОЧЬ
Душевные переживания той первой ночи в крепости никогда более не повторялись, и выразить их словами почти невозможно. Утолив голод, я прилег в надежде найти забвение во сне. Но мысли о бесчестии скоро завладели мною с новой силой, неудержимым потоком мчались в мозгу. Я вскочил с койки и, будто зверь в клетке, заметался по камере.
Я чувствовал, что хаос внутри приближается к точке кипения, – и был прав! Телесность вдруг словно исчезла, а с нею все мысли и чувства, ощущение времени и пространства, – но «я» осталось. Единственное слово, каким я мог бы обозначить свое тогдашнее ощущение «я», это – «нечестивость». Я погружался в бездонную пропасть, в состояние, до малейших деталей противоположное тому, каким представляют себе блаженство. И это было состояние души, абсолютно лишенной телесности, – позор, грозящая смерть, ярость и негодование исчезли, все растворилось в безымянной душевной муке.
Как долго так продолжалось – секунды? минуты? – я сказать не могу, не помню и как упал на пол. Очнулся я, уткнувшись лицом в плиты пола, голова и руки болели.
Что – то со мною произошло – что-то жуткое отступилось от меня, а именно чувство полной заброшенности. Я поднялся и лег на койку. Во мне пробудилось ощущение близости Господа, я с головой укрылся одеялом и канул в сон без сновидений.
Утром меня опять разбудил звук открываемой заслонки, на которой стоял завтрак: молоко, яйца, каша и булочка с маслом, все свежее и в достаточном количестве. Рядом лежали и две заказанные книги, а также папиросы и спички.
Показанное мне накануне оборудование камеры в ответ на мои звонки функционировало безупречно, как часы. Когда я умылся, открылась дверца в нишу, и я услышал голос: «Войдите, пожалуйста, в нишу, камеру будут убирать». Я последовал приглашению, и дверца за мною закрылась. В нише было сиденье, а вместо задней стены – такая же дверца, как та, в которую я вошел. Через эту нишу моя камера соединялась с кабинетом, где меня позднее допрашивали. Минут через десять дверца опять открылась, выпустив меня, и тотчас закрылась снова. Камеру успели проветрить, и чистотою она напоминала операционную. Уборщики уже исчезли.
В 11 часов вместе с полковником ко мне вошел старый генерал-адъютант, высокий, аристократичный, – комендант крепости. Я видел этого генерала на придворных торжествах, хотя лично мы знакомы не были. Он посмотрел на меня, поздоровался безмолвным кивком и обвел взглядом помещение. Когда я хотел обратиться к нему, он молча отрицательно качнул головой, а затем вместе с полковником вышел. Мучительная загадка не разрешилась.
Дверь опять заперли, я взял одну из книг, попытался читать, но не смог сосредоточиться. Новый страх охватил меня, страх за жену и мысль о том, как она боится за меня. С тех пор как она уехала в Литву, а я – в Германию, мы ничего друг о друге не знали. А что, если немыслимое, случившееся со мною, постигло и ее?
Этот страх завладел мною и не отпускал. Весь день и следующую ночь он ни на миг не отступал, и чем глубже я погружался в эти мысли, тем оправданнее казались мне такие опасения. Вся моя приватная корреспонденция была написана рукою жены, она во всем была моею доверенной помощницей, а происшедшее со мной, наверное, коренилось именно в этой корреспонденции.
И неотступно в мою душевную пытку смотрели всевидящие глаза, и каждые четверть часа звучали с собора обрывки хорала. То было единственное, что проникало извне в мое одиночество, и неотвратимость, на произвол коей я был отдан, с каждою минутой нарастала, превращаясь в невыносимую муку.
ДОПРОС
Так прошли суббота, воскресенье и понедельник. Во вторник в 8 утра распоряжения зайти в нишу не последовало. Малейшая перемена в здешнем однообразии действовала на мои перенапряженные нервы. Через час дверца ниши бесшумно отворилась – в камеру вошел жандарм. Резким тоном, ничуть не похожим на манеру тюремщиков и полковника, он приказал: «Встаньте и следуйте за мною на допрос».
Он пропустил меня вперед, и через нишу мы прошли в большое светлое помещение – изящно обставленный кабинет. По стенам тянулись высокие шкафы с книгами, на полу – ковер, посреди комнаты наискось – большой письменный стол. Возле него, спиною к свету, сидели в тяжелых креслах седобородый жандармский генерал, а справа от него у торца стола – очень элегантный гражданский чиновник в вицмундире, с высоким орденом на шее и вторым в петлице. По пуговицам я понял, что он из ведомства юстиции. У генерала была на груди орденская звезда.
В глубине большого помещения виднелся длинный стол, покрытый красным сукном. На одной его стороне стояла судебная печать, на другой – распятие, рядом с которым лежала Библия; с трех сторон этого стола стояли стулья. Все выглядело так, словно здесь было заседание суда.
Генерал сделал мне знак подойти к письменному столу, так что я оказался перед ним в ярком свете. Он назвал себя: «Генерал-майор Иванов, товарищ шефа жандармов {116} . – Указывая на господина, сидевшего с ним рядом, он представил оного: – Статский советник Константинов, прокурор Петербургского верховного суда» {116} . Когда я вошел, оба они встали перед своими креслами, теперь же оба сели. Мне стула не предложили.
Генерал начал допрос. Перед ним лежало мое личное досье, составленное полковником, рядом несколько перевязанных пачек писем и документов, которые я тотчас узнал как мои собственные.
Генерал.Вы камергер действительный статский советник Альфред граф Кейзерлинг, председатель царскосельского земства, курляндский дворянин. Вам известно, что вы обвиняетесь в шпионаже и измене родине?
Я.Да.
Генерал. Признаете ли вы свою вину?
Я.Нет.
Генерал.Состоялось ли двадцать пятого июля земское собрание, по окончании коего вы в три часа дня выехали на автомобиле в Гатчину, а там, не заходя на вокзал, сели в вагон-ресторан скорого поезда, идущего в Германию, и через пограничный пункт Вирбаллен направились в Эйдкунен?
Я.Да.
Генерал.Когда вы садились в поезд, у вас были при себе саквояж и сверток с бумагами. Этот сверток вы передали в Эйдкунене немецкому чиновнику?
Я.Саквояж и сверток у меня были, но сверток я немецкому чиновнику в Эйдкунене не передавал, а лично сдал в Берлине на почту для дальнейшей пересылки.
Генерал.Во время субботнего земского собрания в Царском вы имели телефонную связь с Красным Селом?
Я.Нет.
Генерал.Вы знали, что происходило в это время в Красном?
Я.Нет.
Генерал (указывая на лежащие рядом с ним пачки бумаг).Вы признаете, что эти письма и бумаги ваши?
Я.Насколько я могу видеть, да. Но коль скоро они перевязаны, мне нужно их просмотреть, только тогда я смогу дать окончательный ответ.
После этого генерал вскрыл одну пачку. Там были только черновики писем и телеграмм, первые написаны рукою моей жены, вторые – моей собственной. Я подтвердил, что все эти бумаги мои.
Генерал.Когда вы последний раз были в Вильне?
Я.В конце мая или в начале июня.
Генерал.Встречались ли вы там с имперскими немцами, каковые затем уехали в Польшу?
Я.Да.
Генерал.По вашему заданию некий имперский немец-топограф производил картографическую и топографическую съемку императорских резиденций, района маневров под Красным Селом, города Колпино и населенных пунктов вашего уезда, и вы рекомендовали его петербургскому городскому земству и всем земствам губернии для аналогичной работы? Этого человека звали…
Я.Да.
Генерал.Вы видели этого человека в Вильне и снабдили его инструкциями и рекомендациями в Польшу?
Я.Нет.
Генерал.Были ли вы после объявления войны задержаны в Германии?
Я.Да, на обратном пути, на границе, в Эйдкунене. Все вагоны там заперли, пассажиров арестовали, а поезд отправили обратно. Но в Кёнигсберге мне удалось незаметно сойти и пробраться в замок к кузену, начальнику окружного управления, чтобы не угодить под интернирование, потому что я непременно должен был вернуться на мой пост в Россию.
Генерал.Другие русские пассажиры поезда были интернированы?
Я.Думаю, да, ведь, проезжая через Берлин, я видел, как арестовывали и уводили множество российских подданных.
Я коротко обрисовал генералу путь, каким выбрался из Германии. Затем он открыл одну из папок и зачитал из нее телеграммы и письма, показавшиеся мне совершенно незнакомыми и по смыслу непонятными, ибо речь в них шла исключительно о военных вопросах.
Генерал.Как вы объясните эту переписку?
Я.Эти письма и телеграммы не мои, и объяснений касательно оных я дать не могу.
Тут генерал выказал явное нетерпение.
Генерал.Вам известно, в чем вас обвиняют и что вам предстоит. Воспользуйтесь последней возможностью облегчить вашу совесть добровольным признанием. Только так вы можете хоть немного уменьшить позор, какой сами на себя навлекли. Что вас толкнуло на это – политические мотивы или материальные?
Я.Я не предатель, и признаваться мне не в чем.
Прокурор.Напрасно вы все отрицаете. Вина ваша доказана. И жребий ваш брошен. Лишь случаю вы обязаны тем, что сегодня имеете возможность дать объяснения, прежде чем дело будет закрыто. Вам известно, что жизнь ваша кончена.
Генерал.Сей способ защиты не к лицу такому человеку, как вы. Контрразведка штаба в результате точного расследования установила вашу вину. Сначала вы подтвердили, что содержащиеся в этом пакете письма и телеграммы принадлежат вам, а теперь, когда я их зачитал, объявляете, что ничего о них не знаете.
Генерал вынул из пачки письмо и спросил, написано ли оно мною.
Я.Да, это письмо я продиктовал моей жене.
Генерал взглянул на номер письма, затем указал на соответствующий номер в своей папке – это был № 17 – и сказал: «Я читал вам это письмо, и вы от него теперь отказываетесь. Я закрою дело и подпишу присланный мне протокол штаба».
Я.То, что вы прочитали, вероятно, перевод моего письма, но в этом переводе я совершенно ничего не понимаю. Я не писал и не думал ничего подобного.
Генерал запнулся, коротко переговорил с прокурором, и оба удивленно воззрились на меня. Потом генерал взялся за телефон и связался с жандармским управлением, попросив соединить его с таким-то жандармским полковником из иностранного отдела (он назвал немецкую фамилию), потом сказал: «Возьмите авто и немедля приезжайте ко мне.»
Между тем пробило 12, т. е. я уже без малого три часа простоял перед моими допросчиками и очень устал. Генерал позвонил. Вошел давешний жандарм, и ему было приказано отвести меня в камеру и распорядиться, чтобы мне сразу же принесли обед, так как через полчаса допрос будет продолжен.
Ровно через полчаса я вновь стоял у стола; ситуация изменилась лишь в том, что у второго торца занял место жандармский полковник. Генерал назвал мне его фамилию, но я не запомнил.
Генерал.Я пригласил сюда полковника, потому что ни сам я, ни прокурор не владеем немецким языком в достаточной степени. Прошу вас сесть вон туда, к красному столу. Полковник сядет рядом, и каждый из вас сделает свой перевод означенного письма. Затем переводы будут сопоставлены. Полковник вполне владеет немецким, ибо по происхождению немец и много лет провел в Германии.
Мы с полковником сели за стол – между нами поместился прокурор. Сначала письмо переводил я, затем – полковник. Когда мы закончили, генерал подал полковнику перевод из папки. Тот заглянул в текст и заметил, что генерал, вероятно, ошибся в номере, так как это письмо и то, что он переводил, по содержанию совершенно различны. В немецком оригинале он кое-что не смог понять, а именно сокращения. Тогда меня попросили разъяснить полковнику эти непонятные сокращения, что я с легкостью и сделал. К примеру, «BL» означало «Балтийский Ллойд» или «Бременский Ллойд», «Ed» – Эмден, «Lb» – Либава, «RDG» – «Российская пароходная компания». Эти слова были внесены в текст, после чего генерал прочитал перевод полковника, полковник – мой, а прокурор – перевод из папки. Мой и полковников переводы совпадали почти слово в слово, тогда как перевод из папки имел совершенно иной смысл. Так, «BL» было истолковано как Брест-Литовск, «Вl» – как Берлин, «Ed» (Эмден) – как Эдуард и т. п. Кроме того, целые фразы были добавлены, тогда как другие вычеркнуты. В результате письмо из папки превратилось в тягчайший обвинительный документ.
Генерал, прокурор и полковник недоуменно переглянулись. «Подобного невежества я от них не ожидал», – заметил генерал. Больше он ничего не добавил, но я понял, что он имел в виду переводчиков контрразведки. Затем генерал обратился к полковнику: «Возьмите все документы и эту папку с собой и сопоставьте немецкие оригиналы с переводом. Там, где обнаружите ошибки, приложите свой перевод. Прошу поторопиться. Главнокомандующий приказал закончить дело в кратчайший срок». Полковник забрал бумаги и откланялся.
Прокурор меж тем подвинул мягкое кресло, в котором сидел полковник, к столу против генерала и спросил: «Вы не возражаете, если граф будет отвечать на вопросы сидя?» Генерал согласно кивнул, прокурор предложил мне сесть и, достав из кармана портсигар, угостил папиросой. Нет слов, чтобы описать, какой вкусной показалась мне эта папироса.
Во тьму моей безнадежности упал первый луч света – я увидел человека, который начал сомневаться в моей виновности.
Генерал.Готовы ли вы дать на все мои вопросы правдивый и прямой ответ?
Я. Да.
Генерал.Обдумайте каждый ответ, ничего не упускайте и не замалчивайте, даже если вопросы покажутся вам щекотливыми, ибо касаются не вас лично, а других лиц. Все, что вы скажете, останется между нами, коль скоро не подлежит включению в досье как документальное доказательство.
Засим он положил перед собою лист бумаги, согнул его пополам, так что получились очень широкие поля, и, уже начав писать – я видел, что он написал «Красное», – задал первый вопрос.
Генерал.Почему вы отрицали, что двадцать пятого июля во время земского собрания в Царском связывались по телефону с Красным Селом?
Я.Потому что точно помню, что в этот день вообще к телефону не подходил.
Генерал.Мог ли кто-либо из ваших служащих или участников собрания говорить по телефону без вашего ведома?
Я.Пожалуй, это возможно, у нас два телефона, один – в моем кабинете, второй – в приемной. Из моего кабинета никто не звонил, иначе я бы непременно услышал это в зале. Телефон в приемной находится в запертом шкафу, а звонок слышит привратник или кто-либо из чиновников, случайно там оказавшихся.
Генерал.Установлено, что, когда военный министр просил связи с Царским, телефонная линия дважды была занята, и оба раза – земской управой. По распоряжению министра связь прервали, так как земство говорило по линии, предназначенной специально для штаба. (Телефонные централи Царского и Красного были связаны с тремя линиями – придворной, штабной и почтовой.)








