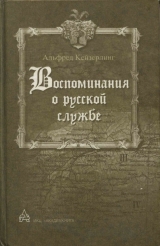
Текст книги "Воспоминания о русской службе"
Автор книги: Альфред Кейзерлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц)
ПЕРС
Помню еще один совершенно особенный случай. При ревизии личных досье в канцелярии я наткнулся на показания некоего бродяги, которые побудили меня повторно проверить все его заявления, хотя дело уже было сдано в архив с пометкой, что рассказанное этим человеком «лживо» от начала и до конца. Я велел привести ко мне означенного арестанта и лично его допросил. «Перс» – так его прозывали, настоящее его имя я забыл, – рассказал вот что. Во время Турецкой войны 1877 года в стычке с противником он был легко ранен и очутился в плену; все его товарищи, кроме офицера, которому удалось спастись, в этой стычке погибли. Это он знает точно, ведь его и пощадили для того, чтобы он похоронил трупы. Потом некий турок-офицер взял его в услужение конюхом, а позднее вместе с лошадьми продал персу, конному барышнику. У этого перса, который был добрым хозяином, он прослужил четыре-пять лет. Затем на квартире у хозяина остановился некий англичанин, закупивший множество коней, верблюдов, палаток, седел, а также рабов-прислужников. Поскольку же наш Перс владел многими языками – русским, турецким и даже чуточку монгольским, – англичанин уговорил барышника продать и его тоже. Сперва тот отказывался, но, когда англичанин предложил сумму вдвое больше той, что уплатил за других, все-таки согласился. Об англичанине Перс тоже отзывался с большой теплотой и служил ему верой-правдой. Вместе они долго путешествовали по разным странам. Англичанин все время что-то искал – и на земле, и под землей. Слуги думали, он ищет золото, но, скорей всего, заблуждались, ведь, наткнувшись на следы золота, хозяин не обращал на них особого внимания, только брал немного песка и камней и продолжал свой путь. Что он там потерял и искал, Персу неизвестно. Однажды ночью – они тогда уже не первый день двигались на восток – к его костру (хозяин уже спал в палатке) подошли два незнакомца и заговорили по-русски. Впервые за семь лет услыхав родную речь, он так обрадовался и так затосковал по дому, что решил тайком оставить хозяина и примкнуть к этим людям, ведь они направлялись в Россию. С собою он прихватил только собственные вещи да немного провизии. По словам этих людей, Россия была совсем близко, и он не сомневался, что и до родной деревни недалече, а там у него все будет хорошо. И правда, на второй день они переправились через реку и очутились в деревне, где все говорили по-русски. Те двое сразу же ушли дальше, а он остался, но, когда поведал свою историю, никто в деревне ему не поверил, в том числе и полицейские, которых он попросил указать ему дорогу домой; они только смеялись и говорили, что его дом, то бишь каторга, и вправду близко. Его арестовали, а потом включили в арестантскую партию, с которой он и дошагал до Кары. Здесь ему тоже не поверили, засадили в тюрьму и сказали, что наведут справки у него на родине. Оттуда пришел ответ, тоже найденный мною в досье: этот-де человек давно мертв, погиб на войне в 1877 году, так записано в церковной книге. Перс, однако, назвал и фамилию офицера, зная, что того не было среди убитых. Но поскольку указать место жительства офицера он не мог, искать оного не стали.
Арестант говорил так искренне и так ярко описывал пережитое, что я уверился: он не лжет. Я послал в Россию запрос касательно того офицера и через несколько месяцев получил ответ от него самого. Он писал, что рассказ Перса о той злосчастной стычке, в которой он (офицер), будучи тяжело ранен, уцелел и единственный сумел добраться до своих, чистая правда и что он рад узнать, что один из его людей до сих пор жив. Я тоже очень обрадовался, что мой оптимизм, вероятно вызывавший в канцелярии смешки, и знание людей не обманули меня и что я в силах помочь этому столь много пережившему человеку наконец-то вернуться домой, где ему, надеюсь, не довелось столкнуться с новыми разочарованиями.
За год моего пребывания в Каре обнаружилось еще два случая судебной ошибки, т. е. вынесения приговора невиновному. В одном случае человек отсидел шесть лет на каторге, когда пришла весть, что преступник, уличенный в другом убийстве, сознался и в том преступлении, за которое невинно сидел этот бедняга. Второй случай, когда осужденный за убийство уже два года находился в Каре, также разъяснился благодаря признанию настоящего убийцы. За обоими на каторгу последовали семьи, вынесшие все опасности и ужасы этапа и самих каторжных работ, – домой они вернулись надломленные физически и морально.
СИБИРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ
Царская идея заселить Сибирь, высылая туда нежелательные и преступные элементы, была в корне ошибочна. И доказательством здесь служит тот факт, что за без малого три столетия лишь ничтожное число таких сибирских поселенцев стало настоящими оседлыми колонистами. Отдельно взятый русский человек вообще не колонист. Ему нужен «мир», сельская община, потому что именно эта форма крестьянского сообщества отвечает его натуре. Он не способен в одиночку, своими силами, вести успешную борьбу с дикой природой и жестоким климатом, не способен быть первооткрывателем. Вдобавок на поселение в Сибирь отправляли обычно людей нравственно неполноценных, которые вдобавок прежде никогда не занимались сельским хозяйством. Те, кто в Сибири процветал, были исключениями; эти люди обладали достаточно высокой культурой и выдающимися духовными и физическими задатками и всюду на свете добились бы успеха. Только когда в конце XVIII века правительство, не останавливаясь перед большими затратами, стало систематически расселять на хороших, пригодных для сельского хозяйства территориях многочисленные группы крестьян, истосковавшихся по земле, – группы, связанные кровными узами и общей родиной, – население Сибири заметно увеличилось.
Истинно сибирские крестьяне, потомки покорителей Сибири XVI и XVII веков, тех разбойников ермаков и стенек разиных, которые, стремясь на Восток, на собственный страх и риск покорили обширные территории Сибири и преподнесли своему царю, – это совсем другая часть сибирского населения, которую ни с кем не спутаешь. Они всегда были свободны и рассчитывали только на себя, никогда не знали крепостной зависимости и закалились в постоянной борьбе с природой и людьми.
Их села не идут ни в какое сравнение с деревнями России – дома у них просторные, ухоженные снаружи и внутри и содержатся в такой чистоте, какую я видел разве только в Швеции и Финляндии. Пол выскоблен так, что на нем можно не задумываясь стелить постель.
В этаком сибирском крестьянине нет ни малейшего следа покорности, что существенно отличает его от российского крестьянина; каждого он встречает одинаково радушно, с неизменной учтивостью, но без подобострастия. В деревне он живет обычно только зимой и занимается извозом. Летом же наравне с работниками трудится в тайге на заимках, которых у него одна или несколько и все созданы его руками. Жизненный уклад его, поэтому более схож с мелкопомещичьим, нежели с крестьянским. Человек зажиточный, знающий себе цену, он – сибирский патриот, преданный царю, но враждебный России, ведь он видит, что она только использует его и тормозит развитие Сибири, а ни помощи, ни защиты не обеспечивает. Российский чиновник для него – неизбежное зло, вроде комаров, слепней и «мошкары», мелкого сибирского кусачего гнуса. На русских колонистов он смотрит с пренебрежением и с ними не смешивается; играя словами, зовет их «навозом», ведь по-русски «навоз», с одной стороны, удобрение, а с другой – нечто чуждое, привезенное извне. Впрочем, этим же «ласковым» словом он зовет и российского чиновника.
«ШПАНКА»
Сибирскому бродяге лишь в исключительных случаях удавалось дожить до старости. Опасности грозили ему со всех сторон. По весне, когда кричит кукушка, в сердце всех каторжников закрадывается беспокойство, и необоримая тоска по воле, природе и странствиях одолевает арестанта; он думает только об одном: о побеге.
Те, кто покуда сидит под замком в тюрьмах, не могут утолить эту тягу к свободе. Но «шпанка» – так называют себя арестанты в целом – бурлит, как улей перед роением. В такую пору опытный надзиратель, как осторожный пасечник, избегает приближаться к своим «ульям», то бишь к «шпанке», и раздражать оную строгостями. Он знает, шпанка может и укусить. Солнечный свет, весенний ветерок и кукованье кукушек – эти колдовские чары способны пробудить в заключенном силы, которые весь год никак себя не проявляли. Но в пасмурную и дождливую погоду, в запоздалую метель барометр настроений в шпанке падает, и надзиратель восстанавливает свои права, вознаграждая себя за давешнюю мягкость.
И вот однажды весной, в прекрасную солнечную погоду, в одной из тюрем случился бунт. Около 250 арестантов вооружились поленьями и, стоя в закрытом тюремном дворе лицом к лицу с надзирателями и вызванной охраной, приготовились к схватке. Когда я спросил, что произошло, мне сообщили, что несколько узников избили надзирателя, который застал их за игрою в карты. Виновных надлежало заковать в кандалы и посадить в карцер, но шпанка освободила своих товарищей и наотрез отказалась выдать их и идти на работу. Не очень-то доверяя надзирателям, я вызвал к себе виновных и депутацию арестантов и обещал тщательно расследовать инцидент, если они бросят поленья и спокойно отправятся на работу. Арестанты подчинились, я выслушал депутацию и виновных, проверив и показания другой стороны. При этом выяснилось, что надзиратель сам подначил арестантов к игре в карты, а потом обманул, за что его и поколотили. Надзиратель был уволен, начальник тюрьмы получил строгий выговор. Тем все и кончилось. Надзиратели сказали только: «Вот дурак – зачем дразнил шпанку в такую хорошую погоду!»
Несколько дней спустя я снова заехал в эту тюрьму, и мне доложили, что группа арестантов совершила мелкий проступок и трое из них только что взяты в железа и посажены в карцер. На мой вопрос, как же это удалось так быстро справиться с этими людьми, еще третьего дня совершенно непокорными, мне сказали: «Ну, нынче-то они все как вялая листва, – денек серенький, унылый.»
«ВОЛЬНЫЕ» И БЕГЛЫЕ
Иначе обстояло с каторжниками, которые уже были зачислены в «вольную команду», а под надзором солдат, как и живущие в тюрьме, находились только на работе. Так называемому «вольному» арестанту надлежало утром и вечером являться на перекличку; ночью же и в остальное время, когда не был на работе, он не был и под надзором, казармы и домишко его частоколом не обносили. Если такой «вольный» уходил в тайгу, его исчезновение обнаруживалось лишь на следующей поверке, когда он уже имел часов 12 форы. Но побег усложняло то обстоятельство, что он принадлежал к десятке с солидарной ответственностью.
К примеру, приговоренный к десяти годам арестант фактически сидел на каторге до поселения не десять, а шесть лет. Потому что примерно 1/3 срока, проведенного на этапе, а затем на работах в руднике, ему «дарили». Сокращали срок и за хорошее поведение. Под замком в тюрьме арестанту в обязательном порядке надлежало отбыть половину срока, т. е. только три года из шести. Вся вольная команда была поделена на десятки, которые солидарно несли ответственность за побег. Если один бежал, остальных на полгода сажали обратно в тюрьму. Зато десятка имела право не принимать тех, за кого не могла поручиться. Вот почему, чтобы попасть в вольную команду, арестант сначала должен был найти десятку, которая его примет. Если он намеревался бежать, то должен был либо получить согласие остальных девяти, либо они бежали все вместе. Тою весной, когда я находился в Каре, побег совершили в совокупности сто шестьдесят арестантов, т. е. примерно 10% вольной команды.
Искали таких беглецов не слишком старательно. Не подлежало сомнению, что в Сибири они не пойдут на бесчинства вроде грабежей и убийств, и те, кто застрянут здесь до зимы, сами вернутся искать кров и пропитание в привычном своем доме.
Щедрая сибирская природа, которая давала бродягам достаточно пропитания – речной рыбы, таежной дичи, ягод и корешков, – а также хлеб, одежда и деньги, какими иной раз удавалось разжиться у населения, летом позволяли им безбедно наслаждаться волей. В эту пору и сами они были вполне безобидны. Если кто встречал на большом военном тракте даже целую ватагу из десяти и более бродяг, ему ничего не грозило. Они всегда вежливо здоровались и разве что просили милостыню.
Не получив оной, они спокойно шли дальше. Присматривать следовало только за багажом, привязанным на задке тарантаса, – чтоб не «упал» после такой встречи. Вернувшись назад за упавшим сундуком, его обычно находили, но с сорванным замком и пустой. Зачинщиком в таких случаях частенько бывал ямщик, кучер почтовой кареты. Мимоездом он подмигивал оборванцам или подавал иной знак, который на их воровском языке означал: «Мой седок – фраер, сундук тяжелый, не прикован, сам он сонный. Не ленись, ребята! Я поеду не спеша». Тогда один незаметно прицеплялся сзади к тарантасу, резал веревки, а на ближайшем скверном мосту или ухабе ямщик вдруг нахлестывал лошадей, рывок – и сундук на дороге. Опытный путешественник закреплял свой сундук стальной лентой или, пропустив сквозь спинку тарантаса веревку, один ее конец привязывал к своей руке, а другой – к сундуку, чтобы проснуться от рывка, если сундук упадет. Иные дорожные перегоны пользовались особенно дурной славой; один из ямщиков ставил там на лето своих постоянных сообщников, причем проезжающий их совершенно не замечал.
Мне вспоминается случай, когда во время инспекционной поездки с генерал-губернатором мы встретили компанию этак из десятка бродяг, которые вежливо поздоровались и попросили у барона Корфа подаяния – они, мол, бедные арестанты-бродяги. Мой шеф остановил тарантас, дал каждому по рублю, пожелал им доброго пути и только высказал надежду, что они будут вести себя прилично.
«Приличное поведение» было и в их собственных интересах, потому что и полиция, и население терпели их как безобидных бродяг лишь до тех пор, пока на дорогах и в поселках не случалось грабежей и убийств.
Иное дело – в одиночку встретиться с незнакомыми людьми в таежной глухомани, тут уж никто не мог знать, что у них на уме. Человеческая жизнь ценилась в Сибири невысоко, и если кто-нибудь пропадал в тайге, интереса это не вызывало, ведь тайга засасывала людей, будто омут.
Многие бродячие арестанты искали работу на отдаленных таежных золотых приисках, где постоянно не хватало работников и не очень-то спрашивали, откуда человек явился, если он был силен и трудоспособен. За лето бродяга, наверное, мог заработать 300–500 рублей да еще тайком припрятать золотишка. Украсть золото не составляло сложности там, где оно залегало в виде самородков, а не песка. При известном везенье бродяга мог припрятать за лето 1–2 фунта «сырого» золота.
Предписания воспрещали нанимать беспаспортных работников, но администрация приисков практически не имела возможности соблюдать этот запрет. Ответственность за паспортный режим нес специально назначенный рудничный полицмейстер. Именно он решал, принимать работника или нет. Хотя по рангу должность полицмейстера была очень незначительной, в Сибири она ценилась высоко, и на нее претендовали довольно солидные военные и гражданские чины. Если в старину, чтобы помочь промотавшимся офицерам, им давали эскадроны и полки, то теперь губернаторы и генерал-губернаторы предоставляли своим протеже такие полицейские посты. Жалованье, которое государство выплачивало такому чиновнику, было мизерным, примерно 150–200 рублей в месяц, но сами компании добавляли к этим цифрам еще один ноль, а, кроме того, чиновнику приплачивали еще и 3–5 рублей «с рыла», т. е. с человека. Взамен полицмейстер не должен был чинить препон и, выписывая направление на работу, не особенно расспрашивать о паспорте. На приисках средней руки летом нередко трудилось до 2000–3000 человек, и полицмейстер, бывало, клал в карман до 2000–3000 рублей.
ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ
Собрав и уворовав за лето кругленькую сумму в деньгах и золоте, беспаспортный арестант еще отнюдь не был обеспечен на зиму. Ему предстояло исхитриться и выйти из тайги живым. Более чем вероятно, его убьют собственные товарищи или застрелят и ограбят «охотники за головами». В Сибири был популярен такой вот легкий промысел, а для многих и спорт: когда осенью ударяли морозы, работы на приисках останавливались и уволенные работники уходили прочь, иные люди отправлялись в тайгу и подстерегали там этих работников, возвращавшихся с деньгами и золотом. Данным «спортом» занимались не только крестьяне и простые мещане, но зачастую и уважаемые, богатые купцы, которые на несколько недель уходили в тайгу охотиться, причем добычею их были не столько олени, косули и медведи, сколько возвращавшиеся домой старатели. Крупные охотники довольствовались деньгами и золотом, а мелкие, прежде чем закопать жертву, снимали с нее и одежду, и сапоги, какими бродяги всегда обзаводились перед уходом с прииска. Сей промысел считался вполне благоприличным занятием, а вовсе не убийством исподтишка.
Конечно, охотник за головами рисковал быть убитым, если жертва заметит его первой или подстережет, потому что бродяга, возвращавшийся с прииска, всегда имел в кармане револьвер, – а значит, эта «охота» была сродни охоте на опасного зверя. В Верхнеудинске я нередко посещал дом миллионера Л-ина, который славился гостеприимством. Сам хозяин был человек почтенный, приветливый, услужливый, любезный, жена – весьма обходительна, а дочка – хорошенькая девушка – слыла в городе лучшей партией. Однажды осенью, когда я к ним заехал, мне сказали, что г-н Л-ин на неделю-другую уехал в тайгу поохотиться. Но весь город знал, какую именно охоту г-н Л-ин предпочитает всем другим – охоту на бродяг. Это был секрет Полишинеля; никого это не возмущало, и никому в голову не приходило его осуждать.
Для двоих видных охотников за головами, которые не удовольствовались охотой на арестантов и старателей, дело все же кончилось плохо. Я имею в виду Алексеева, городского голову забайкальской резиденции, Читы, и директора тамошнего почтового ведомства, действительного статского советника.
Они были близкими друзьями, постоянными партнерами по картам у губернатора и, так сказать, столпами благоприличного общества. В мертвый сезон, когда охота на старателей еще не началась, охотничья страсть толкнула их к выслеживанию другой добычи.
Большой тракт из Читы в Иркутск сразу за городской чертой сворачивает на юг, огибая непроходимый заболоченный участок тайги, а потом – на северо-восток и через 75 верст опять приближается к городу на расстояние около 20 верст. Это обстоятельство навело друзей на мысль устроить охоту на денежную почту. Однажды, когда директор почтового ведомства лично погрузил на две почтовые тройки особенно много денег и золота и отправил их под конвоем четверых вооруженных почтарей, эти охотники оседлали самых резвых своих лошадей и им одним известными тропами через якобы непроходимую для всадников тайгу проделали двадцативерстный путь до большого тракта, где и стали поджидать почтарей. Когда тройки подъехали, они приказали почтарям остановиться, подошли к запряжкам, застрелили коренников, а потом и ямщиков. Сопровождающие почтари выхватили револьверы, но выстрелы их, хоть и грохотали, были для нападавших совершенно неопасны, потому что директор почтового ведомства загодя вынул из патронов пули. Еще четыре выстрела «охотников» – и с сопровождающими было покончено. Для верности – чтобы ни один свидетель не уцелел – душегубы пальнули в почтарей еще несколько раз. Потом они разрезали почтовые мешки, забрали золото и деньги, сложили в седельные сумки, вскочили на коней и тою же короткой дорогой помчались обратно в Читу. Там они сами отвели лошадей в конюшни, расседлали, после чего отправились в клуб и сели за карты. Вся вылазка заняла чуть более трех часов. Седельные сумки с добычей почтовый директор запер в свой сейф, ключ от коего был только у него. Казалось, беспокоиться теперь не о чем.
Наутро городской голова явился на доклад к губернатору. И тут адъютант ввел в кабинет окровавленного человека, который, указывая на городского голову, повторял, что его начальник, директор почтового ведомства, и этот вот господин застрелили его самого, второго ямщика и четверых почтарей, а почту похитили. Раненый первой пулей, он упал, а один из господ подошел к нему, пнул ногой и приставил к его виску револьвер, намереваясь добить, но барабан был уже пуст. Тогда второй, уже верхом на лошади, крикнул: «Да он и так мертвехонек, не задерживайся без нужды!» Ямщик ни на миг не терял сознания, только не шевелился, все видел и готов поклясться, что напали на почту его начальник и городской голова. Когда они ускакали, он кое-как поднялся, выпряг пристяжку и тою же короткой дорогой погнал через тайгу. Добравшись до дома губернатора, он рухнул без сил и был поднят охранниками; их-то он и упросил немедля отвести его к губернатору.
Выслушав этот рассказ, губернатор задержал Алексеева в своем кабинете, адъютанта же немедля послал к почтовому директору и велел доставить оного к себе по срочному делу. Адъютант застал почтового директора крепко спящим, но вскоре прибыл вместе с ним к губернатору.
Сначала друзья все отрицали, утверждая, что ямщик обознался, ведь у них обоих есть алиби. Во время нападения они-де сидели в клубе и в два часа ночи отправились оттуда по домам. Но ямщик стоял на своем: он, мол, узнал и знаменитых рысаков, на которых скакали господа. Тогда коней тоже осмотрели и выяснили, что на них, вне всякого сомнения, недавно ездили и едва не загнали, – оба коня были еще совершенно мокрые и грязные.
Однако седельные сумки, куда грабители, по словам ямщика, спрятали золото, бесследно исчезли. Лишь позднее, при домашнем обыске, сумки были найдены, вместе с еще не вскрытыми почтовыми пакетами. Отпираться дальше не имело смысла.
Преступников приговорили к смертной казни и публично повесили – одного перед городской управой, другого перед главным почтамтом.
Эту историю, которая в ту пору была у всех на устах, нам, причем с яркими подробностями, поведал сам подстреленный ямщик, когда вез барона Корфа и меня в инспекционную поездку.








