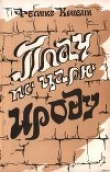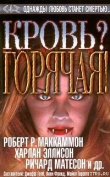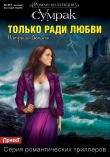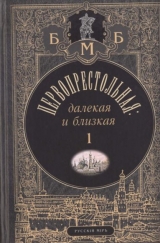
Текст книги "Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Автор книги: Алексей Ремизов
Соавторы: Иван Наживин,Михаил Осоргин,Иван Лукаш,Василий Никифоров-Волгин,Александр Дроздов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
Уже с середины XV века Великий Новгород стал заметно хиреть. Вся его внутренняя жизнь превратилась, по выражению летописца, в «междоусобные спирания»: «Крич и рыдания и вопль, и клятва всими людми на старейшина наша и на град наш, зане не бе в нас милости и суда права». Партии грызлись одна с другой без конца. Но народ устал от обманов вожаков, во всём изверился, ибо и слепым стало видно, что кто бы из вящих власть ни захватил, мизинным людям остается одно: вези. Мало того: когда Мамай прислал численников, чтобы и новгородцев обложить данью, мизинные люди воспротивились, а вящие убежали все на Городище – местопребывание князя, – и оттуда вместе с татарами собирались брать город приступом. Ясно было, что для вящих отечество только до тех пор отечество, пока им в нём тепло. После многих таких наглядных уроков патриотизма меньшие люди поняли их наконец, и потому, когда их высылали против врага, они бежали даже тогда, когда их выходило десятеро против одного; драться было просто не за что.
Соседушки старой республики, конечно, не дремали. С юга теснили и опустошали землю литовцы, а с моря – шведы, немцы и датчане. Всякий предлог был хорош. Шведский король Магнус Эриксон, отличавшийся чрезвычайным распутством, желая понравиться своим любезным верноподданным, вдруг обнаружил чрезвычайную ревность к подвигам апостольским. Он послал в Новгород посольство: «Пришлите на съезд ваших философов, а я пришлю своих и пусть говорят о вере. Если ваша вера окажется лучше, то я иду в неё, а если наша, то вы идите в неё. А не хотите быть в единении, буду воевать с вами всеми силами». Новгородцы своих философов к его величеству не послали, но вполне основательно посоветовали ему обратиться в Царьград. Он доброго совета не послушал, и – началась война…
Москва стояла у дверей старой республики. Правда, то не немцы были, не литваки, не шведы, а свои же православные русские люди, но больно уж не любо было вольным новгородцам московское насилование! Москва потихоньку уже захватывала одну новгородскую область за другой. Новгород потерял уже Вятку, Приуралье, обширное Заволочье – области по Северной Двине – Волок Ламский, Торжок, Вологду, Бежецкий Верх, а новгородцы по-прежнему «безлепотно волнующеся и крамоляху…»
В крамолах этих Новгород быстро слабел. Отцы – они любили-таки постращать овец своих бессловесных – пустили в ход всякие «знамения» и чудеса. Но и знамения уже не помогали. Соседей против угасающей республики двигал уже не только волчий аппетит, но и простая забота о личной безопасности. Если раньше из Новгорода то и дело отраивались дружины удалых повольников, чтобы добыть себе богатства, а Великому Новгороду славы, если они раздвинули пределы его до Ледовитого океана и стояли уже на самом пороге необъятной Сибири, то теперь повольники – бедняки, которым деваться было некуда, да беглые холопы – превратились в простых разбойников, и пьяные шайки их без всякого зазрения совести нападали уже на русские города, как Ярославль, Кострома, Нижний, грабили их, в полон продавали неверным, а города пускали дымом. Защищаясь, Москва должна была вести с этим постоянным разбоем неустанную борьбу, истощая русские силы без конца.
Едва ли не первую скрипку в смуте играла неугомонная Марфа, вдова посадника Исаака Борецкого. Её богатая и многолюдная усадьба на берегу Волхова кипела всякими заговорами и кознями. Небольшого роста, плотная, крепкая старуха, богатая чрезвычайно, могла бы жить в полном спокойствии, окружённая детьми и внуками, но точно вот чёрт вселился в бабу, и она забросила все личные дела свои на тиунов [22]22
Тиуны– княжеские судьи и управители . Прим. сост.
[Закрыть]и с утра до ночи кипела в беспрерывном водовороте интриг. Ещё более обозлилась она, когда при последнем нападении Ивана III на Новгород, её сын Дмитрий был Иваном казнён, а Фёдор, прозванный в Новгороде Дурнем, был увезён в Муром. И вот теперь москвичи придумали эту дурацкую историю с титулом государевым. Все объяснения, представленные Новгородом, остались без всякого результата, и в Новгород московский – подьячий даже не дьяк!.. – только что привёз «складную грамоту», то есть объявление войны.
В просторных и богатых сенях Марфы сидели, думая думу, её сторонники. Старый Пимен, ключник при владыке Ионе, который крал деньги из казны святой Софии Премудрости Божией для подкупа худых мужиков-вечников в пользу литовской партии, – свои денежки ловкая посадница поберегала про чёрный день – хмуро нахохлился у окна. Он потерял всякую веру в успех борьбы с Москвой.
– Не пойдёт теперь Москва на нас, – сказал один из бояр с рыжей бородищей по пояс. – Погляди, снега-то какие: ни проходу, ни проезду…
Марфа быстро встала и по своей привычке прежде всего поправила кику [23]23
Кика —головной убор, род повойника . Прим. сост.
[Закрыть]и рукава засучила – точно она в драку собиралась – и маленькие хитрые глазки её загорелись.
– Ежели Иван не придёт, бояре, то плакать о нём мы не будем… – бойко сказала она; в таких выступлениях она понаторела-таки. – А вот ежели он придёт, а мы, рукава до полу спустимши, дремать по тёплым сеням будем, тогда, пожалуй, большой беды нам не миновать… Скольких из новгородцев Иван вывез уже на Низ? Мой Фёдор, сказывают, помирает в Муроме – значит, сладко пришлось. А на этого дурака, Казимира… Господи, прости ты моё согрешение! Надежду, видно, надо оставить, на ногах стоя спит и сны, сказывают, видит. Ежели пограбить земли новгородские, это он может, а общее дело вместе делать, этого с него не спрашивай. Тут наши новгородцы на меня набросились было: то измена-де делу русскому. Никакой измены тут, бояре, нету. Погляди на их литовскую Вильну-то: половина жителей в ней наши, русские. А ежели всю их землю взять, то наших и того больше. Ежели нам довелось бы соединиться с ними, то мы ещё больше собой русскую сторону на Литве усилили бы и – сломали бы литовцам рога, а одновременно и московское насилование окоротили бы. И стала бы Русская земля от излива Волхова до городов червенских свободна, по старине. А они: измена… То-то недотёпы! Ни один дальше своего носа не видит, а тоже суются. А что до веры касаемо, то, по моему бабьему разуму, кажный как хошь, так и верь: всех несогласных в Волхове не перетопишь. Дурье это дело, эти свары из-за веры.
– Вся беда, духу прежнего в новгородцах не стало, – упрямо сказал рыжий боярин. – Анамнясь [24]24
Анамнясь– недавно . Прим. сост.
[Закрыть]слышу, спорят, что-то около моего двора грузчики с Волхова. И один поджигает: «Небось посадником в Новгороде ни разу не ходил не то что смерд, а даже и купец какой – всё бояре да бояре. Дак что-де нам больно против Москвы-то шуметь? Иван боярам враз рога-то обломает…»
– Это что говорить… – дружно поддержали его со всех сторон. – Помните, чай, как раз рать на Москву собирали, когда она наши земли за Волоком захватила? На вече крест целовали, чтобы всем за един брат быть, а чуть дошло до дела, все в кусты. Обездушел наш народ, вот в чём беда!
– Так… Это так.
– Ты что? – строго обратилась Марфа к старому дворецкому, который робко остановился у порога.
– Там пришёл к тебе, боярыня, игумен скопской Евфросин, – тихо сказал он: Марфы все чада и домочадцы боялись, как огня… – Прикажешь пустить его или, может, велеть до другого раза?
– Чего ему надобно? – сердито крикнула Марфа, поправляя кичку, и сердито же прибавила: – Таскаются тоже!
– Не могу знать, – сказал старик. – Чай, за плодоношением.
– Он тут которую неделю по городу ходит, всё насчёт аллилугиа хлопочет, – засмеялся рыжий боярин. – Очень, бают, его распоп Столп изобидел.
– Насчет аллилугиа? – нахмурилась Марфа. – Так скажи ему, что он… дурак!..
Бояре переглянулись украдкой. Эта горячность много бабе в делах вредила, но ничего она с своим бешеным сердцем поделать не могла. Также вот явился было к ней недавно Зосима, игумен Соловецкого монастыря – он приезжал в Новгород, чтобы выхлопотать грамоту на владение островами, на которые все наскакивали бояре да житьи люди Двинской земли, стараясь отнять их у батюшек, – а Марфа выгнала его со двора: она не терпела иноков-прошаков. И на ушко передавали, что старец предрёк будто большие беды дому её…
– Ну, постой, постой, – остановила она дворецкого, поймав взгляды бояр. – Ты там покорми его как следует, а боярыне, мол, сичас выйти никак недосуг, большое, мол, дело у неё. Погодь: что это?
За окном послышался нарядный перезвон хорошо подобранных бубенцов. Все бросились к окнам. К воротам подъехал сам владыка новгородский Феофил. У ворот засуетилась челядь. Из крытого коврового возка тяжело выбирался владыка. Всякий старался хоть издали, хоть кончиками пальцев поддержать святого отца, а он, раздавая благословения направо и налево, медлительно колыхался к крыльцу, на котором уже ждала его Марфа и все её гости.
– А вот и я к тебе, мать Марфа.
После благословений и обмена всякими любезностями владыка уселся в красном углу, под святыми иконами. Белый клобук его напоминал не только о величии сана его, но и о значении Господина Великого Новгорода. История этого клобука такова: к константинопольскому патриарху получившему, как известно, этот белый клобук от Рима, явился в ночи светлый юноша и повелел ему отправить клобук в Новгород, архиепископу Василью. Патриарх не послушался. Видение повторилось. Тогда патриарх, восстав, положил клобук в один ковчежец и многие чудные дары в другой и послал всё с епископом на далекий север. Владыка Василий, получив во сне предупреждение, что к нему едет белый клобук, вышел навстречу патриаршему посланцу и благочинно принял и клобук и дары. История сия местными философами была истолкована так: ни папа римский, ни патриарх константинопольский не оказались достойными белого клобука – только владыка новгородский оказался достоин сего. Следовательно, Новгород – это третий Рим, а четвёртому, конечно, не быть. Что велик он не только перед Константинополем, но и перед Москвой: получи и распишись, что называется!
– Всё толкуете, всё шумите… – добродушно проговорил владыка. – Всё мятётесь. Ишь ты, как раскраснелась, мать Марфа! Должно, крепко билась… А вы лучше бы на благостыню Божию уповали, маловеры.
– Да, хорошо тебе говорить-то, владыка святый, – поправив кику, не без раздражения сказала Марфа, знавшая, что владыка играет и вашим и нашим. – Тебе что? Ты везде свое поплешное [25]25
Кроме кормов натурой, духовенство должно было вносить владыке и «поплешную пошлину», деньгами, с каждой головы, украшенной тогда гуменцем, т. е. плешью.
[Закрыть]сберёшь. А помнишь, что москвитяне с пленными новгородцами-то наделали? Всем, разбойники, носы, губы да уши обрезали, да так и пустили.
– Как не помнить? – отозвался владыка, тоже видевший хитрую бабу насквозь. – Да ведь и новгородцы с москвичами иной раз не лучше поступали. А что касаемо меня, – набожно поднял он заплывшие глазки к потолку, – так на всё буди воля Господня.
У порога опять тихо встал дворецкий.
– Ну? – сердито крикнула Марфа.
– Да отец Евфросин никак не отстаёт, матушка боярыня, – сказал старик. – Пущай, говорит, хошь на малое время боярыня выйдет.
– Это он всё насчёт аллилугиа хлопочет, – улыбнулся владыка в бороду. – Такой настырный старичонка, не дай Бог!..
– Да ты рассудил бы их со Столпом как-нито и успокоил бы душу его! – сказал кто-то из бояр.
– Да я и успокоил, – отвечал владыка. – Хошь, – говорю, – двои, хошь трои – твоё дело. Раз тебе сам патриарх константинопольский велел, мол, двоить, так чего ж тебе, мол, ещё? Ему теперь больше всего Столпа доехать охота.
– Беда, какая смута в Церкви Божией идёт! – степенно сказал старый, белый как лунь, боярин. – Намедни у меня попы о перстосложении схватились: один кричит, что надо двое персты креститися, а другие – трои. Сколько годов крещена Русь, а всё никак не столкуемся.
Марфа сурово взглянула на дворецкого и, поправив кику и решительно засучив рукава, широкими шагами пошла из сеней:
– Ну, покажу я ему сичас аллилугию!
IV. МОСКВА НА ПОХОДЕБыло близко Рождеству. Морозы стояли лютые. Иван, не глядя на это, – он притворялся страшно разобиженным новгородцами, – приказал немедленно строить полки к походу. Он повелел, чтобы с полками шёл и наряд пушкарский с Фиоравенти, и дьяк Бородатый, который был весьма начитан в летописях и который в стязании о правах и вольностях новгородских мог оказать великому государю немалую услугу, и конные татарские отряды с дружком государевым касимовским царевичем Даньяром, к которому Иван иногда езжал потешить своё сердце тешью царскою, охотою соколиною.
И вот по узким, заваленным снегом улочкам Москвы пошли кличеи-бирючи, которые, надев на посох шапку, кричали во всю головушку, что великий государь на отступников от веры православной, на новгородцев непутных войною идёт и чтобы все, кому то ведать надлежит, явились бы к своему месту. И сразу закипела Москва приготовлениями бранными, и чрез несколько дней – суровый нрав великого государя был известен, – полки московские уже были готовы к выступлению. Подвигались полки и с других городов.
Сперва москвичи думали, что государь сам на Новгород не пойдёт – очень уж студёно было, – но Иван знал, что без него непременно начнутся эти окаянные свары местничества, которые уже не раз губили дело государское. В Разрядном приказе уже хранились разрядные книги, в которых записывались род и служба каждого боярского и дворянского рода, но это не помогало, распри и ненавидение между служилыми людьми были чрезвычайные, которые вспыхивали иногда даже пред очами грозного государя, не стеснявшегося сносить слишком задорные головы. И Иван пошёл с полками сам.
Было солнечное, морозное утро. Вся Москва курилась золотистыми кудрявыми столбками дымков. Торг у кремлёвских стен кипел. Какой-то володимирец ехал с возом на пегой кобыле и звонко выкликал: «По клюкву, по клюкву, по владимирску клюкву!» И хозяйки спешили к нему со всех сторон: владимирская клюква славилась. В Кремле и вокруг него стояли уже наготове полки московские. Батюшки служили молебны и в проповедях уверенно обещали воям, ежели падут они на поле брани, венец мученический. И вот, наконец, чрез Фроловские ворота с великим трубением полилась лавина головного полка…
– Ты гляди, как бы кобыла твоя не напугалась, – говорили москвичи володимирцу. – Иной раз так в трубы ударят, земля дрожит.
– Моя кобыла ничего не боится, – отвечал он, отвешивая седой, твёрдой, замёрзшей клюквы желающим. – Моя кобыла на этот счёт, можно сказать, совсем бесстрашная.
За головным полком выступил на Тверскую дорогу и большой полк, при котором ехал с ближними боярами сам великий государь и на особом возу везли свернутое знамя государское. За большим полком следовали полки правой и левой руки, а позадь всех – сторожевой, полк, охранявший силу московскую с тыла. При полках везли огромные бубны, в которые били во время боя для возбуждения в воинах храбрости. Они были так велики, что каждый везла четвёрка коней, а било в него по наряду по восьми человек. Ещё немногочисленные пушки возбуждали всеобщее любопытство. Небольшой отряд воинов, вооружённых пищалями – тоже дело в Москве ещё не виданное – с подсошками и фитилями тоже вызывал удивление, но знатоки дела презрительно фыркали: «Ну, чего там… Вот сулицей [26]26
Сулица —холодное оружие, род копья или рогатины . Прим. сост.
[Закрыть]двинуть, а ещё лучше бердышем, это так!..» Конные отряды косоглазых татар, галдя, шли заодно с русскими полками, как совсем недавно, бывало, шли они на русские полки… Русские конники были куда хуже татар. Сидели они на высоких безобразных сёдлах – лёгкий удар копьем, и воин летит вверх тормашками наземь. И сзади всего – москвитяне, глядя на полки свои, назяблись до дрожи – заскрипел по снегу непыратый обоз. Лошадёнки от мороза были кудрявые, и возчики, похлопывая рукавицами и притопывая валенками, тешили один другого прибаутками ядрёными…
Идти по морозцу было гоже. Но за осень все уже обсиделись по запечьям, скоро притомились, и бранный порядок порасстроился. Все были рады-радёшеньки, когда на закате солнца великий государь повелел стать станом на опушке старого бора. Никаких палаток московская рать не знала даже в непогодь, ели и спали под открытым небом, как Господь укажет. Только воеводы ставили от ветра войлоки. Но погода к ночи, слава Богу, переменилась, стало замолаживать и потеплело. Разожгли костры из сушняку, поужинали сухарями да толокном и вокруг весёлых огней стали пристраиваться спать, шептали молитвы, крестились на затянутый мглою восток и громко зевали.
– Эх, ребята, а гоже бы дома теперь, – вздохнул кто-то. – Забрался бы, мать честная, на печь и валяй до свету.
– Да баба бы твоя под бочок подобралась к тебе. А, Ванька? Гоже бы, чай…
– Ничё, с молитовкой… чай, не дома, в лесу. А ты заместо того про баб споминаешь… – назидательно отвечал Ванька. – Господи, прости согрешения наши.
И он громко зевнул и перекрестил рот, чтобы как грехом не заскочил ему в душу окаяшка какой.
Для великого государя был разбит большой шатёр. Но Иван знал, что он спать не будет – дума мешала и потому он сидел с воеводами и ближними боярами около огромного костра. Начал падать снежок. И тиха была чёрная ночь над белою, тихою землёй. Где-то в отдалении завыли волки. Сверху всё реяли и исчезали в жарких золотых отсветах костров белые хлопья.
– А где же Бородатый? – спросил государь.
– Здесь, великий государь, – отвечал из золотистого сумрака, сзади, услужливый голос.
– Ты хотел рассказать мне про хождения какого-то купца тверского за три моря, – сказал Иван. – Вот и расскажи теперь всем, чтобы веселее было ночь коротать.
– Слушаю, государь, – сказал полный, крупитчатый дьяк Бородатый, выходя к огню и запахивая свою дорогую песцовую шубу. – Мне довелось самому читать рукописание его. Любопытно он всё описывает. Вот всё толкуют тверяки-де народ некнижный, бестолковый, а погляди-ка, как этот всё гоже обсказывает.
– Да чего ж тверяков хулить так? – сказал князь Иван Патрикеев, воевода. – Народ как народ…
– Да они и сами смекают, что они поотстали маненько, – сказал Бородатый. – Изволишь помнить, великий государь, приносил я как-то тебе на погляденье список тверской летописи. Сам описатель его о себе так там пишет: «Не бех киянин родом, ни Новаграда, ни Владимира не имам бо многые памяти, ни научихся дохторскому наказанию [27]27
Науке.
[Закрыть], еже сочиняти повести и украшати премудрыми словесы, якоже обычай имут ритори». Как же можно? Он тверяк и есть.
– Летописцы тоже иной раз такое согнут, что уши вянут, – заметил князь Семён Ряполовский, летописное дело любивший и знавший в нём толк. – Погляди летопись новгородскую: своих, новгородцев, он выхваляет как людей благочестивых и добродетельных, а суздальцев – завистниками показывает, несправедливыми, проклятым и иконоборцами. А Андрея Боголюбского [28]28
Андрей Боголюбский(ок. 1111–1174) – сын князя Юрия Долгорукого, с 1157 г. князь Владимиро-Суздальский, один из крупнейших деятелей Древней Руси, покоритель Киева (1169). Был убит боярами в собственной резиденции – с. Боголюбове . Прим. сост.
[Закрыть]иначе и не величает, как ум ненаказанный [29]29
Необразованный.
[Закрыть], лютый фараон.
По бородатым лицам пробежала усмешка.
– А как твоего купца-то звали? – спросил Иван.
– Звали его Афанасьем Никитиным, великий государь.
– Так рассказывай, а мы послушаем, – повторил государь. – Да ты присядь, а то, говорят, в ногах правды нету.
– Слушаю, великий государь, – сказал дьяк и, присев к огню и уютно поправив свой меховой малахай с ушами, спорым московским говорком начал: – Было это дело, великий государь, лет поболе десяти тому назад, когда, изволишь помнить, приехал к нам на Москву Асанбег, посол от владетеля шемахинского с поминками. Ты отдарил ширваншаха кречетами – целых девяносто птиц повёз он тогда с собой. И сичас же следом за ним и наше посольство в Шемаху поехало, а за ним увязались несколько гостей тверских, хотевших пробраться в Персию. С ним был и Никитин. По дороге одно судно купецкое потерпело с товарами крушение, а другое захватили татары под Астраханью, которую татары по своему Хозторохани величают. Много всякой нужи да горя натерпелись они, пока не попали к ширваншаху в Шемаху. Потерявши все товары, чуть не голые, они били ширваншаху челом, чтобы он отправил их как-нито на Русь, но тот никакой управы им не дал. Заплакали они и пошли кто куда: одни на Русь потянулись, другие остались в Шемахе, третьи пошли наниматься на работы в Баку, где горит из земли огонь неугасимый и тому огню, сказывают, люди тамошние поклоняются аки Богу…
– Чего только не придумают!.. – с усмешкой покачал головой государь. – Стало быть, вера такая.
– Да, – сказал Бородатый уютно. – И так потихоньку да полегоньку – скоро сказ сказывается, да не скоро дело делается – добрался наш Никитин и до царства Индейского. Люди там, пишет, ходят наги все, голова не покрыта, груди голы, волосы в одну косу плетены, а мужи и жёны все черны. И куды бы он там ни пошёл, везде они за им, словно привязанные, таскаются: дивно уж им очень, что он из себя белый!.. А молятся, вишь, они каменным болванам, великий государь, а Христа и не знают совсем. И вер будто у них, у индеев, поболе восьмидесяти, и ни одна с другой не пиёт, не ест, не женится. Один из их ханов отобрал у Никитина жеребца его, которого тот ухитрился как-то к индеям провезти – там у них лошадей, сказывают, совсем нету, а всё быки, – и обещал ему воротить и жеребца, и поверх того ещё тысячу золотых дать, ежели Никитин примет веру их поганую. Но тот на злое дело не пошёл, и хан все же жеребца ему воротил. Войны с нами, что ли, боялся, уж не ведаю, но только отдал. А индеи эти самые, говорит Никитин, народ ничего себе, покладистый, хоша и поганые.
– И середь поганых люди хорошие бывают, – сказал князь Семён Ряполовский. – Мне сказывали, что во время мора – лет пятьдесят тому назад – померла в Новегороде инокиня одна: не то что померла, а обомлела, должно, потому вскоре после того она встала опять живой и стала рассказывать всем, кого видела она в раю и в аду. Маненько не доходя до ада, сказывала она, увидала она будто одр, а на одре пса лежаща, одеяна шубою собольею. И спросила она: «Почему-де тут пёс находится?» И сказали ей, что то агарянин поганый, который при жизни, вишь, добер больно был. Особенно любил он выкупать невольников и даже птиц пойманных. В рай, знамо дело, попасть он не мог, потому не потщился принять веру истинную вовремя, но за хорошую жизнь от мук будто был избавлен. И вот, зловерия его ради, оставил ему Господь образ пёсий, а шубою многоцветною объяви всем о добродетели его, которая, как видится, и неверным помогает. Ну, сказывай, Бородатый – это я только так, к слову.
– Ну, потом попал наш Никитин в Ерусалим ихний, – уютно продолжал дьяк. – Тамо находится у их храм бога ихнего, Буты, величиной, пишет, в пол-Твери. А болван Буты из камени вырезан вельми велик, да хвост у его висит, а руку правую поднял высоко да простёр, аки Устьян [30]30
Юстиниан.
[Закрыть], царь цареградский, а в левой руке копьё. Из одёжи на нём ничего нету, пишет, а виденье [31]31
Наружность.
[Закрыть]его обезьянье. Жёнки его, Бутовы, наги вырезаны, тут же округ стоят. А перед Бутом вол поставлен, вырезан из камени чёрного и весь позолочен, а целуют его в копыто и сыплют на него, как и на самого Бута, цветы. Индеяне вола зовут отцом, а корову матерью.
– Ахххх! – негодующе всплеснули руками великий государь и бояре. – Ну, неча сказать: додумались!
– Потом есть ещё Аланд-город у них, и в том Аланде-городе птица гукук летает, – продолжал уютно дьяк. – И всё кличет: гукук! А на которой хоромине сядет, то тут человек умрёт, а кто её отогнать хочет али убить, ино у неё изо рта огнь выйдет. А мамоны [32]32
Обезьяны.
[Закрыть]ходят по ночам да имают кур, а живут в горе или каменье. И есть у них свой князь обезьянский да ходит ратию своею, да кто мамону обижает, то она ся жалует князю своему, и он посылает на того рать, и она пришед на град, дворы разваливает, а людей побьёт.
– Ахххх! – всплеснули опять длинные рукава вокруг костра. – Ну, скажи, пожалуй…
– Да, – подтвердил Бородатый. – А рати их мамоновой, сказывают, вельми много, и языки у них свои, а детей родят вельми много обезьянских. Да который родится не в отца и не в мать, тех гиндустанцы эти самые, индеи, имают да учат их всякому рукоделию, а иных продают в ночи, чтобы взад, в камение своё, не знали побежати. А иных учат плясати.
– Батюшки мои! – ахнуло всё вокруг костра. – Ну, и Никитин-тверяк, а гляди чего навидался! Тут со страхования одного ума решиться можно. Ну?
– Да всего и не перескажешь, великий государь, – сказал дьяк. – А вот, Бог даст, вернёмся на Москву, я скажу дьяку Василью Мамырову – рукописание-то купцы тверские ему передали, – чтобы он тебе его доставил. И пишет Никитин, что скоро он там в счёте дней совсем запутался и не знал, ни говейно когда, ни Рожество, ни среда, ни пяток, ни праздники. И стал эдак парень задумываться, нись наша вера правая, нись иха…
– Аххх! – дохнуло всё ужасом в ночи. – Это не иначе как нечистый смущал. Ну, и что ж он, устоял?
– Устоял, – успокоил всех уютный дьяк. – Как можно не устоять? Ну только, пишет, не любо там мне всё стало и устремился я-де умом на Русь. И вот после всяких приключений добрался он до града Трапезунда и, переплыв море, вернулся-таки, наконец, всего наглядевшись, на Русь. Да не сподобил его Господь Тверь свою увидать: в Смоленском захворал да и отдал душу Богу… А в конце рукописания своего, великий государь, Никитин, царство ему небесное, вечный покой, приписал гоже так: «Земля Русская, да сохранит её Бог, – пишет. – В этом свете нет такой прекрасной земли больше нигде. Да устроится, – пишет, – Русская земля!»
И голос уютного дьяка Бородатого тепло дрогнул.
Глаза Ивана просияли.
– Да, да, – тепло проговорил и он. – Да устроится Русская земля! Ну, царство ему небесное, вечный покой, – перекрестился он. – Таких бы вот хитрецов мне поболе.