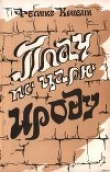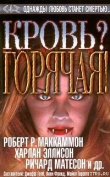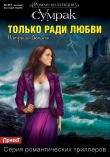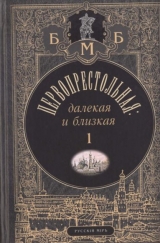
Текст книги "Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Автор книги: Алексей Ремизов
Соавторы: Иван Наживин,Михаил Осоргин,Иван Лукаш,Василий Никифоров-Волгин,Александр Дроздов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Аполлон Андреевич, бывший сановник, а теперь просто человек на покое, вставал рано, в седьмом, и пил чай с булочками и разговором. Его собеседницей была старушка Манефа, из крепостных, не то нянька, не то домоправительница, а вернее – утренняя газета.
– Не слыхала чего?
– Как не слыхать, кончается.
– Вторую неделю он кончается!
– Ему не к спеху, а только нынче соборуют.
– А который в Полуэктовом [215]215
А который в Полуэктовом? – т. е. в Полуэктовом переулке (с 1955 г. переименован в Сеченовский переулок) . Прим. сост.
[Закрыть]?
– Тот тянет; доктора ездют.
Одевшись с тщательностью, Аполлон Андреевич выходил на прогулку и, если денёк ясный, бодро напевал «Житейское море» и «Бога человекам невозможно видети». Выйдя из своего Николо-Песковского, шёл по Арбату, потом Воздвиженкой, потом Остоженкой и возвращался бульварами на Арбат. По пути разглядывал знакомые вывески. Над пивной лавкой шипящая бутылка и надпись: «Эко пиво!!» Над музыкальной просто: «Фортепьянист и роялист». А над лавкой гробовщика под обычным красным сундуком (в те времена гробов не рисовали) изображено по-французски: «Krapu», – чтобы и иностранцы знали, куда им при нужде обращаться. В эту лавку Аполлон Андреевич всегда заходил по пути за справками: кто, да где, да в котором часу вынос?
Так – в свободные дни; но свободных утр у него было немного, потому что хоронили главным образом по утрам, и ладно, если освободишься к обеденному часу. Когда выпадала удача провожать знакомого – Аполлон Андреевич отдавал этому занятию весь день, всё рвение и все таланты, говорил, утешал, хлопотал, подпевал, бросал первый комок земли, обсуждал будущий памятник, иногда сам платил и всегда при выносе поддерживал гроб ещё сильной рукой. Ел кутью на поминальном обеде, вечером подробно рассказывал обо всём старой Манефе. Но знакомые радовали не так часто, и потому приходилось разузнавать, кто при последнем дыхании, кого отсоборовали, с кого уже сняли мерку.
Сам столбовой дворянин, он не брезгал ни купеческим сословием, ни даже простым мастеровым. Узнав, что есть покойник по соседству, притом из простых людей, на расходы не способных, он просто забирал свою походную подушечку и являлся в дом. Если мужчина – помогал омыть тело, нарядить в приличный кафтан, уложить руки по уставу, бегал за свечами, нанимал попика и сам читал над покойным, только на часок позволял себе ночью вздремнуть тут же, около гроба. Таких неустроенных в жизни и в смерти любил особенно потому что им мог оказать помощь самую существенную, вплоть до надписи на кресте или недорогой каменной плите. И в этих надписях он был настоящим мастером, даже поэтом. Если родные на надпись соглашались, то не только следил за тщательным выполнением заказа, а сам и платил за работу – доброхотно и от чистого сердца, с большой деликатностью и скрытно, о том не разглашая.
Были надписи простые:
«Оставил горестных сирот, стремящихся продолжить род»;
«Жил для семьи – и о себе подумал»;
«Любя, вздохнул в останный раз!»
И были посложнее, якобы перекличка ушедшего с живыми:
«Паша, где ты? – Я здеся, Ваня! – А Катя? – Осталась в суетах!»
Были опыты проникновения в тайну потустороннего, но с непременной сдержанностью, как, например, в сочинённой им эпитафии булочнику с Арбата:
«Скажи, что есть там? – О, не могу, запрещено!»
А на плитке младенца он велел высечь:
«Не грусти, мамаша, цельный день летаю в качестве серафима».
Дома Аполлон Андреевич записывал очередного покойника в книжечку в чёрном переплете с изображением мёртвой головы, от которой во все стороны шло неистовое серебряное сияние; вписывал имя, а если знал – и все звания, затем день похорон, название кладбища, состояние погоды и текст эпитафии. Записав, ставил свою фамильную печать и расписывался всегда с одним и тем же, довольно замысловатым росчерком. В конце же листочка, для каждого отдельного, писал мелко-мелко буквы «Н. И. Ч. В. Т.», что должно было означать: «Надеюсь иметь честь встретиться там». Встретиться он желал со всеми равно – независимо от того, встречался ли с ними здесь при их жизни или познакомился только после их смерти. Занеся имя в эту книжку, переписывал его и в обычный маленький поминальник и дважды в год заказывал в церкви Николы на Песках панихиду по всем умершим, которых он имел случай провожать на кладбище и с которыми будет иметь честь встретиться в лучшем мире.
Могут подумать: вот мрачная личность, вот мизантроп! Совсем напрасно: человек добрейший, вполне уравновешенный и приятный в обращении! И поесть любил Аполлон Андреевич, и мог выпить, не слишком от других отставая, конечно, соответственно возрасту. И знал наизусть некоторые задорные и вольные стишки входившего тогда в моду поэта-арапчонка Александра Пушкина. Но больше всего любил заупокойную службу, её прекрасные слова и волнующие душу мотивы. Имея средние музыкальные способности, подсаживался дома к клавесинам, брал аккорды и хрипловатым баском напевал: «Со святыми упокой» – и на словах «надгробное рыда-а-ние» растягивал «а» с дрожью в голосе, как бы прокатывая заоблачный гром по юдоли слёз. Красота!
При большой общительности знакомых имел немного; возможно, конечно, что сам их отчасти отпугивал преувеличенным интересом к их здоровью.
– Чтой-то вы похудели, дорогой! Под ложечкой боли не чувствуете?
– Нет, ничего.
– У иных не заметишь. Так, ни с чего, начнёт худеть, в лице бледность, лёгкое недомоганье, а через недельку волокут на Дорогомилово [216]216
Волокут на Дорогомилово– т. е. на Дорогомиловское кладбище, располагавшееся за Дорогомиловской заставой. Там, в частности, были похоронены русские воины, умершие от ран после Бородинского сражения . Прим. сост.
[Закрыть].
Дома говорил Манефе:
– Статского советника Пузырёва встретил. Идёт бодренький, а в лице что-то нездешнее. Человеку шестой десяток на второй половине, невелики года, а и моложе его, случается, помирают совсем неожиданно. Коробочку приготовила ли?
Одной из обязанностей Манефы было делать из старой бумаги коробочки с крышкой, и делала она это очень искусно, подмазывая где надо клейстером. В такие коробочки Аполлон Андреевич собирал и рядком укладывал на ватке дохлых мух, а потом хоронил их в саду, всегда в одном и том же месте, ряд за рядом, втыкая в могилку прутик, так как креста мухам, конечно, не полагалось. Близ мушиного кладбища была скамейка, и на ней Аполлон Андреевич любил сиживать на закате в хороший день, думая о грустном.
И вот случилось, что Аполлон Андреевич, при почтенном возрасте человек крепкий и здоровый, заболел серьёзно. Была поздняя осень, дождливая, холодная, и надо думать, что он простудился, провожая к вечному упокоению незнакомого, но очень хорошего человека, соседа по улице. Вечером лёгкий жарок, не прошедший от малинового чаю, а к утру озноб и слабость необычные. Была принята касторка, пятки намазаны горчицей и ноги обуты в шерстяные чулки – и всё-таки не легче. Был доктор, велел потеть, но как болезнь не проходила, то на третий день Аполлон Андреевич послал за знакомым гробовщиком, тем самым, у которого на вывеске было написано: «Krapu».
С приходом его очень оживился: выпростал руки из-под одеял, потребовал бумаги и карандаш и занялся делом с привычной обстоятельностью:
– В длину пусти на четверть подоле, чтобы не стеснять, а главное, Прохор Петрович, вымеряй ты мне плечики. Я в плечах довольно широк, да присчитай подушку, чтобы плечи лежали на ней, дерева прямо не касаясь.
– Будьте покойны.
– Дерево поставь – лучший дуб, полированный, и чтобы без сучков, особенно на крышке. Лаком покроешь белым, ручки и ножки серебряные, под один штиль, а не как бывает, что ручки гладкие, а ножки с львиной лапой.
– Это когда по дешёвке…
– Вот то-то. Потом сделай ты замок с ключом и пригони получше. Это уж моя прихоть, сам знаю зачем. Как запрёте, ключик просуньте мне через малый прорез, поближе к рукам. Обязательно и ключ и весь замок серебряные, чтобы не ржавели. Деньги тебе вперёд платятся, будь покоен.
– Это что же, мы знаем!
– Вот. И ещё, Прохор Петрович, в головах на крышке одно оконце, да по бокам два других, и застекли со всей тщательностью; размер четыре вершка на три. И опять же стекла в серебряных рамочках без переплёта. Понял ли?
– Будьте покойны.
– Буду покоен, если сделаешь всё точно, как и говорю. Насчёт покрова сказал: синей парчи с бахромой и кистями. Кисть ставь среднюю, большая зря тянет. Ладан, масло, всё чтобы первого сорта, от меня так и попу скажи: они иной раз такое принесут, что даже неприятно. Насчёт свечей Манефа знает. А венчик, милый мой, имеется, ранее особо заказан. Теперь насчёт панихид…
Часа два наставлял, а отпустив гробовщика – закаялся, потому что в болезненном состоянии забыл многое: на лестнице половичок чёрный с позументом, и чтобы полотнища чистоты белоснежной и самые крепкие, и в могилу опускать осторожно, не качая, бортов не задевая. И чтобы заказанную надпись золотом по мрамору выбивали сейчас же и представили рисунок самый точный:
– Великая будет обида, коли не успею посмотреть! Ошибку допустят либо поставят букву вкривь!
Никогда ещё так не волновался Аполлон Андреевич, заказывая гроб и давая подробные указания; да и понятно: в первый раз хлопотал о себе!
Взволновавшись – основательно пропотел. Пропотевши – выздоровел.
– Видно, придётся погодить, Манефа. А заказ не пропадёт, заказ пригодится. Оно даже и лучше: всё сам проверю основательно.
С тех пор появился у Аполлона Андреевича новый интерес: осматривать заготовленный для себя гроб, вводить некоторые изменения и поправки, дополнять упущенное из виду по болезни и спешке. Раза два в неделю заходил к гробовщику на склад, поглаживал лаковую поверхность крышки, щёлкал ключом, приказывал смазать замок маслом да протереть тряпочкой все три оконца. К двум боковым придумал сделать занавесочки из лёгкого синего шёлка, откидные, безо всяких складок; но верхнее оконце оставить свободным.
– А ручки, Прохор Петрович, как будто тускнеют?
– Того быть не может, Аполлон Андреевич, чистое серебро.
– Бывает, и серебро тускнеет. Ты в случае чего прикажи почистить тщательно. И ручки, и ножки. И если где на лаке трещина – заново покрыть.
По-прежнему бывая на похоронах – частенько самодовольно сравнивал… вот что значит спешка и малая заботливость! Неопытному глазу незаметно, а знающий не ошибётся: и работа не так солидна, и в отделке небрежность, и нет настоящего штиля; гроб почтенный, дубовый, тяжёлый, а ножки куриные – дольше месяца не выдержат.
* * *
Торопиться, конечно, некуда, и жизнь Аполлон Андреевич любил. Единственно – хотелось ему блеснуть на собственных похоронах предусмотрительностью и настоящим вкусом. Подмечая у других разные промахи, либо записывал для памяти на календаре, либо строго внушал Манефе, чтобы в случае чего понаблюдала, посторонним не очень доверяя.
Года три-четыре готовый гроб простоял без пользы. Но как все люди смертны, то наконец пригодилось и Аполлону Андреевичу с такой любовью отстроенное и украшенное новое жилище.
На этот раз ошибки не вышло: подкатила болезнь тяжкая и для старика роковая. Это он понял сразу и радовался, что ещё в здоровом состоянии успел подготовить всё до мелочей, так что и заботиться больше не о чем. Обмоет Манефа, отпевать будет отец Гавриил от Николы на Песках, место давно куплено, памятник готов – и в надписи ни единой ошибки, а буквы стоят прямо.
За два дня до смерти послал напоминание гробовщику держать гроб в чистоте и готовности, чтобы в углах не было пыли и стёкла протёрты. В последний раз заметил: как будто левая передняя ножка не то чтобы покривилась, а у гвоздика шляпка непрочна – так чтобы подправили.
И заснул навеки, с улыбкой и уверенностью, что всё будет в порядке; в последнюю минуту по его лицу пробежала тень озабоченности: вот только бы дождя не случилось. Покосился потухающим взором на окно, – за окном сияло солнце, – и испустил дух спокойно.
И действительно, погода не подгадила Аполлону Андреевичу. Утром ещё был лёгкий туман, но к точно указанному часу солнце засияло полностью, ручки и ножки гроба ярко заблестели; опустили его на чистых ярко-белых полотнищах, бортов ямы не задевши, – а уж что увидал он в своё окошечко и когда увидал, сейчас ли или много позже, – про то мы не знаем и допытываться не решаемся.
Стойкий дворянин РасчётовОднажды мы беседовали о проживавшем некогда в Москве «любителе смерти», состоятельном барине, являвшемся на все похороны, а бедняков хоронившем на свой счёт. Для себя он заказал поистине образцовый гроб с материалом и отделкой, на всякий случай даже с окошечком, и любовно его хранил и холил до дня своей смерти.
Был в Москве и ещё любитель похорон, по фамилии Доможиров, фигура историческая. Впрочем, он не ограничивался присутствием на похоронах, а вообще проявлял себя во всех случаях многолюдных церковных церемоний. Он был настолько неизбежен и настолько полезен, так умел всем распоряжаться, что его слушались и духовенство и полиция. Был ли то крестный ход, или водосвятие, или парадная свадьба, или проводы известного в городе лица в последнее жилище – первым являлся на место Доможиров, высокий пожилой человек в синем казакине [217]217
Казакин– мужской приталенный кафтан (или полукафтан), на сборках, со стоячим воротником и застегивающийся на крючки . Прим. сост.
[Закрыть], с саблей в металлических ножнах, с волосами, зачёсанными назад и завязанными в пучок. Он становился на видном месте, или в самом храме, или перед ним, кратко и деловито отдавал приказания, указывал места и публике, и полицейским чинам, и родственникам покойников или брачующихся, давал знак для начала шествия, внимательно следил, чтобы не нарушался порядок и всё было бы торжественно и благопристойно.
Никакого официального поста он никогда не занимал, был рядовым московским обывателем, и никто не был обязан его слушаться, – но все слушались и безропотно подчинялись его распоряжениям, всегда очень толковым. Он был, так сказать, некоронованным обер-полицеймейстером и держал власть с радостного дня ухода французов из опустошённой Москвы – до того печального дня, когда уже другое лицо распоряжалось на его собственных похоронах, очень скромных, в 1827 году. И нет сомнения, что на этих похоронах уже не было того образцового порядка и благочиния, которыми отличались религиозные ритуалы при его участии и руководстве.
Ни в чьей памяти не осталось биографии Доможирова; только в одном историческом журнале нам попалась заметка – чьё-то воспоминание, приведённое историком, высказавшим, по-видимому, правильную мысль, что Доможиров проявил свой талант раньше, чем в Москве организовалась новая полиция, да так и остался в качестве признанной общественной необходимости. Подумать только: какой блестящий исторический материал для добросовестного юриста, занятого вопросами об источниках субъективного права!
Любопытно, что оба упомянутые нами добровольца ограничивали свои общественные склонности религиозно-обрядовой строгой жизнью, были людьми верующими и убеждёнными церковниками, при полнейшем личном бескорыстии. При некоторой доле фанатизма они были оба поэтами, один – красоты исчезновения, другой – прелести земного порядка. Но те же обывательские легенды, отмеченные архивами и устными преданиями, дают нам и образ корыстного боголюбца, заключавшего с предметом своего культа довольно оригинальные договоры.
Таков был, например, дворянин Пал Палыч Расчётов, которого полнозвучно, Павлом Павловичем, никто не звал, а уж фамилия ему, ясное дело, была ниспослана свыше по его качествам. Он был тоже москвич, но эпохи несколько более поздней. Первые известия о нём мы имеем в связи со знаменитой холерной эпидемией 1831 года, когда страшная болезнь яростью нападения напомнила столице о Наполеоновом вторжении. Кто мог – бежал, кто не мог – умирал на улице; был народный бунт, были жертвы человеческого озлобленного отчаяния, сверкали пятки убежавшей от греха власти, заваливались кладбища трупами, была Москва при смерти, пособоровалась – и выжила.
В частности, то же самое случилось и с Пал Палычем Расчётовым, заболевшим в числе первых. А и поел-то он всего-навсего кислой капусты, которую, как человек истинно русский, любил до страсти покушать и в пост, и в скоромный день. Уж, кажется, от такого простого кушанья не должно бы ничего случиться с человеком, не забывшим перед обедом перекреститься! Капусту Пал Палыч любил поесть в качестве как бы особого блюда, и притом «с холодком», с ледяными иголочками, как приносят её из хорошо льдом набитого погреба. Имевшим счастье пробовать её в этом виде тщетно рассказывать об её преимуществах, потому что они, конечно, знают, какой особый, несравнимый и неизъяснимый вкус придают ледяные иголочки её натуральной прелести. И хотя на этот раз Пал Палыч ограничился одной глубокой тарелкой, якобы в преддверии жареной курицы, – но через два часа уже лежал пластом с таким ощущением, будто ноги его, от самых бёдер до кончиков пальцев, были набиты мороженой капустой.
По тем временам медицина была, если это возможно, слабее нынешней, но ещё не было, к счастью, все-обещающих патентованных лекарств, а рядовые обыватели старались в случаях особо опасных обходиться своими средствами. Сам Пал Палыч, почувствовав приступ ужасной болезни, успел отдать распоряжение, чтобы во всех комнатах затеплили перед иконами лампадки, у него же в спальне сверх того зажгли свечу перед ликом святого Николы Мирликийского, коему и дал обет, в случае счастливого выздоровления, спутешествовать пешком на богомолье. Это ли помогло или горячие бутылки, но в то время как несколько соседей Пал Палыча умерло в страшных мучениях, ему суждено было выжить, выполнить данный обет и много раз впоследствии убедиться в чрезвычайной выгодности добросовестно выполнять обязательства, принимаемые на себя при подобного рода соглашениях.
Итак, оправившись от болезни и выждав лета, Пал Палыч предпринял далёкое путешествие в Николорадовицкий монастырь, что на Оке: кстати, там у него было поблизости небольшое имение, куда он наведывался весьма редко, так как дохода оно не приносило. Использовав поездку, он это имение продал, чем окупил расходы по поездке и по покупке полупудовой свечи Николе Мирликийскому, так сказать – сверх договора, в чаянии благ будущих. Затеплив перед иконою эту свечу, он рядом с ней положил написанное им на всякий случай на гербовой бумаге нижеследующее обещание:
«Святитель Никола, накажи, порази меня чем тебе будет угодно, если я в продолжение всей своей жизни стану когда-нибудь лечиться у докторов от каких бы то ни было приключившихся недугов, в чём и подписуюсь: дворянин Павел Павлов сын Расчётов».
Этот обет Пал Палыч действительно выполнил; умер же он, как известно, подавившись бараньей косточкой, которая сама не выскочила, докторам же он вынимать ее не позволил. Впрочем, к тому времени он был уже достаточно старым.
При всей своей богобоязненности Пал Палыч был известен как страстный картёжник. Как все игроки, он то выигрывал, то проигрывал, пока и в этом деле не прибёг к испытанному средству. Рассказывала его экономка (он не был женат), что однажды, отправляясь в клуб, он целый час провёл в молитве, кладя земные поклоны; по женскому любопытству, экономка подслушивала у двери и услыхала, как он со всем жаром убеждал своего покровителя Николу, спасшего его от холеры, помочь ему выиграть в карты. Он указывал ему, что в то время как другим людям хочется выиграть для того, чтобы потом эти деньги прокутить, он, Пал Палыч, обратит выигрыш на дела нужнейшие. Прежде всего, он заплатит проценты по закладной, если, конечно, нельзя сразу устроить так, чтобы вообще целиком уплатить долг и выкупить подмосковную деревушку начисто. В последнем случае он готов весь возможный остаток выигранной суммы пожертвовать на воспитательный дом. Однако, вовремя спохватившись, он изменил предложение и, как мы после увидим, сделал это весьма предусмотрительно. Он торжественно и в самых убедительных выражениях принёс обещание, что лучше всего он даст на благотворительные дела ровнёхонько десять процентов суммы, выигранной сверх насущно ему необходимой для приведения своих дел в полнейший порядок, причём, как добросовестный человек и делец, тут же эту сумму приблизительно вычислил и назвал. Сверх десяти процентов он обещал разного рода не очень ценные, но всё же соблазнительные подарки, как неугасимую лампаду в одной из церквей на Арбате, кисейный покров на паникадило, столько-то и таких-то свечей и ещё разные мелочи. Всё это – при выигрыше не менее указанной суммы. В случае выигрышей менее значительных он предложил пока процентов от трёх до пяти, так как деньги ему могут понадобиться на продолжение игры в тех же целях последней и окончательной победы, главным образом над купцом Бандаулиным, который будет сегодня в клубе и который вообще склонен в игре зарываться. Слушая его громкие причитания, экономка сначала думала, что он разговаривает с каким-то подлинным собеседником, так как уж очень обстоятельно он всё это излагал; и только тогда поняла, в чём дело, когда донеслись до её слуха весьма звучные удары лбом о крашеный пол, а порою и жалобные всхлипывания.
Молитва такого обстоятельного и аккуратного в делах человека не могла быть недоходчивой куда следует. В тот же вечер, или, точнее, в ту же ночь Пал Палыч, очевидно, рискнувший на игру крупную, выиграл очень большую сумму, превысившую все его ожидания и надежды. У каждого записного игрока бывает в жизни его день – нужно только этот день угадать. Пал Палыч его угадал, – если, конечно, в этом деле не было действительно помощи соблазнённой обещаниями высшей силы, что экономка склонна была признать, но люди просвещённые сочли бы кощунством. Одним словом, в скором времени Пал Палыч Расчётов не только выкупил свою подмосковную, но округлил владения приобретением соседней рощицы и довольно обширного покоса и даже устроил конский завод. Об этом его выигрыше говорили в Москве и жертвой его называли именно купца Бандаулина, впрочем, настолько богатого, что у него осталось достаточно и на дальнейшие карточные подвиги. О том, как в те времена играли, досужий человек может прочитать хотя бы в превосходных бытовых очерках Пыляева [218]218
В превосходных бытовых очерках Пыляева– подразумеваются сочинения известного бытописателя и краеведа М. И. Пыляева, прежде всего его книги «Старая Москва» и «Замечательные чудаки и оригиналы» (СПб., изд. А. С. Суворина, 1898) . Прим. сост.
[Закрыть]. Случай Пал Палыча был сравнительно не таким уж выдающимся событием.
Нужно ли говорить, что все свои тайно, без наличных свидетелей (про экономку он не знал) данные обязательства Пал Палыч выполнил неукоснительно и безо всяких фокусов – строго всё высчитал на бумажке и отчислил причитавшийся с него куртаж [219]219
Куртаж– вознаграждение маклеру при совершении сделки (фр. curtage). Прим. сост.
[Закрыть], добавив и сверх того обещанное. В этом отношении на него можно было вполне положиться. Но всего замечательнее (есть же такие люди!), что с той поры Пал Палыча больше в клубе не видали, и общая судьба более легкомысленных игроков его не постигла. Жизнь свою он окончил человеком не только вполне обеспеченным, но и уважаемым за добродетельные его дела. И всякий знал, что ни одного дела Пал Палыч не начинает, не перекрестившись трижды, а в важных случаях не положив и земной поклон. Конечно, не он один так поступал, но далеко не всем это помогало без промаха, должно быть, потому, что не все имели его кредит исполнительного в договорах контрагента.
И все-таки через ту же болтливую экономку стало москвичам известно, что были случаи, когда Пал Палычу сделки не удавались. Такой случай был будто бы с приплодом от какой-то породистой кобылы, каковой приплод был им исходатайствован обычным способом. Дело было, по-видимому, верным, и если жеребёнок оказался непредусмотренной масти и породы неблагородной, то это могло быть объяснено либо недосмотром, либо чистым жульничеством конюха. Однако Пал Палыч, как рассказывают, был настолько огорчён и оскорблён в лучших чувствах, что лично загасил и приказал три дня не возжигать лампадки, обычно горевшей в его спальне. Суеверно, конечно, но по-человечеству понятно: сам в делах аккуратный, он имел право требовать того же и от тех, с кем имел постоянные коммерческие отношения. Во всяком случае, в таком деле, как конский завод, чудеса недопустимы.
Как выше сказано, дворянин Расчётов помер от бараньей косточки, случайно проглоченной и неудачно застрявшей в пищеводе. Нам не удалось установить подробностей этого рокового события, тем более что его экономка ушла в тот мир на несколько лет раньше его. Но самый отказ от врачебной помощи, даже в таком критическом случае, лишь ещё ярче подчёркивает чисто деловую стойкость человека, не способного изменить раз данному слову. Если мы позволили себе занять внимание читателя изложением этой краткой биографии московского обывателя прошлого века, то именно имея в виду полное исчезновение в наши дни людей, на слово которых можно положиться без всякого раздумья действительно как на каменную гору.