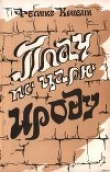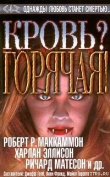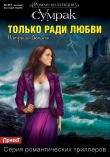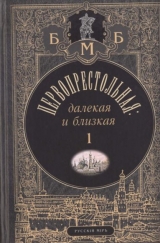
Текст книги "Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Автор книги: Алексей Ремизов
Соавторы: Иван Наживин,Михаил Осоргин,Иван Лукаш,Василий Никифоров-Волгин,Александр Дроздов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
И вот великий князь московский Дмитрий, «наострив сердце своё мужеством», вдруг поднялся на решительный бой. Хотя он всюду разослал гонцов с грамотами, призывающими на общее дело, удельные князья не торопились принять участие в его предприятии. Не менее татар князья боялись усиления Москвы. Напрасно митрополит московский Алексий грозил князьям-отступникам своим святительским проклятием, те сидели по запечьям: они по опыту знали, что если один святитель предаст их проклятию, то другой святитель в подходящий момент проклятие это снимет и предаст проклятию проклинающего. Несмотря на отступничество, московская рать – такой по количеству Русь ещё не видала – двинулась на Дон, встретилась там с врагом, и грянул кровопролитнейший бой на Куликовом поле. Со стороны Москвы легло около ста тысяч. Но казённая история охотно об этом умалчивает – было в рядах русской рати немало и изменников, которые покинули поле битвы, когда рать изнемогала, и только неожиданный удар из засады волынца Дмитрия Боброка – он был «воевода нарочит и полководец изящен и удал зело» – спас русское дело.
Татары были разбиты наголову. Великий князь получил прозвище Донского. Русь радостно вздохнула. Но татары вскоре оправились и снова поднялись на Русь. Напрасно призывал опять великий князь московский всех на общее дело: князья и бояре отказались сесть на конь, и Тохтамыш осадил Москву. Силой взять её было трудно, да, увы, и не нужно: два суздальских князя, ближайшие родственники Дмитрия Донского, помогли татарам взять Кремль обманом. В резне погибло до двадцати тысяч москвитян, да столько же угнали татары в полон. Москву сожгли, а за ней сожгли Володимир, Звенигород, Можайск, Юрьев, Дмитров, Боровск, Рузу и Переяславль. Русь снова оказалась под пятой завоевателя – и даннические отношения возобновились.
Но на победителя Тохтамыша поднялся в Орде Тимур – Тамерлан, – сверг его, и сыновья Тамерлана, поздравляя родителя с победой, осыпали его, по татарскому обычаю, горстями драгоценных камней. В поисках славы и добычи Тамерлан пошёл опять на Москву. Москвитяне, как и полагается, послали во Владимир за чудотворной иконой Богородицы. И в тот самый день, как прибыла икона в Москву, се случилось великое чудо: Тамерлан, уже вторгшийся в Рязанскую землю, вдруг увидел во сне огромную гору, с которой шли святители с золотыми жезлами, угрожая ему, а над святителями стояла в воздухе жена в багряных ризах со множеством воинства, которая люто останавливала Тамерлана. Он в ужасе проснулся, закричал, затрясся и сейчас же повелел своим полкам повернуть назад.
Так рассказывают отцы духовные в летописях. На самом деле, видимо, всё было гораздо проще. Тамерлан уже не чувствовал за собой прежней силы, – Орда разлагалась, – а Москва потихоньку силы набирала. Багряная же жена была тут пущена только для красоты слога: едва ли грозный Тамерлан спешил сообщать свои сны батюшкам на Москву. Конечно, Русь и совсем о ту пору сломала бы рога поганым, если бы уже не было разрушено её единство: юго-западная половина её страдала под польско-литовским игом.
Отступление Тамерлана без боя сказало Руси, что день освобождения у порога. Об этом настойчиво шептала в тиши ночей своему грозному, но слишком уж как будто осторожному супругу необъятная Софья, об этом открыто говорили на торгах, все с удовольствием видели, как крестились в веру православную именитые татары, как иногда татарские отряды шли уже в рядах русской рати при походе Москвы на её недругов. И если раньше великий князь должен был стоя приветствовать ханского посла, сидевшего на коне, подавать ему кубок с кумысом, кланяться басме и на коленях выслушивать чтение очередного ярлыка, то теперь обо всём этом и речи уже не было. Иван запаздывал с данью, произвольно уменьшал её, а потом и совсем перестал посылать её и с послами татарскими обходился презрительно.
XVII. РАСКАТ ГРОМАИ вдруг – был год 1480-й – над Русью пронесся страшный и в то же время веселящий раскат грома: разгневанный непочтительным поведением своего данника, а в особенности тем, что сама дань не высылалась ему вот уже девять лет, хан отправил в Москву посольство с повелением призвать Ивана к порядку. Когда послы в сопровождении большого отряда конников с их длинными, украшенными конскими хвостами пиками, на бойких, злых коньках въехали в Москву, то не только никто, как бывало раньше, не бросился прятаться, но, наоборот, всё высыпало на улицы и провожало послов злыми глазами, пренебрежительно в их сторону поплёвывало и, по московскому обычаю, отпускало ядовитые словечки:
– Ну, видали тожа… Не, брат, ныне времена тебе уж не те: харахориться тебе уж больше не дадут, будя!.. Ежели Дмитрий Иваныч, Царство ему Небесное, сумел вам ижицу на Куликовом поле прописать, так уж Ивану-то Васильевичу не трудно будет вам в штаны крапивы накласть, только клич кликни… Ишь, г…ы, величаются!
Пёстрая стая худых собак, подняв загривки, так и лезла с рёвом под ноги татарских коньков и прыгала, стараясь ухватить их за морды.
– Вали их, Шарик, косоглазых чертей! – со смехом подцыкивали москвитяне своих псов. – Рви их в клочки, так их и расперетак!
Татары ясно чувствовали перелом в настроениях московских, и, хотя и подбоченивались, но дух у них всё же упал: кто знает, выйдешь ли живьём из этого осиного гнезда? Много уже татарских голов слетело по городам на Руси в последнее время. Народ становился всё нетерпеливее и нетерпеливее, и как будто сам уже толкал великого государя на решительные действия.
Князь Василий Патрикеев явился на Ордынское подворье всего чрез несколько дней – раньше послов торжественно встречали за Москвой – с обычным приветствием. Он пренебрежительно – это умел он как никто – поздравил послов с благополучным прибытием и стал говорить о совершенно посторонних вещах.
– Но… – широко открыл на него глаза глава посольства, старый, жирный татарин с висячими усами. – Но мы не для этих разговоров приехали сюда. Нам надо скорее видеть великого князя: великий хан очень на него гневается.
– Теперь никак нельзя, – небрежно сказал князь Василий. – У великого государя как раз пируют послы от хана Менгли-Гирея.
Татар перекосило: если у них в борьбе с Москвой был естественным союзником литовский Казимир, то Москва дружила крепко с крымским ханом Менгли-Гиреем.
– Великий хан разгневается на такие ваши слова, – побледнев от злости, сказал посол. – Твоя голова молода, и лучше бы тебе поберечь её про старые годы.
– Ну, хан далеко, авось не достанет, – отвечал князь Василий, глядя чрез окно на пёстрые толпы работного люда, воздвигавшего стены Кремля. – Мы дадим тебе знать, когда великий государь соизволит принять тебя. А пока прощенья просим.
Татары просто ушам своим не верили.
И началась московская посольская волокита, обычная для всех послов, но совершенно непривычная для татар.
В тот же день они проведали, что никакого посольства от Менгли-Гирея в Москве не было, и вот тем не менее день шёл за днем, а великому государю всё было недосуг выслушать их: то то, то другое. Татары скрежетали зубами, но сделать ничего не могли. И наконец пришло из Кремля слово:
– Великий государь жалует послов ордынских, велит им предстать пред свои светлые очи.
Послы, заряженные гневом, поехали в Кремль. Снова пёстрые стаи собак, под смех жителей, дружно напали на них в тучах золотой весенней пыли. Снова ухмылялись и показывали им с кремлёвских стен свиное ухо работные люди. И, когда посольство скрылось в хоромах государевых, всё затаило дыхание: все чувствовали, что вот сейчас произойдёт что-то решительное и страшное. Каменщики бросили кладку, сходились кучками, смотрели в сторону палат государевых, и надсмотрщики не подгоняли их.
Иван, весь в тяжёлой парче и золоте, неподвижно сидел на троне. Глаза его горели. По бокам его не дышали рынды. Всё, что было в Москве сановитого, в пышных тяжёлых нарядах недвижно стояло и сидело в блещущем покое. С медлительной важностью вошли послы и склонились пред прекрасно-грозным в неподвижности своей великим государем московским. В воздухе была гроза. Нечем было дышать. Лица были бледны, и горели глаза. И, пренебрегая всеми издавна выработанными правилами обхождения, Иван поднял на послов свои страшные очи.
– Мы слышали, – сказал он, – что вы, приехавши от великого хана на Москву, допустили не подобающие послам речи, указывать нам вздумали, как и когда нам принять вас. Мы хотели было даже и совсем не допускать тебя за это пред очи наши и послать в Орду наше посольство, дабы хан прислал к нам людей, знающих вежество, да отдумали: ты своё дело изложи пред нами, а потом мы всё же с хана потребуем, чтобы он за своих послов пред нами, великим государем, повинился бы.
Татары переглядывались: никогда ещё ничего подобного не слыхали уши татарские на Москве! Иван, весь белый, палил их своими страшными глазами.
– Великий хан прогневался на тебя, государь! – дрожащим голосом проговорил старший из послов, вручая великому государю басму, символ ханского повеления, и грамоту. – Ты в Орду и глаз не кажешь, дани не высылаешь, а когда мы от имени великого хана явились к тебе, ты вот нам ещё словно и выговор ещё делаешь… Ты данник и слуга великого хана, и ежели ты забыл старые порядки, которые установлены Ордой на Москве, так великий хан пришлёт свою рать, чтобы тебе их напомнить… Твой…
Он оборвал себя и отшатнулся: весь белый, с бешеными глазами, Иван быстро встал во весь рост, исковеркал в ярости басму, швырнул её на пол, наступил на неё ногой и, изорвав в клочья ханскую грамоту, бросил и её на ступени трона и плюнул на обрывки.
– Видели, собаки? – прогремел он над помертвевшими татарами. – Так поезжайте домой и передайте хану, что вы здесь видели, и скажите, что если он посмеет явиться в Русскую землю, то и ему, свинье дикой, будет то же…
Всё окаменело. По рядам золотых вельмож пробежал ветер ужаса и восторга. А над поражённой толпой с поднятой вверх рукой, с белым, искажённым страстью, красивым, как никогда, ликом, точно изваяние стоял великий государь московский и всея Руси…
– Вон! – прогремел он. – И чтобы Ахмат твой не смел больше посылать ко мне никого.
Татары не помнили, как они и к коням своим выкатились. Широкими шагами, никого и ничего не видя, великий государь ушёл в свои покои. Бояре, точно от сна пробудившись, обменивались молчаливыми взглядами, в которых стояли и ужас, и восторг. И понемногу зашумели их золотые ряды.
– Ну и дела! Господи, помилуй!
– Да ты подумай: ведь осторожнее великого государя в делах государских на Руси никого ещё не было! И вдруг…
– Ну, слава Тебе, Боже наш: спасена матушка Русь! – всхлипнул голос.
То плакал Берсень. Теперь ему было совершенно всё равно, как обернётся дело со старым боярством, теперь он думал только о Руси. Уютный дьяк Бородатый боялся только одного: как бы не забыть чего из того, что он только что тут видел и слышал. Вместе с дружком своим дьяком Васильем Мамыровым они вели летопись, и не сохранить великого дня сего для потомства во всех его подробностях было бы грехом великим.
– Ох, как-то ещё оно всё обернётся! – вздохнул кто-то. – Как бы не выпала нам неволя ещё грузчая той, которую пока несли.
Но сомневающимся не давали говорить:
– Брось! Помни деда его! – кричали со всех сторон с горящими глазами. – Никто за ним не пошёл, а что он на поле-то Куликовом наделал? Только потому и сильны они, что мы боимся их. Хвала великому государю – за такого и голову сложить хоть сейчас можно!
– Вот это так! – кивнул тяжёлой головой своей князь Семён, в глазах которого стояли слёзы. – Вот когда сказать можно: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему».
Точно чудом каким из палат великого князя весть о приёме послов татарских мигом разнеслась сперва по Кремлю, по стенам, по торгу на площади, а потом и по всем посадам московским. Какой-то попишка похабный с дрянной бородёнкой и редкими зубами, стоявший около Фроловских ворот, насмешливо поглядел вслед скачущим татарам.
– Тщима руками отхождаху [70]70
Ухожу с пустыми руками.
[Закрыть], – ернически подминул он и плюнул вслед поганым.
И как ни велик был страх перед вековыми угнетателями, над Москвой точно вдруг великий праздник засиял. К вечеру большая толпа москвитян ринулась было громить Ордынское подворье, но отряд конных загородил ей путь. Но всё же некоторых татар изловили и прикончили.
– Пёс с ними! – сказал Иван, когда ему донесли об этом. – Пусть только одного оставят, чтобы было кому весть в Орду подать.
Иван втайне сам на себя дивился: хитрый, осторожный, он так дела вести не любил. Но иначе теперь он поступить не мог: в нём вдруг во весь рост встала вся Русь. Он неимоверно вырос, супротивники его опустили головы, и долго в душах бояр, и ему преданных, и ковавших против него крамолы, стояло страшное и восхитительное видение: золотой трон, на ступенях его поруганная басма и белые клочья порванной грамоты, вкруг смятенные послы ханские и золотая толпа державцев государства Московского, а над всем этим в тяжёлой золотой одежде, в шапке Мономаха, в бармах страшная фигура великого государя с белым, вдохновенным лицом и палящими глазами…
Долго не спала Москва в эту ночь. Точно громы весенние над ней перекатывались: и страшно, и весело. Это был день исключительной красоты, когда даже в грубых сердцах зажигаются праздничные огни, один из тех дней, которые народами помнятся века. Горячее и моложе забились на Руси сердца, и стало слышнее, дороже то, что раньше иногда забывалось, иногда пренебрегалось: Русь, Родина, Мать… Даже Софья, нелюбимая, хитрая, надменная, неприятно огромная, и та теперь стала представляться иной: «Ай да грекиня! Ну и голова!..»
На Ивана же и глаз поднять не смели: от него точно сияние величества исходило. И никогда не работали так на стенах кремлёвских работные люди, Русь.
Вскоре прилетел на Русь слух: взбешенный хан Ахмат поднял на Москву огромные силы. У всех точно крылья выросли: авось на этот раз развяжет Господь народ Свой окончательно. И тотчас же прилетела и другая весть: дружок великого государя, хан крымский Менгли-Гирей, в бешеном топоте своих конников, в лязге кривых сабель, в огне и дыму пожаров буйной лавиной вторгся в пределы Литвы, и союзник Золотой Орды, Казимир, был вторжением этим скован по рукам и по ногам. Мало того: ногай, враги Золотой Орды, кочевавшие в предгорьях Кавказа, бросились на улусы Ахмата с юга, а с севера, Волгой, туда же поспешал другой враг Ахмата, брат Менгли-Гирея и союзник Москвы, казанский хан Нордулат, к полкам которого присоединился и воевода звенигородский Ноздреватый со своей ратью…
Москва горячо шумела приготовлениями бранными. Мелкие князья со всех сторон спешили к ней со своими полками. Вся рознь затихла, и на кровавый пир вся северная Русь готовилась, как на Светлый праздник. И никогда не было так остро обидно, что юго-западная Русь в чужих руках. Но у всех крепла надежда: будет вместе и она!
Настал и торжественный день выступления в поход на Оку, или, как тогда говорили, «на берег». Ко всеобщему изумлению, Иван Молодой не только не стонал и не охал, но, наоборот, показал большую расторопность.
– Я говорил, что он личину носит, – сказал князь Семён. – Он хитростью-то, может, и саму Софью за пояс заткнет. У него какая-то своя думка есть. Азият!
Во главе рати, которая пошла на Серпухов, стал Иван Молодой. Другие полки, которые должны были занять все переправы через Оку вплоть до Угры, повели именитые бояре. А 23 июля, оставив «ведать Москву» князей Можайского и Ивана Юрьевича Патрикеева, во главе блестящей свиты направился к Коломне и сам великий государь.
С ним ехал и князь Патрикеев-младший. И, когда проезжали все мимо хором Данилы Холмского, к Фроловским воротам, князь Василий поднял глаза на высокий терем и вдруг вздрогнул: из окна светлицы, сжав не то в испуге, не то в восторге белые руки на груди, смотрела на него Стеша… Его ослепило и потрясло восторженное выражение милого лица, и голубые глаза в одно мгновение сказали ему такую правду, от которой испуганно и блаженно закружилась голова.
XVIII. ИОАНН IIIЗатаив дыхание, Москва, а с нею и вся Русь каждый день ждали с берегов Оки известий о победе: других известий быть не могло. Кроме того, о поражении нельзя было думать и потому, что слишком страшна была эта мысль. Но если не думали о такой возможности москвитяне, то думал Иван. Объезжая со своими воеводами русские полки берега Оки вдоль, он смотрел на стан татарский, занявший другой берег, и взвешивал его силы. Ставка в игре была огромна. В случае беды Русь могла потерять всё, чего она достигла за последние годы, и превратиться в простой да еще и разорённый улус хана Ахмата. Умный Иван видел слишком много, слишком далеко, слишком сложно и потому колебался: наверное, знают, что делать, только очень ограниченные люди. Хотя в полках своих он явно чувствовал нетерпение ударить на врага, ясно слышал ропот воевод и даже отцов духовных, призывавших его скорее «постоять за дом Пресвятыя Богородицы», он медлил, откладывал, выжидал: то, что татары не решаются нападать на него, было для него весьма знаменательно… Но страшила необъятность татарского стана. И неотступно гудели ему в уши трутни придворные, «богатые сребролюбцы, брюхатые предатели», как называет их летопись, которые твердили ему одно: «Не становись на бой, великий государь, лучше беги…» Они, конечно, не отстали бы…
– Тц! – цокнул языком дружок его Даньяр с неудовольствием. – Шибка многа думашь. Надо сабля тащил и айда. Вели мне с моим конником плавь речку ходить. Я ударил первый, а вы спешил за мной. А?
– Погоди, погоди, Даньяр, – успокаивал его Иван. – Всему своё время.
Каракучуй только презрительно сопел: он не любил думать ни много, ни мало, а любил налететь, опрокинуть, погнать, завладеть…
И вдруг Москва, к великому ужасу своему, увидала Ивана с его боярами в своих стенах! Народ – он уже перебирался в Кремль, за стены – прямо взорвало. Нисколько не стесняясь, смельчаки кричали Ивану со всех сторон:
– Когда, государь, ты княжишь над нами в мирное время, много нас в безлепице продаёшь [71]71
За малые проступки налагаешь тяжёлые пени.
[Закрыть], а сам теперь, разгневавши хана, выдаёшь нас его татарам…
Иван молчал. Прежде всего он отправил свою Софью с детьми и свою казну государеву в Белозерск. Народ нахмурился, как грозовая туча. И не только в Москве, но и по всему пути Софьи народ шумел, вооружённая свита её, «кровопийцы христианские», разоряла попутные места пуще татар. Старица Марфа, мать великого государя, – она была дочерью князя Владимира Андреевича Серпуховского, героя Куликова поля, – осталась с народом в Москве. Её превозносили до небес.
– Сразу русскую-то кровушку видно! – кричали москвитяне. – Та, римлянка-то, чуть гарью запахло, бежать, а матушка с нами вот пострадать хочет. Ишь, грецкое отродье: знать, своя-то шкура ближе!
Как громом поразило москвичей новое повеление Ивана: сжечь все московские посады. Было ясно, что великий государь татар боится и готовится к их нашествию на Москву. Посады запылали, но запылали и сердца москвитян: тяжко было от недавних надежд сразу перейти к такому позору.
– A-а, себя да своих ребят спасает, а нас врагам выдаёт! – кричал народ повсюду. – Так нечего было и гневить хана…
Душа Ивана замутилась: словно дымы московского пожара заволокли её. Настроение Руси звало его на страшный подвиг, но воспоминание о том, что пережил народ за эти два века, тяготило его, как кошмар. Он звал и бояр, и высшее духовенство на совет, но ему в ответ смело кричали:
– Не о чем теперь совещаться! Биться надо.
Старенький епископ ростовский Вассиан, по прозванию Рыло, лютовал пуще всех.
– Ты не великий князь, ты – бегун! – весь трясясь, кричал старик. – Чего ты боишься? Смерти? Так разве ты бессмертен? Я дряхл, но дай мне полки твои, я пойду против поганых и паду, но не отвращу лица своего от супостатов… Стань крепко на брань противу окаянному оному мысленному волку поганому и бесермену Ахмату. Вся кровь, которую прольют тут, в Москве, татары, на твою голову падёт, ты дашь в ней ответ Богу.
Вызванный на совет из стана на Оке, князь Данила Холмский прислал с своим сыном Андреем ответ:
– Волей от войска не иду.
Москва так вся и затрепетала от гордого отпора славного воеводы малодушному владыке. Но ещё более запылала она, когда отозвался Иван Молодой с Оки:
– Лучше умру здесь, а отсюда не пойду!
– Ай да Молодой! – зло кричали москвичи. – А говорили: телепень [72]72
Телепень– вялый, ленивый юноша . Прим. сост.
[Закрыть], ни с чем пирог! Да он орёл! Вот кого бы теперь на челе-то Руси иметь.
Иван в полном одиночестве, сгорая на костре своих страшных дум, молчал. Старица Марфа всячески настаивала, чтобы он хоть теперь примирился с братьями, которых он не пускал на глаза с самого разорения новгородского. Иван простил их, и они сейчас же подняли голову и зашушукались, не лучшее ли теперь время скинуть тяжкую опеку Москвы?
Было 3 октября. Иван снова поехал на берег Уфы, за которой стояли главные силы татарские и которую отцы духовные уже прозвали «поясом Богородицы». У Ивана в голове стояло одно: раз Ахмат, придя с грозой, нападать не решается, значит, силы большой он за собой не чувствует. Это было самое главное.
Ахмат, не смея нападать на московскую рать, двигался со своей ордой на запад, к грани литовской. Надежда на помощь Казимира, однако, совершенно пропала: Менгли-Гирей громил русские окраины Литвы. Наступила уже суровая осень. Татары на походе обносились, часто, благодаря распутице, голодали, болели и не знали, что предпринять. В день приезда Ивана к войску, 8 октября, Ахмат приказал начать битву, стреляя чрез Угру из луков. Русские ответили пальбой из пищалей, а затем Фиоравенти выехал на берег со своими пушками, и грохот их заставил татар отступить.
И вдруг Иван послал к хану послов – просить о мире. Вокруг всё затряслось от негодования. Но он молчал: перебежчики с того берега говорили, что положение татар тяжкое. Князь Василий Патрикеев – он участвовал в унизительном посольстве к Ахмату – осторожно заметил Ивану, что полки ропщут, Иван сверкнул своими огневыми глазами.
– Баранье! – пробормотал он. – Положить на переправах половину рати всякий дурак может. Надо действовать не кулаком, а умом. Мне нужно татар-то изничтожить, а силу русскую сберечь: она еще понадобится…
Князь Василий посмотрел на великого государя и не сказал ничего: он понял, что есть дело улицы и есть дело, которое можно и должно делать вопреки улице. Он видел, как побелел Иван, когда посольство передало ему дерзкий ответ Ахмата:
– Пусть Иван придёт сам, станет у моего стремени и молит о милости.
И всё-таки молчал. Морозы нажимали. И вдруг – в стан московский явилось посольство Ахмата: пусть Москва отдаст только дань за последние девять лет, пусть вместо Ивана придёт на поклон хотя сын его или даже кто-нибудь из воевод, и всё. Иван не дал послам никакого ответа: он понял, что это значит, и – ждал. Ахмат в бешенстве приказал своим полкам начать переправу чрез Оку, но татары наткнулись на огонь русских и отошли.
Москва, известившись о мирных переговорах, забурлила пламенным негодованием. Отцы духовные с неистовым Вассианом Рыло во главе, совершенно забыв, на этот раз, что задача Церкви есть устроение царства не земного, но небесного, говорили по церквам зажигательные проповеди, а Вассиан сочинил даже к великому государю послание, переполненное ссылками не только на Писание, но даже и на философа Демокрита [73]73
Демокрит(ок. 470 или 460– ок. 400 до P. X.) – древнегреческий философ-материалист, один из основателей античной атомистики . Прим. сост.
[Закрыть], который, по словам владыки, весьма мудро учил, что князю надо иметь в делах ум, против неприятелей храбрость, а к своей дружине привет и любовь.
Угра покрылась льдом. По льду Ахмату наступать было много легче, но он не наступал. Иван, всё более и более укрепляясь в правильности взятой им линии, но по-прежнему одинокий, повелел своим полкам стянуться к Боровску, чтобы, в случае переправы Ахмата, дать ему там, на равнине, решительный, всеми силами бой. Ахмат перепугался. Ему показалось, что русская рать предприняла какое-то обходное движение, и вдруг – бросился со всей своей ордой на Литву. Назад, в свои улусы, идти он не смел: там свирепствовал, с одной стороны, Нордулат с Ноздреватым, а с другой – ногай. С истомлёнными и голодными полками своими Ахмат в отчаянии грабил и жёг Литву, страну своего союзника и друга, а затем повернул к Дону. Но там его ждали ногай: они разбили его расстроенную рать, убили его самого и забрали в полон его жён, детей и весь обоз.
С великим торжеством пошла русская рать к Москве, уничтожив страшного врага и не потеряв в битве ни единого воина.
– Ну, что? – горделиво спросил Иван князя Василия, ехавшего рядом с ним. – Да, знамо дело, куда пригляднее: положить десятки тысяч, стать на костях, трубить в трубы… Шуму сколько хочешь. А у меня вот ничего такого не было, да зато все полки мои целёхоньки и на Литву да на ляхов хоть завтра готовы. Как теперь скажешь, княже?
Князь не мог не восхищаться этой чистой работой большого ума, но в то же время в глубине души в нём было словно сожаление, что не было бранного поля, усеянного тысячами своих и врагов, не реяло над павшими чёрное знамя великокняжеское, не трубили, став на костях, сбор оставшимся в живых… Дьяк же Бородатый смотрел на Ивана влюблёнными глазами и стал к нему особенно почтителен.
И когда среди ликующих толп москвитян Иван во главе блестящей свиты проезжал мимо хором Данилы Холмского, князь Василий поднял глаза на окна светлицы: ах, как он ждал этой минуты! Но её не было. И больно укусила змея за сердце. У ворот княжеских стояла нищая братия – у князя щедро подавали, – а среди них Митька Красные Очи. «Так вот и в жизни всегда. – горько подумал князь Василий. – Сердце ждёт Бог знает какой радости, а находит нищего урода». И пока были видны хоромы Холмского, он всё назад в седле оборачивался. Но её не было: Стеша боялась себя и пряталась от тяжкого искушения, против которого она была уже бессильна…
Духовенство славословило великого князя. Вассиан Рыло притих и никуда глаз не казал. Но были всё же и недовольные. «Воздай Бог каждому по делам его, – писал летописец, – а видно, лучше мы любим жен своих, нежели защиту Церкви Православной. Кто спас нас от погибели? Бог да Пречистая Богоматерь Его да угодники Божии». Философам же сразу открылся смысл… Флорентийской унии и гибели Византии: оказывалось, что у греков испортилась вера, и за это Господь и предал их в руки нечестивых агарян, русские же на унию не согласились – то есть они, собственно, в лице митрополита Исидора согласились, но это в счёт не шло, – и вот в награду за это Москва избавилась от татарского ига. Следовательно, – мудро заключали они, – истинное благочестие, находившееся сначала в Риме, а потом перешедшее в Царьград, второй Рим, ныне сияет паче солнца в Москве, Риме третьем, и последнем.
– Что за голова! – восторженно говорил о великом государе инок Белозерского монастыря Данила Агнече Ходило дружку своему, иноку Иосифу, который уже положил основание собственному монастырю под Волоком Ламским. – Ну, чисто вот ведун какой!
Но стоявший рядом с ним инок Вассиан, тоже из Заволжья, маленький, иссохший, с колючими, злыми глазёнками, прозванный иноками Рогатой Вошью, только презрительно поджал сухие губы.
– Ну, тожа! – проговорил он. – Вон стены да стрельницы чуть не до облаков возводит, а скоро свету конец!
– Да… – покачал головой Данила. – Поглядишь в пасхалию-то [74]74
Пасхалия —таблица, содержащая сведения о времени Пасхи и других переходящих церковных праздников . Прим. сост.
[Закрыть], поджилки трясутся.
– Так для чего же и вся суета сия со стенами? – сказал Вассиан. – Всуе мятётся земнородный, как говорится.
Но Данила Агнече Ходило уже обиделся.
– А ты что, учить великого государя будешь? Строит – значит, надобно. Что ся главою мниши, нога сый? Ты мниши словами мудрости всех удивити, а то только телчне вещание… [75]75
Мычание телёнка.
[Закрыть]
Москва шумела. Но в стороне от ликующих стоял Василий Патрикеев. Образ Стеши, фряжской Богородицы, не покидал его сердца ни днем ни ночью. И горько дивился он на себя: почему другим выпадают и радости, а для него жизнь горька, как полынь? И только внезапный отъезд князя Андрея – они с ним почти не встречались теперь – говорил ему, что, может, судьба втайне готовит и ему какую-то радость.
А Москва, снегами уже чуть не до коньков занесённая, вся звенела ребячьими голосами.
Коляда, Коляда,
Пришла Коляда
Накануне Рождества!
Мы ходили, мы искали
Коляду святую
По всем дворам и проулочкам,
Нашли Коляду
У Петрова-то двора.
И вдруг, среди всего этого праздничного шума весёлой Москвы, в душе князя Василия всё осветилось мыслью: «Подлинного в жизни только счастье…» И слишком он уж много раздумывает тогда, когда нужно действовать. Может быть, и она мучается… И снова вспомнилась она ему так, как он видел её у окна светлицы, и буйное сердце его запело сразу радостную песнь победы и счастья.