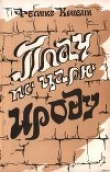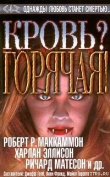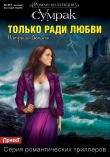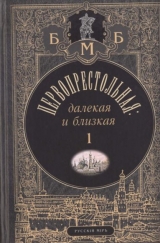
Текст книги "Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Автор книги: Алексей Ремизов
Соавторы: Иван Наживин,Михаил Осоргин,Иван Лукаш,Василий Никифоров-Волгин,Александр Дроздов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
Пожарский развернул против него своё земское ополчение ратным строем. Ещё мгновение – и между войсками Трубецкого и Пожарского началось бы побоище. Но Пожарский заставил казаков разойтись по таборам. Здесь Пожарский окончательно перегнул Трубецкого.
Он с почётом принимает сдавшихся поляков, среди них и полковника Будзилу, который издевался над ним в грубом письме.
Пожарский исполнил всё, что обещал.
В Нижнем, куда согнали пленных поляков, с ними и полковника Будзилу, нижегородцы порешили ночью перетопить их всех в Волге. Мать Пожарского вышла к буйствующей толпе:
– Лучше меня затопчите, меня топите в Волге, а к ним не допущу… За них дано слово моего сына, князя Димитрия. Уважайте и вы все слою, присягу и службу моего сына.
Старая княгиня Пожарская остановила толпу. Все поляки, сдавшиеся князю Дмитрию, остались живы…
От Смуты Москва, казалось, должна была освободиться еще в 1610 году с призванием на царство королевича Владислава.
Польше выпало великое историческое избрание умиротворения и устроения громадного Русского царства.
Коронный гетман Жолкевский подписал с Москвой договор о правлении королевича Владислава.
Королевская власть ограничивалась в управлении боярскими и думными людьми, в законодательстве – Собором всея земли. Королевич присягал не нарушать народных обычаев, не отнимать достатков, не казнить и не ссылать без боярского приговора. Он присягал, что служилыми людьми будут только русские, что он не станет раздавать старосте полякам или литовцам, не построит на Русской земле ни одного костёла, никого не совратит в латинство и не пустит в Московское царство ни одного еврея…
Жолкевский, храбрый, великодушный, честный, искренне желал союза-сочетания с Польшей в одно новое русско-польско-литовское королевство.
У Жолкевского было много друзей на Москве. Ему крепко верили недоверчивые московские люди. Достаточно сказать, что Прокопий Ляпунов, поднявший позже восстание против Сигизмунда, доверил Жолкевскому судьбу своего сына.
И сам суровый патриарх Гермоген, грозно и мученически отрицавшийся всех папежников, был другом Жолкевского. Гермоген поверил Жолкевскому и согласился на призвание королевича Владислава на Московский престол.
Гетман с подлинным благородством отнесся к несчастному московскому царю Василию Шуйскому. Когда на Москве свергли царя Василия, насильно постригли и когда порешили перебить скопом всех Шуйских, их отстоял тот же Жолкевский, повёзший царя Василия к литовскому королю. Царь Василий отвечал гетману честной и благородной дружбой до самого конца…
Так с присягой королевичу Владиславу могло казаться, что кончается Смута. Но всё опрокинуло грубое вмешательство короля Сигизмунда.
Сигизмунд отзывает из Москвы Жолкевского. Сигизмунд с презрением бросает под ноги привезённый им договор:
– Никогда не допущу своего сына быть московским царём…
Не союз, не сочетание с Москвой, не мирный договор надобен Сигизмунду, а беспощадное завоевание московских еретиков. Вместо согласия с Москвою – война Москве.
Может быть, это Рим желал, чтобы Сигизмунд действовал против Москвы.
В то время, когда сына-королевича приглашают на Московский престол, отец-король начинает осаду московского города Смоленска, громит его ядрами, льёт русскую кровь…
Русская земля присягала Владиславу, но не Сигизмунду.
И против незваного и непрошеного Сигизмунда, против беспощадного завоевателя, ослабленная Русская земля нашла силы подняться.
Тот же Прокопий Ляпунов, отдавший своего сына на службу королевичу Владиславу, тот же князь Пожарский, присягавший королевичу, восстают теперь против его отца.
В ходе борьбы с Сигизмундом оба они были объявлены изменниками одинаково и Сигизмунду, и Владиславу. Но всё было бы иначе, и не поднялся бы Нижний, Волга, и не взялся бы за оружие князь Пожарский, если бы хотя бы только раз подал свой голос отдельный от отца королевич Владислав, если бы он и чем-нибудь отделил свою личность от королевского величества Сигизмунда.
Вся Русь, уже выходившая из Смуты, несомненно, стала бы за избранного ею королевича Владислава, если бы он остановил грубое завоевательство отца.
Но никогда, но ни разу не подал своего отдельного голоса этот королевич-тень, королевич-привидение. Владислав так и остался в русских событиях какой-то глухонемой пустотой. Он весь растворился, исчез в личности отца. За Владислава во всём действовал Сигизмунд, и потому сам Владислав стал во всём для московских людей Сигизмундовым обманом.
И Москва поднялась против Сигизмунда-Владислава.
Основная ошибка польского вмешательства в русские дела – отказ от честного исполнения договора, заключённого о королевиче Владиславе, замена его открытым завоеванием Москвы.
Другая ошибка поляков – ещё со времен Лжедмитрия – постоянная их опора на русский бунт, на русскую Смуту. Любого русского вора Польша принимала в свои союзники. Ещё слабый, Пожарский со своим «волжским мужичьём», и тот долго взвешивал в Ярославле – принимать или не принимать ему в союз воровских казаков Заруцкого и Трубецкого, а могущественная Польша поддерживала на Руси всех лжедмитриев, любое воровство, любую смуту, как бы рассчитывая Смутой вконец развалить Русь, взять её, ослабевшую, голыми руками…
И третья ошибка поляков XVII века – их совершенное презрение ко всему русскому, презрение дурацкое, надменное и отвратительное, обнаруживающее, прежде всего, неглубину духа самих поляков.
Они легкомысленно рассчитывали, что этот московский народ-раб расшатан своим бунтом, и презирали его, как презирают только завоёванного раба.
Они жесточайше ошиблись во всём.
Вконец расшатанный, вконец изворовавшийся, вконец подавленный Смутой, вконец всеми презренный, народ ответил и польской замашке, и всем другим не только Мининым и Пожарским, не только освобождением Москвы и восстановлением царства, а ответил он восхождением к небывалому величию молодого Петра…
И теперь сколько людей и целых народов, вернее политиков этих народов, повторяют отчасти ошибку польской самоуверенности XVII века, что с русским народом раз и навсегда покончила его революция…
Но тогда гений русского народа выбрался из обманов, не менее ослепительных и всеобещающих, чем теперешние, из всех лжедмитриев и болотниковых и вместе с тем из всей игры открытого вмешательства тогдашних основных сил Европы.
В те времена сама Польша по своей вине не поняла, пропустила своё историческое мгновение искреннего, гармонического сочетания будущего с будущим русским.
Поражение поляков в 1612 году в Москве было началом заката Польши, и в победе Пожарского уже была заря победы Петра…
Торжественный вход русских ополчений в освобождённый Кремль начался 25 октября.
От Покровских ворот, от Казанской церкви шёл со своими казацкими сотнями князь Трубецкой. Гремели литавры и бубны.
От церкви Иоанна Милостивого на Арбате под шумным лесом знамён двинулось в Кремль ополчение Минина и Пожарского.
Радостный вопль победы и гул тысячи колоколов сотрясали Москву…
На Лобном месте Троицкий архимандрит Дионисий отслужил молебствие об освобождении Русской земли, Дома Пресвятой Богородицы, и победители под хоругвями и крестами потекли в Кремль, ворота которого были настежь.
Радость победы – высшую из радостей, даруемых человеку на земле, светлое упоение свершённым до конца делом судил Господь Бог простому служилому московскому человеку, захудалому князю Дмитрию Пожарскому.
На Лубянке, где год назад он упал, изнемогая от ран, князь Дмитрий внёс во вновь отстроенную, погоревшую до того церковь Введения, что у островка, образ Божией Матери, Владычицы Казанской, шедший с ополчением от самой Волги на Москву.
Обирание – собирание царства, венчание государя на осиротелое Московское царство было последним делом князя Пожарского.
После освобождения Кремля по всем городам, слободам и посадам от Пожарского и Трубецкого со товарищи пошли нарочные гонцы, призывая всякого чина людей в Москву, на Великий Земский собор.
Тогда же, в ноябре 1612 года, Пожарский ответил и в Новгород на грамоту митрополита Исидора:
– А что ты, великий господин, писал к нам, боярам и воеводам, и ко всей земле, чтобы Московскому государству быть с вами под единым кровом государя королевича Карлуса-Филиппа Карлусовича, и нам ныне такого великого государственного и земского дела одним учинити нельзя…
Пожарский указывает, что необходим совет со всеми людьми Российского царствия «от мала до велика».
Но из Новгорода, от Делагарди, вместо ответа на эту грамоту добрался до Москвы гонец Богдан Дубровский со срочными вестями.
Шведский королевич Карлус уже идёт в Новгород. Как быть: присягать королевичу или не присягать? Присягнет Карлусу Москва, присягнет и Новгород, и вся Русь станет Карлусовой.
Пожарский с Трубецким – этот князь теперь всегда с ним рядом, как бы второй его голос, тень, – должны были ответить без увёрток.
Вспомним, что из Ярославля Пожарский писал Новгороду, что не даст присягать королевичу шведскому, если он «по летнему пути» в Новгород не пожалует.
Королевич тогда не пожаловал. И Пожарский ему присяги не дал, но, вероятно, если бы королевские шведские войска пришли немедленно на помощь, Пожарский, как и Михайло Скопин-Шуйский, принял бы их помощь и присягнул бы Карлусу.
Шведское вмешательство в русские дела было осторожным, неуверенным, только пограничным, и Пожарский одними своими русскими силами добыл Москву.
Теперь из освобождённой Москвы он даёт в Новгород через гонца ответ иной, чем делал бы из Ярославля:
– Того у нас и на уме нет, чтобы взяти иноземца на Московское государство. А что мы с вами ссылалися из Ярославля, и мы ссылались для того, чтобы нам в те поры не помешали, бояся того, чтобы не пошли на московские города, а ныне Бог Московское государство очистил, и мы рады с вами за помощию Божией биться и идти на очищение Новгородского государства…
Как бы и не Пожарский пишет. Прямойкнязь явно кривит.Стало быть, все его любезные переговоры с Новгородом были хитростью и обманом. Даже и язык не его, а чудится в нём казацкая косточка: «И мы рады с вами биться…»
По-видимому, Пожарский отвечал Новгороду под давлением Трубецкого, теперешней своей второй души.
Ещё в Ярославле и всюду на московском походе Пожарский обычно отыскивал, выбирал, так сказать, равнодействующую, среднюю всех влияний, давлений и обстоятельств. И из Ярославля, когда был слаб, он не так говорил с Новгородом. Если тогда он и не присягал Карлусу, то обнадёживал новгородцев присягой шведскому королевичу. А теперь пишет: «Того у нас и на уме нет».
Не в Смуте, а в победе над Смутой, под давлением обстоятельств, впервые как бы начинает кривить прямойкнязь. Он скрывает, что в Ярославле у него было на уме «взяти иноземца на Московское государство», – и кого взяти – самого кесаря германского, кому посылалась и грамота от ополчения и ходил послом Еремей Еремеев.
Победа, восторг победы, а может быть, и маложданная лёгкость победы овладения Москвой – всё это, по-видимому, заставляло теперь Пожарского искать новую равнодействующую.
Московская победа была взрывом московской племенной гордыни и религиозного исключительства. Теперь нельзя было и заикнуться об иноземце или иноверце на царском престоле. Надо думать, что и Пожарский именно потому пишет теперь, что у него и в уме не было «взяти иноземца», хотя сам же ссылался о том и с германским императором, и со шведским королевичем, и – нельзя того забывать – присягал королевичу польскому.
А теперь тем самым новгородцам, с которыми был в самом тесном союзе, грозит «биться»…
Именно после московской победы образ Пожарского если и не двоится, то начинает мутнеть.
Может быть, виновата усталость князя Дмитрия. А может, и его тяжкий недуг.
Князь Пожарский был болен душевным, иногда находившим на него недугом – чёрным недугом, как он звался в старину. Теперь его называют тяжёлой формой меланхолии.
Тень, тусклая дымка, иногда как бы находит на князя Дмитрия и на победном движении к Москве, и в том же Ярославле, когда жаловался новгородскому послу князю Фёдору Чёрному-Оболенскому, что его к ополчению «бояре и вся земля сильно приневолили», как и теперь, на самой вершине победы.
Неясной, тусклой, какой-то незаметной становится фигура Пожарского именно на вершине победы, когда кишел и шумел, сходился и расходился, то додирался до сабель, то разъезжался, когда стал исходить ярой прей многоголовый и многошумный Великий Земский собор об избрании царя на Московский престол.
Дни его совещаний, его споров и тупиков, его страшной растерянности и нерешительности были, собственно, днями глубокой слабости Московского государства.
И Сигизмунд – будь он подлинно сильным, и Владислав, если бы не был он только пустой тенью для русской истории, – мощными ударами, быстрым движением на Москву могли бы ещё заставить этот народ и эту страну принять царём Владислава.
Сигизмунд и двинулся было от Вязьмы к Волоколамску, на Москву. Но его передовой отряд был наголову разбит русскими, которых несла крылатая московская победа.
От пленного Сигизмунд узнал, что на Москве русская победа, что русские не примут больше Владислава, что они будут биться до последнего. И от таких вестей Сигизмунд малодушно повернул назад, в Польшу. Именно тогда польский прилив сошёл, сбежал по-настоящему с Русской земли.
И московские люди недаром по всем церквам стали петь радостные, благодарственные молебны…
А после трёвдневного очистительного поста начались совещания Великого Земского собора. Замечателен такой подъём духа в измученном, расшатавшемся было народе.
– Пусть народ положит подвиг страдания, – призывали его ещё недавно Дионисий и Авраамий из Троицкой лавры. – Нам всем за одно положити свой подвиг и пострадати для избавления христианской веры…
И вот подвиг страдания свершён, закончен очистительным постом и молитвой всей земли.
А теперь уже шумит Земский собор.
Пожарский не на первом месте на Соборе.
На первом месте там старый князь Иван Мстиславский, а Пожарский – в тени, хотя и ведёт за старого князя Ивана соборные прения.
Русские на Соборе точно все любуются своей победой, ослеплены её сиянием. Бурно и гордо они вновь поверили в свои племенные народные силы, в своих людей и себя.
И Пожарский как будто плывёт по всем этим волнам Собора. Он как будто отказывается от своей затаённой мысли времён Ярославля о сочетании Московского государства с Германской империей в одну мировую державу, вообще от всякой мысли о выборе в цари иностранного королевича.
Никто бы, вероятно, и не посмел подумать о том в светлом опьянении победой, когда воспрянули все охранительные, суровые, исступленные силы Москвы. Дух избранного Израиля Православного, дух замученного Гермогена, носится над Собором…
И те самые донские казаки, кто на Москве с налёта, в потеху рубили головы каждому, кто заикался против Лжедмитрия, воровские казаки князя-Смуты, князя-Бунта, целовавшие крест любому вору и среди них вору Тушинскому, который звался жидом, – именно они жесточее, непримиримее, неукротимее других стали теперь на русский прирождённый корень, на искони православного государя. История знает немало примеров, когда силы беспорядка при перемене равновесия особенно свирепо, впереди других желают засвидетельствовать, что они силы порядка.
А Пожарский всё ещё искал равнодействующую, на этот раз уже в смуте Собора.
Кому же быть царём на Москве?
На Соборе творилось великое дело, но там же кипели старые распри, счёты местничества, зависти, жадные властолюбия и прямые подкупы.
Собор стал каким-то чудовищным торжищем подкупов и заманиваний. Воспрянули все рухнувшие было княжата и родовые бояре, желавшие теперь ставить себя на царство. Именно от соборных времён сохранился печальный оборот московской речи «подкупаться на царство»…
Охрипшие, отчаявшиеся соборяне разъезжались из Москвы, и, казалось, снова обрушится в кровавую распрю замученное вконец царство. Но Собор съезжался снова.
Кому же быть царём?
Были голоса о возвращении венца царю-пленнику Василию Шуйскому, несчастнейшему царю московскому, оболганному и нелюбому. Но его все побаивались. Дурной глаз был у Василия, невезучего царя.
Прочили в цари старого князя Мстиславского и князя Василия Голицына, по жене родственника Пожарского. И о самом Пожарском толковали. Но единодушия не было.
А что же сам Пожарский?
Только к февралю 1613 года он нашёл, наконец, равнодействующую, среднюю, примиряющий выход.
Именно тогда Пожарский вернулся к своей исходной мысли, которая заставляла его, одного из немногих, оставаться до конца верным царю Василию Шуйскому.
Пожарский стал направлять Собор к отысканию законного государя, если не иностранного, то русского, но восходящего до Смуты по законным своим правам на Московский престол.
Утверждением ненарушимого преемства царской власти должен восстановить Собор царство. Такова мысль Пожарского.
Два дня, 20 и 21 февраля, 1613 года были решающими для всего русского будущего.
20 февраля, открывая Собор, Пожарский поклонился всем и попросил принять на себя «искус» раздумия прежде, чем дать ему ответ.
– Теперь у нас на Москве, – сказал князь Дмитрий, – благодать Божия воссияла, мир и тишина… Станем же у Всещедрого просить, чтобы даровал нам Само-держателя всея Руси… Подайте нам совет. Есть ли у нас царское прирождение?
В этой, так сказать, формулировке – «царское прирождение» – Пожарский впервые высказывает мысль о необходимости искать выхода в законной преемственности царской власти.
Мысль для большинства, по-видимому, нечаянная. Во всяком случае все молчали, как отмечает современник. И потому, разумеется, молчали, что страшная Смута сорвала с Руси все «царские прирождения».
Наконец, после долгого молчания, соборные владыки, архимандриты, игумены, а они были самыми первыми мудрецами на Соборе, подали свой голос:
– Государь Димитрий Михайлович, мы станем Собором милости у Бога просить. Дай нам срок до утра…
И в ночь с 20 на 21 февраля 1613 года русская судьба решилась.
20 февраля 1613 года князь Пожарский спрашивает Собор:
– Есть ли у нас царское прирождение?
А на другой день, 21 февраля, для большинства Собора, по-видимому, нечаянно, мало кому ведомый выборный дворянин от Галича Костромского подал собору выпись о родстве последнего царя из корени Иоаннова, Фёдора Ивановича, с боярином Фёдором Романовым, которому де царь Фёдор и желал завещать царство. Но как боярин Фёдор Романов при своём гонителе Борисе Годунове был пострижен под именем Филарета и уже давно стал митрополитом Ростовским, а нынче в польском плену, то да будет царём на Москве сын его, Михаил, двоюродный племянник царя Фёдора Ивановича.
– Кто это писание принёс?
– Кто, откуда?
С точностью записывает современник недоуменные крики Собора. Никто ничего не понимал – откуда Михаил, – когда самые большие княжатые роды хотели государиться и воцариться, докупались на царство. Но такую же выпись о Михаиле подал Собору и казацкий атаман с Дону. Собор волновался, гудел тревожно.
– Атамане, – поднялся князь Пожарский. – Какое вы писание положили?
– О природном государе Михаиле Фёдоровиче, – твёрдо повторил атаман.
Заветное слово найдено: «природный». Собор начал смолкать, он становится «согласным, единомысленным» – и потому, что найдено заветное слово, и потому, что казацкие сабли сильно перегнули в сторону нечаянного-негаданного Михаила Романова. А в неделю Православия на Красной площади вплотную в духоте стоял московский народ. Архиепископ и архимандриты с келарием Авраамием вышли на Лобное место просить у выборных людей последнего приговора об избрании царя. Но ещё до опросных речей вся Красная площадь подняла крик:
– Михаилу Фёдоровичу быть царём, Михаилу быть государем московским…
Ударили колокола. Москва загудела крылатой медью. В Успенском запели благодарственный молебен. По всей Москве в могучем звоне запели многолетия новому государю, и толпами пошли к присяге стрельцы…
Юный Михаил стал государем. Несомненно, на Великом Земском соборе всех искуснее, тоньше, книжнее были чёрные и белые клобуки, соборное духовенство и монашество. Именно они направляли Собор, владели его душами, его мнением. И несомненно, что духовенством и был подвинут к престолу костромской мальчик – боярин Михаил Романов, он – избранник духовенства. Искусники Собора в клобуках и рясах хорошо знали, что делать в ночь на 21 февраля. Только они одни и знали. В ту ночь они договорились с силой – с казацкими саблями, и внезапно открыли Собору своего избранника, никак не тронутого, уж по самой юности своей, Смутой. Они одни понимали, что государством будет на деле управлять не этот мальчик, а его отец, мудрый митрополит Филарет, которого, конечно, вызволят из польского плена. Церковь будет управлять державой. В этом была мысль духовенства, выдвинувшего Михаила. Все боярские роды изворовались, обвалились в Смуте. На них уже опасно ставить государство. На новой силе надо ставить. Сама церковь будет властительницей.
Костромской мальчик только её ставленник, а будет править митрополит Филарет, его изберут патриархом, и патриарх станет великим государем в новом патриаршем государстве Московском. Так всё и свершилось. С избрания Михаила начинаются времена патриаршего государства. И патриарх Филарет, отец Михаила, действительно стал Великим государем. Гений Московской Руси именно в эту эпоху достиг своей полноты: он утвердил нацию как религиозное воплощение народа. Но уже при царе Алексии патриаршее государство дало страшную трещину: распря Никона с Алексием и раскол обвалили его духовное единство. А царь Пётр, во всей силе своей грозы, его беспощадно сдёрнул и прикончил. Пётр начался в борьбе против церковного государства – нельзя забывать, что он начал со всепьянейших и всешутейших соборов…
Бурный гений Петра промчался мимо московского понимания нации и государства как религиозного преображения всей жизни. Нация для Петра была победой, гражданством, просвещением, а не религиозным подвигом и преображением. Пётр, несмотря на весь блеск и лавры, как бы снизил или сдавил дыхание нации: московская нация, победившая Смуту, что, может быть, не менее значительно, чем Полтавская победа, как будто чаяла религиозного преображения всей жизни, вселенского преображения, а Пётр в ответ на это как будто дал только московскому телу заёмную европейскую душу.
Так это или не так, но во всяком случае несомненно одно, что только в школьных учебниках Смута кончается 1613 годом, избранием на царство Романова. Уже в 1615 году снова подымается на Русь Сигизмунд, в 1617 году – королевич Владислав, всё еще требующий царства Московского, которое, как в сказке, у него по усам текло, а в рот не попало…
Сигизмунд и Владислав в каком-то хвастливом малодушии только бряцают оружием. Поляки сошли, как и шведы. Но неуёмная Смута выкинулась в страшной судороге разиновщины. До самого Петра Смута. И Пётр поднялся из Смуты стрелецкой. Пётр, блистающая и беспощадная молния, – как бы последний разряд всех сил, какие были всколыхнуты и приведены в движение Смутой. Русская тряска, чудовищный взрыв вытрясли, так сказать, Петра. А может быть, и весь наш теперешний духовный строй, и весь ход наших исторических сил, обвалы и победы, и вечная наша подземная тряска – неутихаемое русское землетрясение, может быть, всё это «детонации» всё того же ужасающего взрыва, который начался на Руси с чудесного явления воскресшего царевича Дмитрия…
А историческая роль Пожарского кончилась избранием в государи, хотя и не очень прочного, но всё восходящего до Смуты царского прирождения, костромского мальчика Михаила.
Пожарский никогда не создавал и не вёл событий. Он только, когда мог, направлял их ход. Так он примкнул к нижегородскому ополчению и счастливо направил его через Ярославль на Москву. Так он примкнул и к московскому опьянению победой, к взрыву племенной и религиозной исключительности – природности – и счастливо направил Собор до избрания царя Михаила, пойдя, так сказать, на поводу церкви, за её избранником. Но как бы ни писал сам Пожарский в дни Собора, что у него на уме не было «взяти на Московское царство иноземца», потомок точно знает, что Пожарский из Ярославля вёл в цари брата германского императора. Именно такое прозрение кесаря – видение императора в обвале Смуты – самое замечательное, гениальное, что есть в образе Пожарского. Захолустный худородный служилый князь в захолустном Ярославле в тлении и мгле Смуты решает вести на престол московских царей брата германского императора. Точно бы видения державы – империи – проносились перед князем Дмитрием. Пророческие видения. Меньше чем через сто лет они сбылись в явлении царя Петра…
Пожарский, не создавший событий, не пытался бороться против всех сил, счётов, тончайших замыслов и хитросплетений Земского собора. На Соборе он, разумеется, молчал о своих ярославских переговорах и о своих видениях кесаря на Москве, о сочетании Москвы с Европой, Руси с Германией в одну священную империю. Да он и не знал бы, как о том сказать. Он всё только предчувствовал. Он никогда больше своих ярославских мыслей не подтверждал, но и никогда от них не отказывался. За князя Пожарского отказывался от ярославских переговоров вновь избранный государь Московский Михаил Фёдорович. В 1613 году были разосланы известительные грамоты об его воцарении. Такую грамоту к германскому императору Матвию повезли Ушаков и дьяк Заборовский. Но, кроме грамоты, им был дан и подробнейший письменный наказ, что отвечать ближним кесаревым людям, когда те будут спрашивать о князе Пожарском. Послам настрого велено отвечать, что «они и не слыхали», будто князь Пожарский желал видеть на Московском престоле германского королевича Максимилиана, что «у великого Российского царствия и мысли не было выбирать государя негреческой веры из иных государств». О самих переговорах наказ учит отвечать, что с германским послом Юсуфом Грегори «приказывал князь Пожарский без совету всей земли» и что цесарский посол Грегори и посол Пожарского Еремеев всё «сами собой затеяли, хотячи у Цесарского Величества жалование какое выманить». Подтверждаемая наказом подробность о том, как Пожарский «приказывал» о призыве германского императора на Русь и как о том же «затеивали» его посол и посол императора – показалась мне одной из любопытнейших подробностей Смуты…
Князь Пожарский скончался 20 апреля 1642 года… У него были сыновья Пётр, Фёдор, Иван. Был ещё род князя Пожарского-Лопаты, князя Пожарского-Щепы и князя Пожарского-Перелыги. Но все княжеские роды Пожарские иссякли…
Верный боевой товарищ князя говядарь Козьма Захарыч Минин едва дождался избрания на царство Михаила: он скончался ещё в разгар Смуты, в 1616 году. Его сын Нефет умер бездетным, и мининский род на Руси иссяк, а двор Козьмы Захарыча стоял брошенным, запустелым, заросшим крапивой – вымороченным – уже при царе Михаиле…
Минин и Пожарский, два больших московских человека, страшно близки нашим временам, каждому из нас своей душевной трагедией, страданием своим за Русскую землю и своей жаждой видеть ее восставшей и воссиявшей. И лучше всего рассказ о них закончить такими прекрасными словами их современника:
«Бысть во всей Руси радость и веселие, яко очисти Господь Бог Московское царство совершением и конечным радением и прилежанием боярина князя Димитрия Михайловича Пожарского и нижегородца Козьмы Минина, и иных бояр, и воевод, стольников, и дворян, и всяких людей. И за это им зде слава, а от Бога мзда и вечная память, а душам их в оном веце неизреченная светлость, яко пострадали за православную христианскую веру и кровь свою проливали мученически. И на память нынешним родом вовеки. Аминь».