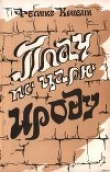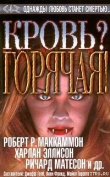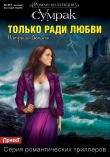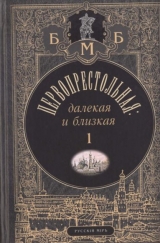
Текст книги "Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Автор книги: Алексей Ремизов
Соавторы: Иван Наживин,Михаил Осоргин,Иван Лукаш,Василий Никифоров-Волгин,Александр Дроздов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
Пушкин родился 26 мая 1799 года, в Москве
Туча стояла над Москвой. Точно б всеми четырьмя лапами раскинулась по небу шкура громадного медведя над самым Кремлём.
С вечера яблони побило крупным редким дождём. К ночи дождь перестал. Москва, тёмная, пустынная, спящая, свинцово поблескивая шарами куполов, дышала влажной свежестью, чистотой дождя, сырым березняком…
Спала Москва, когда, бесшумно проблистав зелёным заревом в стёклах, пронеслась молния, озарив пустоту улиц, тени чугунных фонарей, заборы, колоннады, и резкой пальбой раскатился звонкий гром.
Будошник, запахнув полы овчинного тулупа, залез в будку свою, и, когда снова мгновенно блеснуло и зеленоватым сиянием облило стёкла, только алебарда его, сверкая, торчала из будки…
Молнии вырывались из тьмы клубками ярых змей, разили, чётко выхватывали тени труб, сквозные пролёты колоколен. По заставам, у Камер-Коллежского вала, кругом Москвы, толкались, разбегались чугунными кеглями громовые откаты.
Гремела, сверкала весенняя гроза без дождя. От бесшумных молний высох воздух, и стала ночь душной и чёрной.
Москва, громада спруженных куполов, чудовищные тени дворцов и строений, словно вымерла, опустела навеки. Пустой и тёмной лежала Москва, будто отданная на потоки молний, на бег сухого грохота…
В приходе Богоявления, в приземистом доме о шести колоннах, что на Немецкой улице у Покровки, противу самого немецкого рынка, в тёмных окнах пробегает огонь свечи.
В доме о шести колоннах, в чулане прихожей, в зальце, где шарахаются молнии в круглое зеркало, в сенцах, на скрипучих лесенках в антресоли, – стонет прищемлённый визг…
Босая, простоволосая девка, с ошалелыми глазами, коса закорюкой, в холщовой исподнице, мягко топоча, пробегает наверх с тазом и полотенцами. У иконницы, в столовой зале, сухонькая старушка, стоя на креслах, теплит у тёмного Спаса тонкую витую свечу…
Тугой вопль срывается с антресолей. Старушка семенит маленькой тенью вдоль окон, то голубых от молний, то гаснущих в громе.
– Гаша, Гаша…
Простоволосая девка даже присела:
– Чего тебе, нянюшка?
– Святые образа выставила?
– В спальню барыне понесла, да дохтур не приказал… Тамо, нянюшка, в уголку на припечке, рядом их уставила.
– Комоды мне помоги отпирать, и чтобы все двери были отворены.
– Да отворены все…
Ударил внезапный близкий гром, точно в саду лопнули пушечные ядра, дрогнули, затряслись стёкла, на люстре пронзительно зазвенели хрусталики.
Гаша с нянюшкой пали на корточки у комода. Обе скоро шептали, скоро крестились. Прыгала у Гаши жидкая косица, мышиный хвостик.
– Никола Чудотворец, Спасы угодники, спаси и помилуй, – шепчет няня, сама трясущейся рукой тянет неподатливый ящик.
Ящики скрипят. Обдаёт домашним духом пересыпанных мехов, скатанных скатертей, мятными приправами, настоями, вишнёвками, сушёными о запрошлый год яблоками…
– Никак сверху кличут, – вспрянула Гаша. – Барыня воет…
Стрелой метнулась девка на антресоли. А нянюшка всё шепчет, всё крестится, кряхтя над тяжёлыми комодами.
– А куда барин сокрылся? Туточки в креслах сидел, а и нет. Куды побег… Серёженька… Батюшка, Сергей Львович [168]168
Батюшка, Сергей Львович… —подразумевается отец поэта, Сергей Львович Пушкин (1770–1848) . Прим. сост.
[Закрыть]…
По чуланцам, переходам шныряет старушка, ищет барина Сергея Львовича.
В круглой зальце, у самого зеркала выхватила её из тьмы молния. Морщинистая, бледная, в белой пелеринке, круглые глаза без ресниц, как у птицы, а сухонькие пальцы согнуты на груди для креста…
Гаша стремглав пронеслась мимо.
– Нянюшка, уже, уже. Дохтур младенчика вынес, живого.
И не то Гаша смеётся, не то в стёкла дождь плещет.
– Слава Те, Господи. А барин наш где, батюшка Сергей Львович?
А барин Сергей Львович стоит на дворе, на ступеньках, без шляпы. Стучит по перилам крупный дождь.
За полночь прошумел внезапный ветер в сиренях, закачало тени дерев на бульварах, и редкие капли застучали по заборам, по крышам, всё шумней, всё шумней. Точно отсырев, мигала молния, и приглох, откатился гром, жидко дребезжа где-то далече в дружном шуме свежего ливня.
За тёмным садом пробегают ещё голубые зарева, и тогда страшно светится лицо Сергея Львовича и зыбится его тень на стеклянных дверях. Помято, сбито кружевное жабо, расстегнут серый фрак. По лысому лбу постукивают холодные капли. Он, не понимая, слизывает их с губ.
– Батюшка-барин, да куда вы убёгли, ножки промочите, чай, дождь полетел…
– Няня, ты, – озирается барин, – а Надежда Осиповна [169]169
Надежда Осиповна —Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, урождённая Ганнибал (1775–1836) . Прим. сост.
[Закрыть], Надя как… Она кричит?
– А и нет, вот и не столички. Вовсе оправилась… Родила.
– Родила, – не думая, слизнув каплю с носа, ступил к дверям и вдруг, закрыв руками лицо, зарыдал, всхлипывая шумно, по-детски.
И точно ребёнка, легонько подталкивая в спину, уводила его в комнаты няня.
– Ишь, без шапки убёг… Почивать ступай, не беспокой ты себя.
Зазвенела стеклянная дверь. Дождь смутным шумом ворвался в сенцы, брызнул прохладой…
Будошник, тот самый, что спрятался от грозы, сдвинув на затылок треуголку, высунул голову, подставив воде и ветру морщинистое лицо.
Ночь посерела, стала водянистой, мутной. Кругом шепталось, шумело. Капли шлёпали о мостовую, как лёгкие, мокрые шажки бесчисленных прохожих…
А наутро умытая Москва играла, горела на солнце, в тумане тёплых рос, громадной горкой влажных самоцветов, вспыхивая рубинами, изумрудами…
Золотыми полыми шарами плавал звон к ранней [170]170
К ранней– т. е. к заутрене . Прим. сост.
[Закрыть]. Над самым Кремлём, в нежном, чуть зеленоватом небе, над блистающими куполами, кудрявыми белыми птахами стоят крошечные утренние облака.
У гауптвахты, мимо полосатых столбов, гремя барабанами, прошагали солдаты. Все высоко подымают ногу, как цапли, у всех гамаши [171]171
Гамаши —накладки из толстой ткани или кожи, которые надевались на туфли или низкие ботинки . Прим. сост.
[Закрыть]до колен. Сияют белые ремни на синих кафтанах, лица красные, как из бани, букли белые, медные каски широко плещут солнцем. Пронесли медный блеск, барабанный гул…
Чиркая мокрыми колёсами, кренясь в грязи, проплыла у Иверской карета. Гайдук [172]172
Гайдук —выездной лакей . Прим. сост.
[Закрыть]верхом на пристяжной, треуголка поперёк лба, размахивает бичом, а долгие ноги, как жерди, волочатся с коня, и жижей, лепёхами обрызганы чулки…
В зеркальных стёклах кареты дрожь солнца, отражение луж, вывесок, бородатых мужиков, картузов, красных платков, гречевиков.
Над сияющими лужами дымит розоватыми столбами пар.
От Иверской карета доплыла на Немецкую улицу. Барин в коричневом фраке, полный и круглый, проворно выпрыгнул на мокрые мостки.
Зальца залита солнцем. Дрожит свет на золотых рамах, косыми дорогами сечёт воздух, горит на красных спинках диванов.
Девка Гаша визгнула, всплеснула руками, дико шарахнулась от круглого барина:
– Василий Львович [173]173
«Василий Львович приехали!»– имеется в виду Василий Львович Пушкин (1766–1830), дядюшка поэта, отставной поручик и стихотворец . Прим. сост.
[Закрыть]приехали!
Тот махнул на неё треуголкой.
– Шш-шш… Что с девой сталось?
А ему кланяется няня в белой пелеринке, светлая, чинная.
– Радость у нас. Бог мальчика принёс.
– Вот такой махонький младенчик, – визжит Гаша, попрыгивает, косица трясётся, показывает на пальцах младенца не больше вершка.
Вышел в зало Сергей Львович, бледный, лицо помятое, светлый кок на лбу спутан.
– Здравствуй, Василий.
– Ну, поздравляю, брат… Сказывал тебе, всё будет благополучно.
– Ах, я намучился. Ночь без сна.
– И я не спал. Сочинял, брат… К Наде дозволено?
– Прошу.
Братья идут мимо окон, под руку.
– Славный день, весёлый день, – говорит коричневый барин. У него подмигивают чуть выпуклые глаза. – По ночи сочинял, а утром «Ведомости» пришли… Старик-то наш, Суворов [174]174
Старик-то наш, Суворов… —речь идет о знаменитом полководце генералиссимусе Александре Васильевиче Суворове (1730–1800), графе Рымникском (1789) и князе Италийском (1799). В год рождения Пушкина Суворов руководил итальянским и швейцарским походами русской армии, разбил французов в нескольких сражениях, а затем вывел армию из окружения через швейцарские Альпы . Прим. сост.
[Закрыть]… Италию освободил от мерзостного якобицкого колпака… Смотри, милый друг, вчерашние «Ведомости» пишут: российскими войсками Милан взят… Да где они у меня?.. – Порылся в заднем кармане, коричневый фрак наморщился на спине. – Фельдмаршал сам пишет в реляции своей: при вступлении моём в столицу Пьемонта [175]175
Пьемонт —Сардинское королевство; ныне северо-западная часть Италии . Прим. сост.
[Закрыть]я с радостью увидел общий восторг жителей, освободившихся от бремени тяготевшего над ними притеснения. Ныне спокойствие, согласие и порядок в целом Пьемонте…
– Да, да, слава Богу, – улыбнулся Сергей Львович. – А какое имя мальчишке моему дать?
– Я про Италию, ты про святцы. Назови его Александром во славу побед Российских [176]176
Назови его Александром во славу побед Российских… —судя по контексту, Василий Львович имеет в виду суворовские виктории. Однако почти несомненно, что ангелом-хранителем и небесным покровителем Пушкина был св. Александр Невский. См., напр., работы последних лет: Грановская Н. И.Небесный покровитель рода Пушкиных; Лебедева Э. С.«Святому Невскому служил» (К вопросу об обстоятельствах крещения и о небесном покровителе А. С. Пушкина). – В сб.: Пушкинская эпоха и Христианская культура. Вып. IV. СПб., Центр Православной культуры, 1994. С. 68–81. Прим. сост.
[Закрыть]…
В спальне, в полусвете опущенных штор, сквозит солнце и зелёный туман берез. В шёлковом белом чепце лежит на высоких перинах барыня Надежда Осиповна. Чуть залегли щеки, горят румянцем. Без сил пали по одеялу желтоватые руки.
– Устала, мой ангел?.. Брат поздравить пришёл.
Надежда Осиповна повела бровью, пожевала горячими губами:
– Благодарю… Мне бы его посмотреть, мальчика… Мальчика принесите.
На жёлтой подушке, в кружевах, несла его в барскую спальню нянюшка, а за нянюшкой шли Гаша, Дарья, кучер Антроп в плисовом камзоле, дворецкий Кир, старец белоголовый, ветхий и строгий, в гродетуровом кафтане [177]177
В гродетуровом кафтане —т. е. в кафтане из плотной шёлковой ткани. Такая одежда пользовалась популярностью у духовенства и купечества и была в какой-то степени символом степенного, трезвого взгляда на жизнь . Прим. сост.
[Закрыть]старинного покроя, казачок Петька, повар Андрон, тучный и всегда грустный, да ещё девка Фенька, кволая [178]178
Кволая– здесь: хилая, болезненная . Прим. сост.
[Закрыть]Нюша, да ещё старушки, Бог весть их имена, что с позадворья, – весь дом…
Шли они по залу, по самой солнечной дорожке, чинные и суровые, и все жмурились от солнца. Петька подсмаркивал носом, покуда Кир не дал ему щелчка. Петька от внезапности открыл рот, да так с открытым ртом и остался…
Нянюшка вошла в спальню, а все другие, точно их качнуло волной, кинули руки до полу в низком поклоне и загудели недружно:
– Здравствуйте, матушка-барыня…
– Подите, подите, – едва помахала на них рукой Надежда Осиповна. – Мальчик где?
Нянюшка, поджав запалые губы, поднесла к постели жёлтую подушку. Там шевелилось, выказывало ручки и ножки что-то тёмное, сморщенное.
Надежду Осиповну под локотки приподняли с перин, и увидела она на жёлтом шёлке маленькое тёмное тельце, тёмную крошечную головку со старческой гримаской, нос приплюснут, волос курчавый и тусклый, с рыжинкой, как войлок.
– Боже мой, арапчонок! – вскрикнула Надежда Осиповна. – Унесите его, фу, какой дурной арапчонок.
И отвернулась к стене, закусила было губу, но заплакала обиженно.
– Арапчонка родила – на всю Москву стыд… Арапчонок…
Сергей Львович смеялся, Василий Львович утешал:
– Хотя бы и арапчонок. В деда пошёл, в Аннибала [179]179
В деда пошёл, в Аннибала– имеется в виду Осип Абрамович Ганнибал (1744–1806), сын «арапа Петра Великого» . Прим. сост.
[Закрыть].
А в детском покое, где теснится у окон нежная зелень берёз, за тафтяным пологом, сквозящим солнцем, что-то поскрипывает, шевелится. И нянюшка ворчит:
– Арапчонок… Кровинку свою таким словом обозвать… Не арапчонок он, а дворянский сын Пушкин.
И чуть скрипнет, чуть пошевелится за пологом, толкнёт нянюшка зыбку [180]180
Зыбка– колыбель, люлька . Прим. сост.
[Закрыть]тощей рукой и уже поёт тоненько и привычно, как будто пела «дворянскому сыну Пушкину» всегда:
Кровельщик
Жил-был кот воркотун,
Жил без лиха коток…
Когда Наполеон возвращался после кавалерийского смотра в Кремле, копыта чавкали в лужах, а московские пустыри дымились оттепелью.
Таял нечаянный и ранний московский снег.
У Благовещенского собора стояла толпа солдат, все смотрели вверх, на золочёный купол. Зеленоватое вечернее небо в тусклом дыме оттепели огромно светилось над площадью.
Инженерный офицер доложил императору, что с собора снимают крест, который, по слухам, из литого золота, что вокруг собора думали ставить леса, но квартальный комиссар привёл одного обывателя, русского кровельщика. Русский кровельщик брался снять крест без лесов, из слухового окна колокольни, опоясав себя канатом.
Кровельщик, приведённый комиссаром, был молодой мещанин в синем кафтане, стриженный в скобку и с русой бородкой. Его тонкое лицо испуганно подёргивалось. Он мял в руках картуз, кланялся и озирался на офицеров и сапёр.
– Хреста отчего, – говорил мещанин, – Хреста снять можно… Лемонтра или надобность, починка ежели, можно снять…
Когда император придержал у толпы коня, кровельщик уже принялся за свою работу: высоко в зеленоватом небе к золочёному куполу Благовещения как бы по чёрной нитке взбирался чёрный мураш, крошечный человечек. Было видно, как человечек подрыгивает ногами, вот сползает вниз, вот лезет снова.
Он закинул верёвку из слухового окна на светящийся крест Благовещения, повис, и верёвка выгнулась под тяжестью его тела.
Человек раскачивался и бил ногами по воздуху, его тело толкалось о бок купола, он обхватил его рукой, припал и стал обходить купол, сметая на площадь снег. В толпе прошёл одобрительный гул.
Инженерный офицер сказал императору, что смелость русского мастера достойна награды.
Император взглянул на офицера с насмешливым раздражением:
– Вы сказали, он русский?
– Русский, Ваше Величество.
– Он согласился снять крест? Таким лучшая награда – расстрел… Расстрелять его!
Император сильно дал шпоры, поскакал.
Инженерный офицер, оробев, поднял руку к киверу и, моргая, долго смотрел на колыхавшуюся кавалькаду свиты…
Кровельщик подошёл к толпе сапёр, тяжело дыша, сам потный, картуз за поясом, дымятся стриженные в скобку волосы, с впалой щеки содрана кожа, и сочится кровь в русой бородке.
Солдаты его же кушаком связали ему за спину руки. Тонкий нос кровельщика был орошён капельками пота, плечи синего кафтана дымились.
Кровельщик не понимал, зачем ему вяжут руки, но давался, переступал с ноги на ногу и скашливал.
Солдаты толкнули его в спину, чтобы шёл. Он ступил шаг, что-то понял, стал, озираясь:
– А теперя куда ж меня повядут? А пошто мне руки вязать, колодник [181]181
Колодник —арестант, заключённый . Прим. сост.
[Закрыть]я, али што?
Ему никто не ответил, да никто и не понимал мычаний русского.
Солдат, шедший сзади, ткнул его в спину ножнами тесака, чтобы поторопился.
– Пошто руки мне?
Кровельщик дрогнул от удара. Тонкое лицо посерело, и заметнее стали на русой бородке тёмные бляхи крови.
– Пошто, ваш-благородие, руки-то?
Он уперся, вывёртывая запястья из кушака. Солдат ударил его железными ножнами по пальцам.
– Руки пошто, руки пошто, – вскрикивал кровельщик.
Его гнали всё быстрее, солдаты бежали с ним, было слышно их сопящее дыхание. Скоро крики кровельщика смешались в смутный вой «о-о-ш-ш-о»…
К ночи поднялся студёный ветер, над Москвой понесло колючий снег. Побелели колерные лошади [182]182
Колерые лошади —т. е. лошади, с которыми приключился колер, конская болезнь, род краткосрочного бешенства, причиной чему может быть и переохлаждение . Прим. сост.
[Закрыть].
В потёмках на пустыре оборванная толпа солдат и пленных копалась у общей ямы для расстрелянных, умерших от цинги, от ран и в горячке.
В поленнице голых трупов, французов, поляков, русских, итальянцев и немцев вперемешку, лежал и русский кровельщик. Разве что по задранной бородке можно было узнать его разбитую пулями чёрную голову. Он поджимал к голой, очень белой груди сложенные для креста пальцы…
Mux. Осоргин Старинные рассказы
Выбор невестыВ черевичках на босу ногу Наташенька, Наталья Кирилловна [183]183
Наташенька, Наталья Кирилловна —подразумевается Наталья Кирилловна Нарышкина (1651–1694), будущая вторая жена (с 22 января 1671 г.) царя Алексея Михайловича, принёсшая ему троих детей – Наталью, Феодору и Петра, впоследствии знаменитого императора и реформатора России . Прим. сост.
[Закрыть], спускалась утром на погребицу. Шла туда с тремя девками, но сама и замок отпирала, и слезала по холодной и скользкой лесенке на лёд, где рядами стояли молочные крынки, деревянные чашки с простоквашей, чаны браги и пива, кадушки с соленьями и недельный запас свежей убоины [184]184
Убоина —свежее мясо . Прим. сост.
[Закрыть]. Охватывало боярышню запахом плесени и пронзительным холодком, который, пожалуй, был даже приятен после сна в душных дядюшкиных горницах. Руками прекрасными и белоснежными подавала снизу девкам разные припасы, сколько было надобно к столу и на дворню, а себе за труды прихватывала мочёное яблочко, которое очень любила есть по утрам раньше всего прочего. Отсюда две девки уходили в поварскую, а боярышня с третьей навещала ещё подполье, где хранились вина и наливки, – тоже выдать дневной запас. И когда шли по двору, – со всех концов сбегались и слетались к ним куры, гуси, кривобокие утки и провожали до крыльца.
Приодевшись со скромностью, но как полагается боярышне, Наталья Кирилловна спешила в приходскую церковь соседнего с Алёшней села Желчина. Здесь у неё было своё место – у стенки под правым крылосом, не на виду. Молилась усердно, а о чём молилась – её дело. Называли её желчинской черничкой и дивились, что она неохотна до игрищ и хороводов и столь прилежна к молитве. Молодые соседи, дворяне Коробьины, Худековы, Ляпуновы, Остросаблины, Казначеевы, заманивали её в общее веселье редко и с трудом, а когда удавалось, то все девушки вкруг неё как бы линяли и выцветали, и больше смотреть было не на кого, – смотрели на неё. Её такое внимание смущало: посидит немного и уходит домой, где дела по хозяйству всегда много, потому что дядюшка, отцов братец, боярин богатейший, только на неё во всём и полагался и любовно называл ее «племянинкой Кирилловной».
Была весна её жизни, преддверие будущего. И это будущее рисовалось простым: богатые родичи пристроят в замужество за равного человека, хоть незнатного, но с достоинством. И тогда будет своё хозяйство и своя семья.
Была Наташенька очень красива: с юности рост большой, статна, бела, над чёрными глазами – коромысла бровей, волосы длинны и густы. Характер покладистый, вид смирненький, ласкова, – а что на душе у девушки, про то ни родители, ни подружки не знают.
* * *
Областным и другим городам от царя Алексея Михайловича приказ: через людей доверенных из окольничьих или дворян с дьяками, под зорким глазом наместников и воевод, осмотреть всех девиц округа, из бояр и простых, званием не стесняясь, и которые девки особо хороши и по всем статям здоровы, про тех дать знать на Москву. Наилучших отобравши, привозить их для осмотра, помещая на Москве у родичей с почтенными женщинами, а дальше указано будет.
Овдовел царь [185]185
Овдовел царь —первая супруга царя (с 16 января 1648 г.), Мария Ильинична, урождённая Милославская, скончалась 3 марта 1669 г . Прим. сост.
[Закрыть]: не можно царю оставаться вдовым. Выбор невесты – дело нелёгкое: не просто царская радость, а мать будущих детей царских. Раньше сгоняли на Москву отборных девиц полторы тысячи и боле, ныне примут только отборнейших, одобренных усердием местной власти. Которые окажутся отменно хороши, тех возьмут в верх для царского смотра, а не подошедшим под царский вкус всё равно награда. Какая лучше всех – той быть царицей.
С ноября месяца по апрель – полна Москва красавиц. Из них идут первыми Ивлева дочь Голохвастова Оксинья, да Смирнова дочь Демского Марфа, да Васильева дочь Викентьева Марфа, да Анна Кобылина, да Львова дочь Ляпунова Овдотья, да Ивана Беляева дочь черница, может быть, прекраснее её девки и не найти, кабы не было ещё Кирилловой дочери Нарышкина Натальи, которую прислали из деревни, а проживает у боярина Артамона Сергеевича Матвеева, царского первого министра.
Царь Алексей Михайлович смотром не спешит, наверх подымается в месяц три раза, в шести покоях смотреть по девке. Сразу не угадаешь. Ему в помощь боярин Богдан Хитрово, знаток женских статей, и у которой руки худоваты, плечо не ладно скатывается, на лице рябинка, нога в коленке не совершенна, волос не блестит – всё это боярин понимает тонко. Доктор Стефан, учёный немец, тот судит по своей части: довольно ли в тазу широка, в груди обильна, да хороша ли кровь, – всё в рассуждении будущих детей. По части нужных подробностей – повивальные бабки. Чтобы не было никакой ошибки.
У царя не об одной жене забота: надобно заново украшать кремлёвский дворец. Раньше работали русские мастеры, упражнялись в простой резьбе. Ныне царь завёл немцев и поляков, пошли по стенам золотые кожи, резьба стала фигурной, в Столовой палате на потолке звездотечное небесное движение, в будущих царицыных хоромах у подволоки [186]186
У подволоки– т. е. у потолка . Прим. сост.
[Закрыть]и от стен атлас зелёный отнят и вместо его обито полотнами и выгрунтовано мелом, а в сенях по углам и стенам обито флемованными дорожники и насыпано стеклярусом по зелёной земле; за письмом стенным и травным наблюдает славный иконописец Симон Ушаков.
Готовится и царская опочивальня: выводят серным цветом обильного клопа, до царской крови жадного. Кровать поставлена новая, ореховая, резная немецкая, на четырёх деревянных пуклях [187]187
Пукли —точнее: пуколи, т. е. валики . Прим. сост.
[Закрыть], а пукли в птичьих ногтях; кругом кровати верхние и исподние подзоры резные позолочены, резь сквозная, личины человеческие, и птицы, и травы, а со сторон обито камкою [188]188
Камка —шёлковая китайская ткань с разводами . Прим. сост.
[Закрыть]цветною, кругом по камке галун серебряной прикреплён гвоздми медными. Поверх кровати жена нага резная золочёна, у ней в правой руке шпага, а в левой одежда; по углам на четырёх яблоках четыре птицы крылаты золочёные. Сама постеля пуховая, наволока – камка кармазин [189]189
Кармазин– ярко-красное тонкое сукно . Прим. сост.
[Закрыть]червчата бела-жёлта-зелена, подушка – наволока атлас червчат. Полог сарапатный полосат большой. Одеяло на соболях, атлас – по серебряной земле репьи и травы шелковые, грива – атлас золотой по червчатой земле с шелки с белым, с лазоревым, с зелёным. Завес кизылбашской – по дымчатой земле птицы и травы разных шелков, подложен тафтою зеленою.
И та кровать не самая парадная, и то одеяло не самое ценное. Для будущей царицы заготовлено одеяло – оксамит золотной, по нём полосы на горностаях, грива – по атласу червчатому низано жемчугом, в гриве двадцать два изумруда, и в том числе два камня зеленых гранёных. Спать под таким одеялом не можно – задавит тяжестью; взор же радует самый прихотливый.
С домашними заботами справившись, к ночи назначил Тишайший царь осмотр девушек в верхних хоромах, шестерых зараз, среди них Кириллова дочь Нарышкина Наталья.
* * *
Прошла Наташенька через все муки и всякий девичий стыд: третий месяц тайно смотрят её сенаторы, и боярин Хитрово, и дохтуры, и бабки. Взяли, наконец, к государю вверх, и с ней две тётки и мамка, живут в небольшой комнате, обитой сукнами, постеля велика и содержится бережно, тётки с мамкой спят на боковых скамьях по стенам. Живут неделю, другую, царь на смотрины не удосужился. Девушка даже привыкла, ночью спит сладко в натопленной комнате под лёгким полотном. Но в день назначенный не дали ни простыни, ни сорочки, комнату истопив ещё жарче. Уложили рано, тётки с мамкой с вечера стоят на ногах возле постели, ведут беседу тихую, а Наташеньке велено спать, как положили, – и сохрани Боже шевелиться при смотринах!
Так она и лежит как бы в огне, в стыду и почти что в бесчувствии от страха.
Тишайший царь на парадах любил надевать немецкое платье, но в обычный день одевался просто: на сорочку и на становой кафтан [190]190
Становой кафтан —исподний обтяжной кафтан, с перехватом по стану . Прим. сост.
[Закрыть]– обычный лёгкий зипун, в руках инроговой посох. Так подымался и на смотрины, с дохтуром и старым духовником, да с двумя девками, которые несли каждая по толстой свече. Перед осмотром усердно молился, и чтобы Бог вразумил его, и чтобы мысль не отвлекалась случайной женской прелестью, а всех бы посмотреть со здравым вниманием, избирая не любовницу, а супругу на долгие годы. Но, конечно, по человечеству, не всегда убегал радостного волненья, обходя покои наипрекраснейших девушек, отобранных знатоками, и случалось, что каждая новая казалась ему лучше всех прежде виденных, и уж краше, пожалуй, и быть не может, не к чему и тянуть дальше томительное вдовство. Однако сдерживался и продолжал смотрины, иных отчётливо и надолго запоминая.
В покоях, обитых и устланных сукнами, царских шагов почти что и не слышно. Когда входили в комнату, приставленные женщины молча кланялись в пояс, девки со свечами становились по обе стороны постели, доктор с попом задерживались у двери, пока царь при надобности не позовёт. Сам Тишайший подходил с лицом спокойным и ласковым, не позволяя себе неприличной спешки и торопливости чувств, без смущения, как бы выполняя царский долг или выбирая драгоценный камень для своей короны. Не наклоняясь и не трогая, почтенно поглаживая бороду, оглядывал будто бы спящую девицу во всех статях взглядом не наглым, не оскорбительным, но мужским и опытным, без лишнего ханжества. Оглядевши, молча повёртывался и выходил, а девки со свечами забегали вперёд. Если уж очень приглянулась ему виденная картина – тихим голосом приказывал дохтуру Стефану ту девицу в подробностях проверить и на случай записать и запомнить.
Февраля в первый день дошло и до Натальи Нарышкиной. Под вечер плакала и охала, трижды мыли ей лицо холодной водой, к ночи хоть и успокоилась, но распылалась, совсем замучила тёток и мамку, и едва к нужному времени могли её уложить и раскидать ровненько и красиво, лучшего не скрывая, ничего слишком не выставляя на вид, а прекрасным лицом прямо на смотрящего, чтобы видел и дуги бровей, и рисунок губ.
И уж если эта картина не хороша, – тогда придётся царю искать не дома, а где-нибудь за морем; может быть, там и найдётся лучше.
Царь вошёл, как входил к другим, и девки со свечами осветили красавицу. И неизвестно, что было бы, если бы не случилось, что Наташенька нарушила запрет открывать глаза. Она и не открыла, а только в одном глазке сделала малую щёлочку, едва дрогнувши веком. Когда же сквозь эту щёлочку увидела перед собой царскую бороду и два мужских глаза, прямо на неё смотрящие, то так застыдилась, что уже не могла сдержать девичьей застенчивости и, как рассказывают, легонько вскрикнула и закрылась, как могла, «обема рукама».
Дело неслыханное, явная царю обида! Тётки с мамкой бросились, чтобы те руки отнять, а как она не давалась, то царь, увидав даже сверх обычного, сам стыдливо засмеялся и поспешил уйти, крепко ударяя в пол инроговым посохом. И было горе в оставленном им покое, потому что женщины решили: всем надеждам отныне конец! Могла девка стать царицей, а теперь прогонят её с позором.
Ещё рассказывают, что в ту же ночь царь досмотрел и ещё двух девиц, одна из них – черничка Иванова дочь Беляева Овдотья, которую оберегали и готовили Ивановская посестрия Егакова да старица Ираида. Та черничка была поистине прекрасна и лежала, как положили, не шелохнувшись и вся замерев, будто в настоящем сне. Но чего-то царь на неё, как и на другую, смотрел рассеянно, словно бы думая о постороннем или что вспоминая, так что настоящей её красоты почти и не заметил.
Смотрел царь невест и ещё не раз, до самого месяца апреля, в середине которого все собранные девицы были распущены по домам с подарками, боярину же Аргамону Матвееву сказано было его девицу маленько позадержать – царь её ещё на дому у него посмотрит. И когда смотрел, то теперь Наташенька была не как там, а в телогрее атлас зелен полосат с волочёным золотом на пупках собольих, кружило делано в кружки червчат шёлк с золотом и серебром. И была, сказывают, ничуть не хуже, чем там, и от царского взгляда не убегала, только пылала заревом молодого пожара. Царь же смотрел на неё неотрывно, и не как царь, а как неразумный жених, не по обычаю торопливый, не по возрасту молодой.
Дальше известно: стала Наталья Нарышкина русской царицей и тем над всеми возвысилась и осталась памятной в истории, что родила царю сына, а царству – Петра Великого. И выходит, что в выборе супруги Тишайший царь Алексей Михайлович не ошибся.