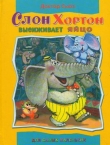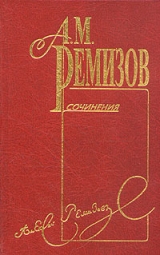
Текст книги "Том 2. Докука и балагурье"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
Царь Михаил Феодорович указом 1634 года под страхом смертной казни воспретил курение табаку.
По уложению царя Алексея Михайловича в<е>лено курильщиков наказывать кнутом, рвать им ноздри и резать носы.
А нынче и курица курит.
Чудесный урожай *
Богатый крестьянин Архип Семенов жил в одном селе с бедняком Осипом Ивановым. Полосы у них были рядом. И когда они сеяли рожь и сошлись на конце полосы, подошел старичок странник, похожий на помершего прошлой весной попа Савелия и, обратясь к Осипу, спросил:
– Что сеешь, крещёный?
– Рожь, добрый человек, – ответил Осип.
И странник, благословив поле широким крестом, сказал:
– Уроди Бог рожь.
И обратясь к Архипу, когда тот поворачивал, спросил:
– Что сеешь, крещёный?
– Что сею, то и сею, – недовольно ответил Архип, – колки сею.
– Уроди Бог колки, – сказал старичок, благословляя широким крестом Архипово поле.
Зазеленела зеленя у Осипа, поднялась высока рожь – не налюбуется. А у Архипа поле гладкое да голое, что попова ладонь, а на голи Бог знает что: такой выскочит толстый стебелек, разовьется да под шляпку, ну, и стоит, как гриб боровик.
Тяжко стало Архипу и не то, что пропала рожь, а срам велик: дома дочки-невесты плачут, выйти на улицу боятся, а соседи подтрунивают.
– Что, мол, Семеныч, что за пшеница на поле у тебя такая выросла?
А другой и без обиняков ляпнет, не слушал был.
* * *
Приехал на село цыган Гамга, коновал, Архип к нему. Осмотрел цыган поле, инда крякнул, а помочь ничему не может.
– А иди ты, – говорит, – в монастырь и спроси у отцов, как тебе горе избыть.
С тем и уехал.
Собрался Архип на богомолье.
И где по дороге какая церковка попадалась или часовня, везде молебны служил и свечки ставил: уж больно срам-то его одолел. А как вошел в монастырь и видит, на стене старичок написан, поджилки и затряслись: узнал странника, да уж поздно.
Отстоял Архип обедню, а после обедни с богомольцами к затворнику. Стал у окошечка, дожидается, когда затворник выглянет и все пойдут подходить, кто за благословением, кто с бедою.
Выглянул затворник, дошел черед до Архипа, Архип все ему про свое поле, и как сеял и что потом вышло.
– Батюшка, помоги, от сраму деваться некуда.
А старец даже ногами затопал.
– Поди ты, – говорит, – прочь окаянный и с колком своим. Не в святой обители тебе место, ступай к жиду поганому.
Поклонился Архип и пошел.
И думает себе:
«К какому это жиду велит старец идти?»
А жил на селе беднеющий портной Соломон.
«Должно, что к Соломону!» – решил Архип да, не заходя домой, прямо к Соломону.
И Соломону про свое поле – да чего и рассказывать: у всех на глазах поле-то, разве что слепой не увидит!
– Эка беда, – сказал Соломон, – твое горе не горе, а клад: возьми серп, полей росной водой, подковырни какой поспелее, да и неси домой, а потом в сахарную бумагу его, да перевяжи и вези продавать. Да продавай-то не сразу: сто рублей за колок, да сто рублей за секрет. А секрет вот какой: скажешь, ну! – пойдет работать, скажешь: тпру! – отпадет.
Поблагодарил Архип Соломона, посулил с каждой сотни рубль и довольный вернулся домой.
* * *
Не узнать Архипа; или в уме помутился? Ему колком тычут, а он, знай, в бороду посмеивается. Или чего задумал?
Рано поутру вышел Архип, благословясь, и пошел с серпом в свое голое поле. Росной водой помочил он серп, подковырнул позрелее – целую полосу нажал и домой. А на другой день нагрузил телегу и с товаром в город.
– Стержень! Кому надо стержень? – скрипит телега, покрикивает Архип.
А сидела у окна молодая вдова, уперлась локтем в подоконник: тесно ей в комнатах, сна забыть не может. И слышит: телега, купец с товаром. Очнулась, крикнула Пашу:
– Поди, узнай, что такое?
В скуке, известно, чему не рад, – на каждый клик встрепенешься.
Вернулась Паша, а сказать не может, только фырчит в передник.
– Да ты с ума сошла! Позови сюда мужика, сама посмотрю.
– Стержень! Кому надо стержень? – тянет за окном Архип.
Побежала Паша и уж не одна вернулась.
– Да что это такое? Давай сюда!
– Стержень, барыня, стержень! – заладил свое Архип.
А как развернула Палагея Петровна сверток, так и заалелась и скорее его в сторону.
– Сколько стоит?
– Сто рублей.
– На бери.
И сейчас же денежки на стол.
И не успел Архип из дверей выйти, а рука уж сама к свертку, развернула Палагея Петровна, вынула, а он ровно пробка, – нечего с ним.
– Паша, – кричит, – Паша, беги, догоняй мужика, скажи, чтоб вернулся.
А Архип знает, шажком едет. И вернула его Паша.
– Секрет сказать? – подмигнул Архип, – можно: сто рублей.
А скажи он двести, все и двести дала бы.
Положила Палагея Петровна покупку в комод и до ночи сколько раз не утерпит, вынет, развернет, посмотрит, а как ночь пришла, не надо и сна.
А наутро и весела и не кричит на Пашу и окно забыла. Да и что ей: сны не снятся.
И пошли дни – разлюли, не вдовьи.
* * *
Собралась как-то Палагея Петровна за город к родственнице-генеральше.
Все ей были очень рады, а больше всех сам хозяин: взглянет на Палагею Петровну и точно весь взмокнет.
А Палагея Петровна, как обед кончился, домой.
Ну, ее удерживают, чтобы переночевала – и погодой прельщают и деревенским воздухом! – а она и слышать не хочет. А, наконец, и призналась, что забыла дома одну вещь и без нее заснуть не может.
– Эка, о чем горевать! – обрадовался хозяин, – да я сейчас отряжу Тишку: Тишка живой рукой слетает, накажите только, что доставить.
Палагея Петровна согласилась.
И не прошло и минуты, поскакал Тишка из усадьбы в город за вещью. И благополучно доехал, получил сверток от Паши, сунул его в задний карман и, немедля, назад.
Выехал на большую дорогу – ехать свободно. – Ну! – крикнул Тишка.
И пропал: как выскочит из кармана-то да как вдвинет и пошел и пошел —
Тишка понять ничего не может, холодный пот прошиб, нахлестывает, скачет, а это зудит и зудит, и чем больше поднукивает Тишка, тем пуще.
Шляпа так над головой и поднялась – на волосяном дыбе.
И уж не помнит, как и доскакал.
– Тпру! – крикнул несчастный и вдруг освобожденный хлопнулся наземь весь в холодном поту и уж раскорякой едва вошел на крыльцо.
* * *
До поздней ночи сидели на балконе.
Вечер был прекрасный, гостья необыкновенно оживлена – она была так рада, что ее неразлучный сверток с нею! – и оживление ее сводило с ума хозяина.
Он почему-то все принимал к себе и так уверился, что когда в доме все затихло, он тихонько прокрался в комнату к Палагее Петровне.
Лунная ночь была, лунный свет кружил голову и застил глаза, – генерал, пробираясь по комнате, задел за стул.
– Ну! – пробормотал он с досадой. И пропал, как Тишка.
Сверток упал на пол, развернулся и что-то впилось в генерала.
Бедняга, ничего не понимая, со страха стал на колени, а оно не отпускает. Лег на ковер – не легче. Или это ему снится? Потрогал сзади: нет, живое. И нет избавления.
Теряя всякое терпение, шмыгнул на балкон, с балкона в сад.
– Ну! ну! – кряхтел он, ничего не соображая. И обессилев, растянулся ничком на дорожке.
А наутро нашли в саду генерала: скончался! – а это глазам не верят – это, как перо, торчит сзади.
Диву дались, пробовали тащить, да оно, как загнутый гвоздь, ни клещами, ничем не возьмешь.
Да так и похоронили. И много было слез, но больше всех убивалась Палагея Петровна.
1912 г.
Султанский финик *
В одном шумном сирийском городке жил бедный купец Али-Гассан. Торговлю получил он по наследству от отца, но душа его вовсе не лежала к прилавку, и его можно было провести, как угодно, и выманить, что хочешь. И все его дело шло так, что не только не приносило прибыли, а часто просто в убыток.
Али-Гассан сидел в своей лавке, занятый одной своей мечтою.
Странная это была мечта! Ему непременно хотелось жениться, но так, чтобы жен у него было столько, сколько дней в году, и даже больше, а он только этим бы и занимался.
Торговал он финиками.
Финики всевозможных сортов разложены были в цветных коробках, да и так лежали на лотке, и другой бы на его месте, ну, как его отец, нашел бы чем заняться, распоряжаясь таким живым янтарем, а ему, что финики, что ломаное железо, торговля его соседа.
Озорники, подсмеиваясь над ним, говаривали, что его собственный турецкий финик для него дороже всех фиников земных и небесных.
И были правы: все, ведь, мысли его были собраны на одном этом.
И если в лавке, где его отвлекали покупатели, он ухитрялся, занятый собой, просто не отзываться на оклик, вы представляете его у себя в комнатенке вечерами, где он оставался сам-друг до утра.
Он усаживался в уголок, курил и весь отдавался своей мечте и, случись пожар, он не заметил бы, да так и сгорел бы: в его мечте было самое острейшее желание, полыхавшее пуще всякого пожара.
И однажды, заперев свою лавку, сидел он так с своей мечтою, весь окутанный дымом, и вдруг точно от удара он сразу очнулся и увидел, как из дыма выступило крылатое лицо Гения и крылья, вьюнее дыма, вьюнились от стены к стене.
– Али-Гассан, – сказал Гений, – проси что хочешь: первые твои три желания будут исполнены.
Али-Гассан не заставил себя ждать.
– Хочу быть, – сказал он и по своей застенчивости показал знаком, – турецкого султана.
– Хорошо, – ответил Гений, – еще что?
– И чтобы никогда не опускаться.
– Ладно.
– А больше мне пока ничего не надо.
И не успел Али-Гассан затянуться, как желание его осуществилось.
* * *
Султан Фируз, славившийся в молодости своей любовной неутомимостью, с возрастом, когда обыкновенному человеку еще только наступала самая пора, должен был лишиться прекраснейшего из удовольствий. Желания у него еще бывали по воспоминаниям, но на большее он ни на что не годился.
Все, что можно было сделать, все было сделано искуснейшими сирийскими врачами, и султан, потеряв всякую надежду, понемногу свыкался с мыслью о своей негодности.
В тот вечер было назначено заседание Совета.
Султан по обыкновению бесстрастно решал дела и вдруг почувствовал такую полноту и крепость, от которой занимался дух, горели глаза и на побледневшем лице, как роза, расцвела улыбка.
Не веря себе, султан прервал заседание и поспешно вышел.
К великому удивлению приближенных он направился прямо в гарем, изнывавший и отчаявшийся увидеть бодрым своего государя. Скрывая улыбку, всякий глазами показывал и сожаление и насмешку, а один из евнухов бросился скорее за ложкой, чтобы в нужную минуту прийти на помощь: без ложки не обходилось, когда султан по воспоминаниям искал невозвратимых наслаждений.
Выбор пал на прекраснейшую из жен, юную смуглянку Нуруннигару. И со всей былою страстью султан ее обнял и уж не мог сдержать сердца, которое рвалось в груди, как в первую любовь.
И почувствовал Али-Гассан, как ударился он точно бы в мешок мягкий и что-то горячее обдало его и всего стеснило, дышать нечем, и до того неудобно, сжимает, вот обалдеет – и вспомнил он о последнем третьем желании своем, которое не мог сказать Гению и, собрав последние силы, уж захлебываясь, прошептал, как утопающий хватаясь за соломинку.
– О, великий и всемогущий Гений, хочу быть Али-Гассаном!
И сию же минуту очутился в своей комнатенке.
* * *
И что такое сталось, не узнать Али-Гассана: какая у него лавка, какие сладкие свежие финики, какой богатый выбор, и сам какой приманщик – не хочешь, купишь.
Торговля с каждым днем шла в гору, и в короткий срок сделался Али-Гассан купцом богатым, но и богатый не обзавелся домом, а жил одиноко, как и раньше, без жены – без жен, о которых мечтал когда-то с такой огненной волшебной страстью.
1909 г.
Ё
Тибетский сказ *
Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло
Созвал Бог всех зверей… *
Созвал Бог всех зверей полевых, луговых и дубравных, – и слонов и крокодилов, поставил перед ними миску, а в миску положил Божью сладкую пищу – разум:
– Разделите, звери, кушанье себе поровну.
Ну, звери и стали подходить к миске – кто рогом приноравливается, кто клыком метит: всякому ухватить лестно Божью сладкую пищу.
– Стойте, куда прёте! – прикрикнул на зверей заяц, – мы не все в сборе: человека нет с нами. Станет он после пенять, станет Богу выговаривать, не оберемся беды!
– Да где же он? – приостановились звери.
– Где? Да тут за пригоркой.
– А ты зови его, мы подождем.
Заяц побежал и за пригоркой нашел человека.
– Слушай, Кузьмич, Бог дал нам, зверям, кушанье, этакую мисищу с разумом! – велел разделить поровну. Все наши сошлись на угощение, уж метили заняться едой, да я остановил. Иди ты скорей в наше сборище, да не мешкай, выдь ты на середку да прямо за миску: «А, мол, моя доля осталась!» – да один все и приканчивай, а как съешь миску мне, Кузьмич. Понимаешь?
– Ладно.
* * *
И пошел человек за зайцем на звериное сборище управляться с Божьей сладкой пищей – разумом.
И как научил его заяц, так все и сделал: вышел он на середку, ухватился за миску:
– А! моя доля!
Да всю и съел, а миску зайцу.
Заяц облизал миску.
Тут только и опомнились звери.
– Что за безобразие! – роптали звери.
А тигр-зверь пуще всех.
– Бог дал нам кушанье, – кричал тигр, не унимался, – велел разделить поровну, а оно двоим досталось. Так этого оставить не годится. И уж если на то пошло, пускай всякий год родится у меня по девяти детенышей и пускай поедают они зайчат и ребятишек.
Как заяц услышал про зайчат-то, насмерть перепугался, да из сборища скок от зверей в поле и там под колючку.
Известно, какая у зайца защита: ни клыка, ни рога, ни шипа, а под колючкой и заяц – ёж.
Ну, а звери погомонили, погомонили и стали расходиться: кто в поле, кто в луга, кто в дубраву, слоны к слонам, крокодилы к крокодилам.
Пошел и тигр.
* * *
Идет тигр полем, твердит молитву:
– Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей: пожирают и поедают. Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей: пожирают и поедают!
И так это ловко выговаривает, вот-вот от слова и станется: услышит Бог тигрову молитву и пойдут рождаться у тигра по девяти детенышей ежегодно, беда!
Поравнялся тигр с колючкой.
– Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей: пожирают и поедают!
А заяц со страху не выдержал да перед самым носом и выпрыгнул.
Тигр вздрогнул – из памяти все и вышибло.
– Чего ты тут делаешь? – крикнул тигр на зайца.
– Я ничего, Еронимыч, очень страшно. Как ты сказал, твои детеныши будут поедать моих зайчат, я и выскочил. Я тебя боюсь, Еронимыч!
– Постой, о чем это я молился-то, дай Бог памяти?
– А ты твердил, – сказал заяц, – «Го-осподи, пусть через каждые девять лет родится у меня по одному и единому детенышу!»
– Ах, да! Ну, спасибо.
И пошел тигр от колючки.
– Господи, пусть через каждые девять лет родится у меня по одному и единому детенышу! – твердил тигр молитву.
И так это ловко выговаривал, вот-вот от слова и станется: Бог услышит молитву, и будет у тигра через каждые девять лет рождаться по одному и единому детенышу.
Да так оно и будет.
А заяц бежал по полю, усищами усатый пошевеливал: эка, ловко от тигра отбоярился, все-то нынче целы останутся, – и ребятишки голопузые и зайчата любезные.
Овца жила тихо-смирно… *
Овца жила тихо-смирно и был у овцы ягненок. Как-то сидит овца под окошком и тут же ягненочек ее трется. И случился такой грех – мимо проходил Волк Волкович.
Увидала овца волка, – затряслись поджилки, и уж с места не может подняться, сидит и дрожит.
А бежал заяц, видит ни жива, ни мертва овца, а никого нет, приостановился.
– Что такое?
– Ой, Иваныч, смерть пришла!
– Какая такая смерть?
– Волк прошел, Волкович: не миновать, съест.
– Ну, вот еще! Я тебя выручу.
– Выручи, Иваныч!
– Ладно.
Заяц сел на овцу и поехал, а ягненок сзади бежит. Куда едет заяц, овца ничего не знает, а спросить боится, так и везет зайца.
* * *
Выехали на большую дорогу, – там была покинутая стоянка, валялись всякие отбросы.
Заяц увидел лоскуток войлока, велел поднять ягненку. Красная тряпочка валялась, и красную тряпочку поднял ягненок. А потом красный ярлычок от чайной обертки велел ягненку подобрать заяц.
Тут заяц повернул овцу с дороги и поехали тропкой, и доехали до самой до норы волчиной.
Волк высунулся из норы: что за чудеса?
А заяц и говорит ягненку толстым голосом:
– Постели белый ковер!
Ягненок постелил войлок.
– Покрой красным сукном!
Ягненок разостлал тряпочку.
Заяц слез с овцы и стал на красную тряпочку, как на орлеца.
– Подай царский указ!
Ягненок подал красный чайный ярлычок.
Заяц взял ярлычок в лапку.
– От царя обезьяньего Асыки велено от всякого рода зверя доставить по сто шкур. От волков доставлено девяносто девять шкуров, одной шкурки нет.
Заяц остановился, будто передохнуть.
А волк хвост поджал: одной шкуры нет! не за ним ли черед? – да бежать —
Да бежать без оглядки.
* * *
Бежит волк —
Навстречу лиса.
– Куда это тебя несет, серый?
– Ой, смерть пришла.
– Какая такая смерть?
– Заяц царский указ привез: обезьяний царь мою шкуру требует.
– Не может быть!
– Ну, вот еще, сам видел: указ с печатью.
– Нашел дурака, а ты и веришь? Пойдем, я этого займищу на чистую воду выведу.
Волк уперся:
– Да ты убежишь, Лисавна, меня и сцапают!
– Да зачем бежать-то?
– А затем и бежать, давай схвостимся, а то иди одна.
Лиса согласилась: привязала свои хвост к хвосту волчиному. Волк подергал, крепко ли? Крепко.
И побежали волк да лиса выводить заяца на чистую воду.
И благополучно добежали до норы волчиной.
Сидит заяц на красной тряпочке, как на орлеце, в лапках красный чайный ярлычок.
– От царя обезьяньего Асыки велено доставить сто лисичьиных шкур. Доставлено девяносто девять шкуров, одной шкурки нет.
Лисица как услышала – и! куда прыть! – да драла и волка за собой.
Волк прытче, лисе не угнаться.
Бежали, бежали, упала лиса.
Уж мордочкой назад тащится, бок трется о камни, вся шкура слезла.
Волк оглянулся.
– Бессовестная, еще и шубу снимает! И погнал в гору. А когда добрались они до самой верхушки, мертвая лиса скалила зубы.
– Мучаешься, стараешься, а у вас одни смешки!
Волк едва дух переводил, пенял лисе.
Жила-была старуха… *
Жила-была старуха и был у нее сын. Бедно они жили: земли – сколько под ногтем и все тут. И повадился на их поле заяц: бегает усатый, хлеб травит.
Дозналась старуха.
– Самим есть нечего, а тут еще… уж я тебя! – точила на зайца зуб старуха.
У соседа росла в саду старая вишня, пошла старуха к соседу за вишневым клеем.
Дал ей сосед клею, сварила старуха да с горяченьким прямо на поле.
А лежал на поле камушек, на этом камушке любил отдыхать заяц: наестся и рассядется, усами поводит от удовольствия. Старуха давно заприметила, взяла да этот заячий камушек клеем и вымазала.
Прибежал в поле заяц, наелся, насытился и на камушек, сидит облизывается. А старуха и идет, и – прямо на него. Он туда-сюда, оторваться-то не может: хвостишком при-липнул!
Ухватила старуха зайца за уши – попался! – и потащила.
– Изведу ж тебя, будешь ты у меня хлеб таскать, проклятущий!
А заяц и говорит старухе:
– Тебе меня, бабушка, никак не извести! А уж если приспичило, так я тебе сам про мою смерть скажу: ты меня, бабушка, посади в горшок, оберни горшок рогожкой, да с горки в пропасть и грохни, – тут мне и смерть приключится.
Посадила старуха зайца в горшок, обернула горшок рогожкой, полезла на горку – горка тут же за полем, – вскарабкалась на горку да и ухнула горшок в пропасть.
Горшок хрястнул и вдребезги, – слава тебе, Господи! – а заяц скок и убежал.
И дня не прошло, заяц опять к старухе – опять хлеб травит. Не верит глазам старуха: он! – жив, проклятущий!
– Ну, постой же! – еще пуще заточила на зайца зуб старуха.
Опять пошла к соседу за клеем, сварила клею да с горяченьким прямо на поле к тому самому любимому камушку, вымазала камушек клеем.
– Уж не спущу!
Зашла за кустик и притаилась.
А зайцу и в голову такое не приходит, чтобы опять на него с клеем, – наелся, насытился и на камушек, сел на камушек и – попался.
– Не спущу! – ухватила старуха зайца за уши, – не спущу! – и потащила.
– Бабушка, не губи!
– И не говори, не спущу! – тащит старая зайца и уж не знает, чем бы его: и насолил он ей вот как, да и обманул опять же.
– Бабушка, я тебе пригожусь!
– Обманул ты меня, обманщик, не верю! – тащит зайца старуха, не придумает, чем бы его: ли задавить, ли живьем закопать?
– Бабушка, чего твоей душе хочется, все для тебя сделаю, не губи!
– А чего ты для меня сделаешь?
– Все.
Приостановилась передохнуть старуха.
– В бедности мы живем.
– Знаю.
– Есть у меня сын.
– Знаю.
– Жени ты моего сына!
– Это можно: у соседнего царя три дочери царевны, на младшей царевне его женить и можно.
– Жени, сделай милость, – обрадовалась старуха, – а ты не обманешь?
– Ну, вот еще! Раз сказал, – сделаю.
– Постарайся, пожалуйста! Старуха выпустила зайца.
Заяц чихал, лапкой поглаживал уши. Позвала старуха сына, рассказала ему посул заячий. Что ж, сын не прочь жениться на царевне. И сейчас же в дорогу.
– А как тебя величать, Иваныч?
– Ё, – сказал заяц, – так и зовите: Ё.
– Ну и с Богом! Идите!
И пошел заяц со старухиным сыном к царю по царевну – будет старухин сын сам царевич.
* * *
Идут они путем-дорогой, заяц да сын старухин, а навстречу им на коне какой-то верхом скачет – одет богато и конь под ним добрый.
– Куда, добрый человек, путь держишь? – остановил заяц.
– В Загорье, в монастырь, по обету.
– А мы как раз оттуда. Только ты чего ж это так?
– А чего?
– Да уж больно нарядно, и на коне!
– А разве нельзя?
– И думать нечего: ни верхом, ни в одежде в монастырь нипочем не пустят, только и можно – пеш да наг. Оставь свое платье и коня, тут пройтись недалеко.
Тот зайцу и поверил: слез с коня, разделся.
– Мы постережем, не беспокойся! – сказал заяц, – иди вон по той дорожке, прямехонько в монастырь выйдешь.
А в том монастыре в Загорье как раз о ту пору чудил один, под видом блаженного, проходимец, монашки догадались да кто чем, тот и убежал из монастыря голый.
Монашки, как завидели голыша, на того блаженного и подумали: возвращается! – окружили его и давай лупить.
А заяц, как только скрылся с глаз несчастный, нарядил в его богатое платье старухина сына, посадил на коня и прощай.
* * *
Путь им лежал мимо часовни, там у святого камня понавешено было много всяких холстов и лоскутки шелковые – приношения богомольцев.
Зашли приятели в часовню, постояли, оглядели камень. Заяц, какие лоскутки похуже, в сапог сунул к старухину сыну, а понаряднее себе за пазуху.
Сел старухин сын на коня и дальше. Целую ночь провели в дороге, а наутро в соседнее царство поспели, и прямо к царскому дворцу.
Остановили часовые:
– Кто и откуда?
Ну, тут заяц не задумался: старухин сын – богатый царевич, а явились они к царю по невесту.
– У царевича в его царстве, – рассказывал заяц, – такое дело случилось, – мор: родители его, царь с царицей, и весь народ перемерли без остатка и остался во всем царстве один царевич и все с ним богатство. Хочет царевич посватать младшую царевну.
Часовые к царю. Зовет царь к себе. Выслушал царь зайца и отправил к царевнам: пускай познакомятся.
Пошел заяц со старухиным сыном к царевнам. И завели там игру в перегонки – кто кого обгонит?
Старухин сын побежал и запнулся – сапог соскочил. Заяц к сапогу, вытащил из сапога шелковые лоскутки.
– Экая дрянь! – швырнул лоскутки прочь, а на их место, будто стельки, из-за пазухи другие нарядные вынул да царевичу в сапог.
Как увидели царевны, какие шелка царевич в сапогах носит, все три сразу и захотели за такого богача замуж выйти.
Тут заяц игру кончил и к царю.
А уж до царя дошел слух, царь рад-радехонек.
– Берите царевну, благословляю!
А заяц и говорит:
– У жениха на родине ни души не осталось, мором все перемерли, некому и за невестой приехать. Уж вы сами, как-нибудь привезите ее.
Царь согласился: раз ни души не осталось, чего ж разговаривать? – и снарядили за невестой свиту.
– Я с женихом вперед поеду, – сказал заяц, – буду волочить по земле веревку, а они пускай по следу за нами едут.
А жил на земле того царя Сембо, а попросту черт, пускал поветрия и жил очень богато, людям-то невдомек, а зайцу все известно. К нему-то в его палату чертячью заяц и направил.
Увидел их черт.
– Как вы смели войти? вон! пока живы! – раскричался.
А заяц:
– Потише! Мы не просто к вам, а по делу: пришли предупредить. Пронюхал про ваши дела царь и послал войско: велено вас изловить и предать злой смерти. Прячьтесь скорее, а не то все равно убьют. Не верите? Посмотрите!
Черт к окну: и правда, по полю скачут, – народу! – невесть сколько. А это была царская свита, – везли невесту.
– А куда ж я денусь-то? – оторопел черт.
– Да вот сюда! – заяц показал черту на котел.
Черт послушал да в котел.
Заяц взял крышку, крышкой его и закрыл, а сам под котлом развел огонек.
Стал огонек в огонь разгораться, стало в котле припекать.
Черту жарко, – куда жарко! – жжет.
– Ой, ой, больно!
– Тише! – останавливает заяц, – услышат, откроют, убьют ни за что! Потерпите! – а сам и еще огня прибавил.
Терпел, терпел черт, больше не может.
– Близко! Услышат! – унимает заяц, да еще дровец под котел.
Поорал, поорал в котле черт и затих – растопился несчастный.
* * *
Навеселе прикатила царская свита с невестой: дернули на проводинах, галдят.
А заяц, будто в жениховом доме, выходит гостям навстречу, честь честью, одна беда, не успел угощенья наготовить.
– Есть только суп у меня вон в том котле, не пожелаете ли?
Гости не прочь: с дороги перекусить не мешает. И угостил их заяц супом – развар чертячий! – каждому гостю по полной чашке.
А как кончили суп, повел заяц гостей жениховы богатства показывать.
Ведет заяц в первый покой: там золото, драгоценные камни.
– Это приданое за невестой: когда женился женихов старший брат, за невестой ему досталось.
Входят в другой покой: там полно человечьих костей.
– Это чего?
– А это вот что: напились гости на свадьбе старшего брата, безобразничали, буянили, за то и казнены.
Ведет заяц в третий покой: а там – полужив-полумертв.
– А это?
– Тоже гости: напились на свадьбе среднего брата, задирали, безобразничали, а за то заточены навечно.
Переглянулись гости – как бы беды не нажить, в голове-то с проводин у всякого муха! – да тихонько к дверям, пятились, пятились – да в дверь, там вскочили на коней да без оглядки лататы по домам, и про невесту забыли.
* * *
Сбегал заяц за старухой.
И стали жить-поживать старухин сын с царевной да старуха в большом богатстве.
При них и заяц жить остался.
Перенесла ему старуха с родимого поля камушек его, на этом любимом камушке и отдыхал заяц.
У старухина сына родился сын. Со внучонком старуха, а пуще заяц возился.
Так и жили дружно.
Захотелось заяцу испытать, чувствует ли старухин сын благодарность или, как это часто среди людей бывает: пока нужен ты – юлят перед тобой, а как сделано добро, за добро же твое первые и наплюют на тебя.
Притворился заяц больным, лег на свой камушек любимый, лежит и охает.
Сын старухин услышал: что-то плохо с зайцем.
– Чего, – говорит, – тебе, Иваныч, надо? Может, сделать чего, чтобы полегчало. Скажи, что нужно?
А заяц и говорит: – Вот что, сходи-ка ты к ламе, в пещере спасается, и спроси у пещерника: он все знает. Да иди обязательно песками, а назад горой.
Старухин сын сейчас же собрался и пошел по песчаной дороге пещерника искать.
А заяц скок с камушка да по другой, по горной и прямо в пещеру. Сел там, сидит, как лама – пещерник, молитвы читает.
Отыскал старухин сын пещеру, не узнал в потемках зайца, думал: это лама – пещерник.
– Чего тебе надо, человече?
– Заболел у меня благодетель. Скажи, чего надо, чтобы помочь ему?
– У тебя сын есть?
– Есть.
– Вырежь у него сердце и накорми больного: будет здоров.
Пошел сын старухин горной дорогой, едва ноги тащит.
А заяц скок из пещеры да песками, вперед и пришел. И опять улегся на камушек, лежит, охает.
Вернулся старухин сын.
– Был у ламы?
– Был.
– Что же он сказал?
А тот молчит.
– Чего же ты молчишь?
Молча отошел старухин сын от камушка, взял нож и начал точить.
– Чего ты хочешь делать?
А тот знай точит.
И наточил нож, покликал сына.
– Раздевайся!
Разделся мальчонка: не понимает.
– Чего ты хочешь делать? – крикнул заяц.
Старухин сын поднял нож и показал на сына.
– Его —
– Зачем? – заяц приподнялся.
– Сердце сына моего тебя исцелит.
– И тебе не жалко?
– Мне? Мне и тебя жалко: ты для меня все сделал. Потеряю тебя, навсегда потеряю, а сына даст мне Бог и другого.
Тогда заяц поднялся со своего камушка и открыл старухину сыну всю правду.
– Хотел испытать тебя. Теперь – верю.
И в тот же день заяц убежал в лес.
А они стали жить-поживать и счастливо и богато.