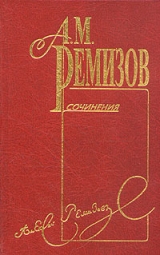
Текст книги "Том 2. Докука и балагурье"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
Сидел солдат в окопах, и осень сидит и зиму сидит, и захотелось ему на родине побывать.
– Хоть бы, – говорит, – черт меня туда снес, глазком взглянуть!
А он тут-как-тут.
– Ты, – говорит, – Королев, меня звал?
– Звал.
– Домой захотел?
– Да мне бы на недельку.
– Изволь, на три, – черт растопырился, – давай в обмен душу!
– А как же я службу брошу?
– Я за тебя.
И решено было у солдата с чертом: солдат неделю и другую и третью на родине проживет, а черт это время в окопах просидит.
– Ну, скидывай! – сказал черт солдату.
Солдат снял с себя шинель, шапку, подал черту и ружье отдал. И не успел опомниться, как очутился дома.
А черт кое-как ремни подвязал и залег с ружьем.
Дело-то ему непривычно, думал, что как-нибудь обойдется, а в первую же ночь хвост к земле примерз, уж отдирал, отдирал, едва высвободился. А ничего не поделаешь, – служба! Да и голодно: привык по трактирам шататься, а тут тебе не трактир. И сам уж не знает, что в голову полезло: известно, какая уж совесть, а тут послали выбивать штыками, – рука не подымается, вроде как жалко.
Неделя прошла, – за год показалась. Полегоньку завшивел черт, а бородища отросла во! – ни на что не похоже.
Так и сидел черт в окопах, мерз да зубами щелкал. И уж чья-то добрая душа черту в окопы кисет прислала. Ко хвосту его черт приделал, а легче не стало.
Наконец-то настал срок солдату.
Простился солдат с домашними.
– Невозможно, – говорит, – больше оставаться, прощайте! – и опять попал в окопы.
А черт, как завидел солдата, все с себя долой.
– Ну, – говорит, – с вашей и службой-то солдатской! И как это вы терпите?.. – да стрекача из окопов, забыл и про душу.
1914 г.
Шишок *Если другой раз и человека нипочем не берет пуля, то против нечистой силы что плевок, что пуля.
Стояли солдаты в земле не нашей, очереди дожидались и заскучали, стоявши. Вот он и задумал подшутить над ними.
– Стреляйте, – говорит, – в меня, сколько влезет, мне ничего не будет! – и стал сам мишенью.
Ну, и выискались охотники, нацелятся – выстрелят, а он сейчас же пулю из себя, и несет тому, что стрелял.
Диву давались солдаты.
А был один старичок в обозе, – угодники-то нынче, слышно, все туда, на войну ушли! – и говорит старичок солдатам:
– И чего вы, други, мудрить над собой даетесь, да и добро попусту изводить грешно!
– А как бы нам, дедушка, его осилить?
– А очень просто, – старичок-то все знал, – только зря не годится: отместит, окаянный.
Стали приставать к старику, скажи да скажи. А уж шишок, видно, сметил и что-то не слышно стало. Старичок и открыл тайность.
– Очень просто: пуговицу накрест разрежь, заряди ружье и стреляй, – завертится!
Ну, схватились было искать, туда-сюда…
А тут такое пошло, не до того уж: вдруг повалил настоящий, гляди, не зевай, – силища страсть, и откуда только берется, так и прет.
Да Бог дал, из беды вышли.
Отстал от товарищей Курин, из третьей роты, не завалящий солдат, во! – папироску закуришь. Туда пойдет, нет дороги, повернет в сторону, – и того хуже. Так и пробирался на волю Божью, а уж едва ноги волочит, ой, пришлось туго!
Бредет Курин мимо пруда и видит: сидит на плотине… узнал, он самый, ногами в воде бултыхает, а рожу на Курина, язык высунул, дразнит:
«Что, мол, ничего, солдат, не сделаешь!»
И так это Курину досадно стало, вспомнил он старичка, про что старичок-то сказывал, подошел поближе к плотине, живо отхватил пуговицу, зарядил ружье, прицелился да как трахнет.
Так того в прах.
– Ага! – словно обрадовался кто-то. Только и услышал Курин, ноги соскользнули. И сказывали, без вести солдат сгинул.
1915 г.
Солдат *1
Служил солдат царю верой и правдой, за родину терпел и трудился, во скольких боях побывал, уж смерть как на него зубы точила, да Бог миловал, цел остался. А вернулся, нет у него ни угла, ни крова, три сухаря в сумке, – доживай век, как знаешь!
И пошел солдат, куда глаза глядят.
Вот ходит он день, и другой, и третий, кончил все сухари и, хоть ложись, да протягивай ноги, нет больше сил…
И видит солдат, идет ему навстречу человек такой чудный.
– Куда идешь, солдат?
– Куда глаза глядят, добрый человек! – и рассказал солдат всю свою жизнь, как служил царю верой и правдой, за родину терпел и трудился.
– Ну, правильно ты прожил, солдат, в сем веке, ступай в царство небесное!
А это сам Господь был.
Поблагодарил солдат за такую милость.
«Вот когда поживу-то!» – и пошел по дорожке направо.
Долго ли, коротко ли, достиг солдат райского места.
И уж такая там благодать: какие поля, какие луга! – ходит солдат, только диву дается. Насмотрелся, нагляделся всяких чудес, покурить захотелось, а табаку ни крошки. Вот он и туда заглянет, и сюда зайдет, – здания все огромадные, как дворец, ни одной лавчонки.
А шли из лесочка праведные старцы. Солдат к ним:
– Покурить больно хочется, нельзя ли как, старички, табаку раздобыться!
– Какой такой табак! Что ты, солдат, нешто тут этим балуются?
И так его пошуняли, уж не рад, что связался.
Сильно солдату досталось. А курить смерть хочется.
– Может, где его тайная продажа есть? – да местностей-то он не знает и спросить уж боязно.
2
И пошел солдат, куда глаза глядят.
И опять ему навстречу тот человек, такой чудный.
– Что это ты, солдат, голову повесил? Или тебя кто обидел?
А это сам Господь был.
– Терпенья нет, курить хочется.
– Ну, коли так, ступай по той вон дорожке: там все есть!
Поблагодарил солдат, повернул налево, да скорей в путь.
А уж бесы бегут навстречу, лапками так и разметывают. И припекать стало, да солдату что, – видывал и не такое: один вошиный зуб чего стоит!
Обступили бесы, жужжат, что пчелы.
– Что тебе, солдат, угодно? Да не надо ли чего? Да мы все тебе, что хочешь! Рады служить! Приказывай!
Солдат от них отбиваться, – летели бесы, как пули, – ну, где на землю приляжет, где ползком. Как-никак, добрался до самого пекла.
– Дайте, – говорит, – местечко, передохну малость. Тут его бесы под ручки, посадили в угол, вроде, как у плиты жаркой.
– А что, табачишко найдется? – спросил солдат бесов.
– Есть! Сколько хочешь!
– Да не хочешь ли папиросов?
– Все равно, что есть, то и ладно.
И натащили бесы махорки – страсть! Кури, сколько влезет.
Покурил солдат хорошо, и вздумалось ему вздремнуть с пути. Да только это дело не сладилось. Стали бесы его прижимать: кто за руку дернет, кто за ногу, кто коготком погладит. Он уж что-что ни делал, нет, лезут!
День прошел и другой прошел, и стал пообвыкать солдат в пекле. Табак, слава Богу, есть, и опять же тепло, жить можно, и одно только тошно: уж очень пристают. И пустился на выдумки, как бы так оградиться от нечистой силы.
Вот взял солдат шнур, вынул кусочек мелку, намелил шнур и давай мерить пекло.
3
Сначала-то бесы ничего, только под руку подталкивали, а потом смекнули, должно быть, что затевает солдат неладное, подскочил один черт…
– Что ты, – говорит, – солдат, делаешь?
– Разве ослеп, не видишь, меряю: церкву хочу поставить. У вас тут и помолиться негде.
Как бросится черт к главному черту.
– Дедушка, погляди-ка, солдат-то что выдумал, хочет церкву у нас поставить!
Поднялся сам, пошел проверить.
И правда, трудится солдат, ползает со шнурком – пекло мерит: хочет в пекле церкву поставить.
– Он еще и нас заставит молиться! – захныкали бесы. Ну, сейчас же отрядил главный бес послов в небесное царство с жалобой на солдата.
– Какого солдата прислали в пекло! Хочет церкву поставить! Нешто это возможно, в пекле – церква!
– А зачем таких к себе принимаете? – сказали в царстве небесном.
– Да возьмите его от нас! – просят бесы.
– А как его взять, раз сам пожелал. Так ни с чем и вернулись.
– Что нам теперь, бедным, делать, закадит, замолит нас солдат несчастных! – завопил сам их главный.
Тут, откуда ни возьмись, выскочил один бесенок, пискун называется, так, востроносенький.
– Сдери, – говорит, – дедушка, с меня кожицу, натяни барабан и пускай с барабаном выйдет кто за ворота и забьет тревогу. Солдат живо сам уйдет.
Ведь, какую умную штуку придумал, даром что и звания-то – пискун!
Содрал дед с бесенка кожу, натянул барабан.
– Смотрите ж, – наказывает чертям, – выскочит солдат из пекла, и сейчас запирайте ворота, а то еще, чего доброго, опять ворвется, и уж пропадай с ним!
4
Забили черти тревогу.
Солдат как услышал барабанный бой, да сломя голову бежать из ада, всех чертей распугал, словно бешеный. Выскочил за ворота.
А им только того и надо, – ворота хлоп и заперлися.
Осмотрелся солдат: никого, и тревоги больше не слышно. Повернул назад, торкнулся, – заперто. Давай стучать.
– Отворяйте, черти! Ворота сломаю!
А они из подворотни только хвостиками помахивают:
– Нет, брат, дудки! Ступай, куда хочешь, нам без тебя веселее. Не пу-устим!
Куда теперь солдату?
Слава Богу, что еще кисет с чертячьей махоркой цел! Покурил солдат с горя и пошел, куда глаза глядят.
Шел, шел и повстречался ему тот человек, такой чудный.
– Куда идешь, солдат?
– И сам не знаю. Выперли меня черти.
– Ну, куда ж я тебя, Устинов, дену? Послал в царство небесное – не хорошо, послал в ад, – и там не поладил.
– Да хоть на часах где постоять!
– Ладно, становись у тех врат, видишь. Да смотри, зря никого не пускай.
А это сам Господь был.
Сам Господь ко своим вратам небесным поставил на часы солдата.
Поблагодарил солдат и пошел, стал на часы. И вот идет… глазищи выпятила, зубы оскалила.
– Кто идет?
– Смерть.
– Куда?
– К Богу.
– Зачем?
– За повелением, кого морить прикажет.
– Погоди, – остановил солдат, – сам пойду, спрошу!
5
А было повеление от Господа Бога, чтобы три года морила смерть самый старый люд.
Солдату жалко, – стариков стало жалко.
Вышел и говорит смерти:
– Ступай, смерть, по лесам, грызи три года самый старый дуб.
Заплакала смерть:
– И за что Господь так прогневался, – посылает дубы грызть!
А ослушаться не смеет, и побрела в лес. И три года шаталась там, в лесу там, выбирала вековые дубы, подгрызала их под корень, три года трудилась ночь и день.
Изошли три года, и воротилась смерть к Богу.
– Зачем опять? – остановил солдат.
– За повелением, кого Господь прикажет морить.
– Погоди, я сам пойду.
И было повеление от Господа Бога три года морить смерти молодой народ.
А солдату жалко: братьев вспомнил, – ведь, всех их уморит смерть.
Вышел и говорит смерти:
– Ступай назад, три года точи молодые дубки. Так Господь приказал.
Заплакала смерть:
– И за что, Господи, на меня гневаешься!
А ослушаться нельзя: не по своей воле смерть смертью по миру ходит, не сама берет, а повеленное. И побрела в лес и три года точила молодые дубки, измаялась.
Изошли три года, вернулась смерть за повелением.
И в третий раз не допустил ее солдат, сам пошел.
А было повеление от Господа Бога три года морить смерти младенцев.
Жалко солдату, – ребятишек жалко.
И велел солдат смерти идти опять в тот самый лес, три года по кустикам лазать, заячью долю есть.
– Господи, за что Ты меня мучаешь! – заплакала смерть, а пошла, и три года по кустам питалась листьями, извелась вся: известно, не заяц, на листочках-то долго не продержишься!
Идет… едва ноги передвигает. Ветер подует – так от ветру и валится.
«Ну, – думает, – расцарапаюсь с солдатом, а дойду сама до Господа Бога. Девять годов Он меня наказует!»
Солдат окликнул.
Молчит, лезет на крыльцо.
Тут солдат ее за горбушку. А та его косяшкой. И такой поднялся шум, не дай Бог.
6
И выходит тот самый человек, такой чудный.
– Что такое?
А это сам Господь был.
Упала смерть Ему в ноги.
– Господи! За что на меня прогневался? Девять годов я мучаюсь, по лесам таскаюсь: три года вековой дуб грызла, три года дубки точила, три года глодала листики.
А солдат винится: простит его Господь, очень уж жалко ему народа!
И повелел Господь девять годов носить солдату смерть на закорках, кормить орехом, чтобы смерть поправилась.
И тотчас смерть так и села верхом на солдата.
А солдат – делать нечего, Божье повеление! – встряхнул ее и повез. Уже возил он ее, возил по лесу, у орешенья, нажралась смерть орехами.
– Вези, – кричит костлявая, – прокати меня, солдат, по дубравушке! – и залопотала что-то по-своему, песню что ли смертную.
Песня-то песней, Бог с нею, пускай себе, да трудно с такою ношей, а крепится – повеленное надо исполнить.
Приостановился солдат, вытащил из-за голенища кисет, закурил.
Увидала смерть.
– Солдат, дай и мне покурить!
А солдат ей кисет, – развязал.
– Полезай, – говорит, – и кури, сколько хочешь.
Известно, смерть в чем-в чем, а насчет табаку плохо, и что и к чему, ничего тут не понимает.
И юркнула в кисет.
А солдат, не будь дурак, закрутил кисет, да за голенище. И уж налегке пошел опять ко вратам небесным, стал на часы, как ни в чем не бывало.
И идет тот самый человек, такой чудный, увидел солдата.
– А смерть где?
– Со мной.
– Где с тобой?
– Да за голенищем.
– А ну, покажи?
Солдат мнется: выскочит смерть из кисета, засядет на закорки и опять носи ее.
– Покажи, я тебя прощаю.
Солдат вытащил кисет, развязал.
А смерть – у! так и скаконула на него, да прямо на плечи.
– У,солдатик!
И повелел Господь Бог смерти уморить солдата.
Соскочила смерть на землю.
– Ну, солдат, слышал?
– Слышал, такая воля Божья! Стало быть, помирать надо.
Тут его смерть и уморила
1914 г.
За Русскую землю *Вечером на Невском встретил я новобранцев. Из трамвая я их увидел. Очень их много было – целый полк, и такие все молодцы – один к одному, в новеньких полушубках и шапках барашковых.
Кто-то из трамвайных соседей моих сказал, что это ратники, а гонят их издалека.
А как они шли ходко и твердо!
Две молодые бабы едва поспевали, бабы бежали обок. Что говорить, под стать мужьям, такие же. Но как они бежали и, кажется, будь у них крылья, они полетели бы! И глаза такие, ну, как из сказки, у Василисы, глаза, как колодцы.
Я соскочил с трамвая. Весь полк пропустил. Перешел на тротуар и с другими прохожими, – все мы очень торопились, – нагнал у Литейного средние ряды.
А как они шли ходко и твердо!
Никогда не забуду, как у Аничкова моста один вышел из ряду. И Василиса остановилась.
Пусть же будет для них этот каменный мост калиновым – счастливый! – и они поцеловались.
Не оглядываясь, побежал он догонять товарищей, а она пошла назад. И все оглядывалась. Пройдет немного и оглянется, и опять идет, и опять оглянется. И уж за трамваями скрылись казенные повозки с сундуками, и в вечернем сыром тумане лишь вспыхивали огоньки фонарей трамвайных, а она все оглядывалась, точно и сквозь туман непроглядный видела, и не могла не оглянуться, не могла наглядеться…
Оттого ли, что кормилицей моей была солдатка… и вот я почувствовал от ее слез горьких так близко всю горечь разлуки. Я словно вспомнил и те часы, когда она, захлебнувшись от слез, меня кормила, и те ночи, когда я кричал от ее затаенной тоски.
У Знаменья Василису встретила закутанная в клетчатый платок старуха в стареньком полушубке, – это его мать. Не угнаться было за сыном, и с вокзала дошла она до Знаменья, тут и поджидала.
И я видел, как обе стали перед образом, тут за оградой, и как старуха-мать, кладя крест своей землистой темной рукой, долго и крепко держала сложенные для крестного знамения пальцы на темном, как родимая земля, изборожденном лбу, – к Знамению, последней заступающей защите… к кому же ей обратиться в ее горькой разлуке? – помиловать просила, еще раз увидеть сына и уж навеки закрыть глаза, от земли уйти в родимую землю, за которую шел умирать ее сын.
И потом я видел, как они переходили площадь мимо памятника к вокзалу и как старуха-мать вдруг обернулась и истово перекрестила вслед великим благословением своим на жизнь и смерть – сама земля наша сына своего.
Как-то вечером выбрался я по соседству к знакомым. С войны у них не был, а раньше, приходилось, засиживался и за полночь, и помню, запала мне одна особенность их дома: встречал меня всегда швейцар – молодой такой толковый парень Иван, а выпускала жена его Ольга. И это, как мне однажды объяснили, такой уж завелся распорядок них: они недавно женаты, и вот Ольга, чтобы не будить мужа: – ему, ведь, целый день у двери дежурить! – сама по ночам вставала отворять дверь.
Какая трогательная заботливость! Оба молодые, оба здоровые – как берегли друг друга!
И мне запомнилось: Иван да Ольга.
Против обыкновения, у дверей никого не оказалось, и я сам поднялся на лифте. Я себе объяснил это тем, что по нынешнему времени мало ли какой случай: – в доме был лазарет, – и всегда могли куда-нибудь услать Ивана. Не засиживаясь поздно, ушел я из гостей вовремя, и, хотя еще был час до полночи, у дверей я встретил не Ивана, а Ольгу. И сразу не узнал: в черном платочке и какая-то красная, не похожая на Ольгу Зазнобину.
Тут только я понял, – конечно, Иван на войне!
– Что ж, Иван, – спросил я, – пишет с войны? Ольга, не отвечая, пошарила где-то у себя на груди и подала открытку.
И мне сразу бросилось – с красным крестом штемпель и число… совсем на днях!
«Дорогая Оля! Пишу Вам неприятный привет, что Ивана Зазнобина убили ружейным огнем в правый глас на пруцкой границе у города Гостиннова, больше писать нечего».
– Не помиловал Господь! – сказала Ольга и посмотрела, как там, на мосту Василиса, нет, не так…
Мне хотелось сказать ей… но увидев эти глаза – как она посмотрела: «не помиловал!» – я вернул ей открытку и пошел…
1914 г.
Белая Пасха *Как настанет на Поморье тёмно время холодное с трескунами морозами – нет конца зимы. А придет Спиридон, станут дни прибывать на овеяно зерно, тут поднимется ветер и дует и дует, а за ветром – белая кутня с виньгом, со свистом, как закуделит: глаз раскрыть не моги!
Поп Вакул с дьячком Яковом только и знай, что печку топили. Да дрова-то попались не колки. Уж Яков язык от колокола отвязал, языком по обуху колотил, так дрова и колол.
Печь ли жаркая, кутня ли белая, выбили из ума дни попа.
«Посту-то надо быть конец, – думает Вакул, – а когда Пасха, Господь ведает!»
И посылает дьячка.
– Сходи, – говорит, – Яков, к попу Анике на за-реку, спроси, когда Пасха?
А поп Аника – за десять верст от Вакулы, и дело его ничуть не лучше: до церкви не дойти, за снег запнешься. Поп Аника о ту пору сам задумался и своего дьячка шлет к Вакуле за тем же.
Вот на полпути Яков и встретил кума. И что им делать, не знают. Стали посередь дороги, смотрят, где на деревне печь топится, и решают идти на дымок, спросить, не знает ли кто из крещеных. Идут по деревне, а уж в вечерях было, и видят, старуха Савиха молока крынку тащит.
– Бабушка, куда с молоком-то бежишь?
– Что вы, деточки, ведь, завтра Пасха!
Кум – к Анике, Яков – к Вакуле.
Пришел Яков, а уж ночь.
– Батюшка, завтра Пасха, пора к заутрене звонить.
Всполошился Вакул.
– Беги скорей, звони!
Яков бегом на колокольню, хвать, а у колокола языка нет. Эка напасть! Слез с колокольни, взял лопату и давай у овина, где дрова колол, снег разрывать, и пока-то искал язык, да нашел, да привязал, стало светать.
Тут и народ понабрался, свечи зажгли – огоньки пасхальные.
Взял Вакул крест, – руки стынут, – и стал градить крестом.
– Христос воскрес!
И запели по-пасхальному.
А на воле кутня куделит, заливается со свистом, с виньгом, валит белые сугробные забо́йни.
– Христос воскрес!
Слушает Савиха, красный огонек свечи колыбается, вспоминает бабушка…
«Где-то деточки горемычные?»
И словами старыми молит и просит за родимое Поморье, за землю крещеную.
– Христос воскрес!
По пустынному Поморью глубоки снеги.
1915 г.
Земные тайности
Хлебный голос *Жил-был царь. И как не стало царицы, царь и призадумался: и то худо, что царицы нет, да на то воля Божья, и опять же хозяйство на руках и не малое, надо кому распорядиться, надо и гостей принять честно, да чтобы все было, как у людей есть, а ему на старости лет дай Бог с царством-то управиться.
А было у царя три сына, все трое женаты, при отце жили. Вот царь и призвал к себе снох, и старшую и среднюю и младшую, и решил испытать, кому из них большухой быть.
– Какой, – говорит, – голос дальше слышен?
Старшая думала, думала, – какой голос?
– Да вот, – говорит, – батюшка, намедни бычок за Москва-рекой рычал, так у Андроньева на обедне слышно было.
– Эка, дурёха! – отставил царь старшую сноху и к середней: – какой голос дальше слышно?
– Петух у нас, батюшка, седни пел поутру, а в Соколинках у мамушки слыхали, Софоровна сказывала.
Царь только бороду погладил: ну, чего с такой спросишь? – и к младшей:
– Какой голос дальше слышно?
– Не смею, батюшка, сказать, сами знаете.
– Как так, говори, не бойсь.
– Хлебный голос дальше слышно.
– Какой такой хлебный?
– А такой, батюшка, если кто хорошо кормит, да голодного не забывает, накормит, согреет, утешит, про того далеко слышно.
– Ну, – говорит царь, – умница ты, Поля, по-русски сказала, так и будь ты большухой.
– И пошло с этих пор на Руси – хлебный голос всех дальше слышен.
1914 г.








