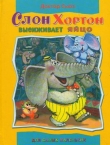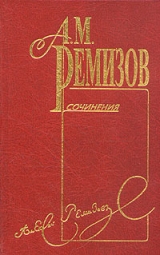
Текст книги "Том 2. Докука и балагурье"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
1
Жили-были две подруги, одна другой под стать, Анюшка и Варушка. Анюшка у матери жила, Варушка одна через три версты от Анюшки: родители у Варушки померли.
Дня друг без друга прожить не могли подруги: один день Варушка у Анюшки сидит, угощаются, на другой день Анюшка к Варушке пойдет, подругу почествовать. Так и гостились.
– Без тебя мне, Анюшка, свет не мил.
– От тебя, Варушка, никуда не пойду.
Станут подруги прощаться, стоят-стоят, насилу разойдутся. А назавтра опять сошлись: либо Анюшка к Варушке, либо Варушка к Анюшке. Так и жили.
– Без тебя, Анюшка, я жизни решусь.
– От тебя, Варушка, никуда не пойду.
Стали сватать Анюшку. Уперлась – в жизнь ни за кого не выйдет Анюшка, да мать настояла, старуха. И выдали замуж Анюшку за Андрея. Похорохорилась, пофыркала девка, а потом и свыклась: попался ей муж хороший, ладный.
2
Уехал Андрей в город. Осталась одна Анюшка. И задумала Анюшка подругу проведать: со свадьбы не видалась с Варушкой, соскучилась без подруги.
Вышла Анюша из дому, идет по дороге, а встречу ей девка с пирогом– именинами.
– Куда пошла, Анюшка?
– В гости к Варушке.
– Не ходи ты к Варушке, не будет ладу.
– Ну, вот еще, не впервой гостимся.
И пошла Анюшка дальше, а встречу ей баба с полосканьем: на речке белье полоскала, домой несет.
– Куда ты, Анюшка?
– В гости к Варушке.
– А не ходить бы тебе к Варушке, будет худо.
– Что ты! Мне ли от нее худо!
И пошла Анюшка дальше. Едет мужик с сеном.
– Куда ты, Анюшка?
– В гости к Варушке.
– Не ходи ты к Варушке, Варушка людей ест.
– Еще чего скажешь!
И пошла Анюшка дальше, дошла до Варушки. И видит Анюшка, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья, – глазам не верит Анюшка. Вошла на крыльцо, а тут рука лежит, – не хочет верить Анюшка. В сени зашла, а в сенях тулова да головы человечьи. Хочешь, не хочешь – поверишь.
– Иди, иди в избу! – отворила дверь, кричит ей Варушка, – не ходи, не ходи! – машет руками.
И зовет и не зовет подругу.
Не в толку́, не в уме вошла Анюшка в избу. Сидит Варушка под окном, – когда-то тут сиживали вместе подруги.
– Садись и ты, Анюшка! – а сама так смотрит… неладно.
И, как прежде, сидели под окном подруги. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели.
– Я, Варушка, домой пойду, – спохватилась Анюшка, – не по-старому ты, не по-прежнему что-то.
– Не ходи, Анюшка! – оставляет Варушка, а сама так смотрит… неладно.
И опять сидели подруги, как прежде. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели.
Поднялась Анюшка, хочет домой. Не хочет Варушка отпускать без ужина подругу.
– Поужинаешь, тогда и пойдешь! – собрала на стол Варушка, принесла рыбник, – рыбник из перстов состряпан человечьих, угощает пирогом подругу.
Анюшка рыбник не съела, за пазуху запихала. И не заметила Варушка.
– Что, съела рыбник?
– А там, у сердца, – показала Анюшка, будто все съела, и домой хочет, – прощай, Варушка.
А Варушка молчит, так смотрит…
– Отпусти меня, Варушка! – просит Анюшка: чует, неладно.
Молчит Варушка, так смотрит… неладно, а потом за руку как схватит Анюшку, за локоть и выше под мышку.
– Нет уж, пришла, так и будем вместе! – и начала ее есть, да всю, всю-то Анюшку и съела.
3
Ночью из города вернулся Андрей, хватился – нет жены. Послал к матери, нет ее и у матери.
– К Варушке ушла, – говорят Андрею, – видели! Всю ночь прождал Андрей, – не вернулась домой Анюшка. И чуть свет вышел Андрей и прямо к Варушке. Глядь, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья, на крыльце рука, в сени вошел, а там тулова да головы человечьи. Андрей назад домой, созвал старшин, объявил.
Народу сошлось все село, всем селом пошли к Варушке, кто с чем.
Окружил народ избу, приколотили железные рамы к окнам, забили дверь. А Варушка по горнице скачет, ой, как скачет! Поскакала там, поскакала и затихла. Посмотрели в окно, лежит, затихла. Тут натащили хворосту, принесли огня, подпалили хворост, – занялся огонь, да и сожгли избу.
1911 г.
Красная сосенка *Жил-был богатый мужик, и было у мужика три дочери: умные две, а третья дурочка. Собрался отец в город на ярмарку, старшие и говорят:
– Купи, – говорят, – тятя, нам по калошам.
– А мне купи сосенку! – дурочка просит.
Поехал отец в город, побывал на ярмарке, и вернулся домой с покупками, привез, что велели: старшим умным – калоши, младшей дурочке – сосенку. Сам смеется:
– Куда ты, – говорит, – ее денешь, печку топить?
А дурочка взяла сосенку, снесла сосенку на огород, там и посадила. Днюет и ночует дурочка около своего деревца. Сосенка растет, дурочка растет.
Износили умные сестры свои новые калоши, повесили осьметки на огороде воробьев да сорок пугать, а у дурочки сосенка выросла высокая, стройная, не простая: постучишься – дверка раскроется, в домик войдешь – сундуки стоят, в сундуках наряды – да такие, как у царицы самой. Только про это никто не знает, одна дурочка знает.
А жил неподалеку от деревни князь. Отец у него помер, и задумал князь жениться. Сколько стран, сколько государств он объехал, а нигде не мог найти себе по сердцу. И стал князь собирать народ со всех сел и со всех деревень:
«Авось, – думает, – найдется, придет ко мне моя суженая!»
Выпросились у отца умные сестры, разрядились идти на пир к князю.
– И меня возьмите! – дурочка просится.
– Куда тебе, народ пугать! – не взяли ее сестры, одни ушли.
Пошла дурочка на огород к своей сосенке, постучалась в сосенку – раскрылась дверка и очутилась дурочка в домике. Убралась там, оделась – узнать нельзя, царевна настоящая. А как вышла из домика и затворилась дверка, откуда ни возьмись тройка – заливаются, звенят колокольчики. Села дурочка и поехала на пир к князю.
Много красавиц собралось у князя на пиру, на вечере, и одна была всех краше – дурочка. Князь не отходил от нее, угощал ее, а выведать не мог, кто такая она. И никто не узнал дурочку, сестры не признали сестру, а сама о себе она никому не открыла.
Вот и придумал князь: как идти дурочке домой, велел он порог вишневым клеем вымазать, а сам пошел до сеней провожать. Ступила дурочка на порог, туфельку и оставила.
А на другой день пустились княжие слуги по деревням разузнавать, кто потерял туфельку у князя на вечере. Заехали и на дурочкин двор. Спросили умных сестер, дошла очередь спросить и дурочку – сидела дурочка на печке рваная, сажей испачканная.
– Твоя туфелька? – смеются ей княжие слуги, и сестры смеются и отец.
– Моя, – говорит дурочка, а сама с печки да на огород.
Обрядилась дурочка у своей сосенки, убралась, как царевна, вернулась в дом. И все диву дались: уж такая красавица – сосенка красная!
Тут приехал сам князь, свадьбу сыграли и стала дурочка княгинею, и стали они жить-поживать да добра наживать, князь молодой с княгинею.
1910 г.
Кумушка *Жила-была старушка Кондратьевна, смолоду была Кондратьевна приметлива да говорлива, а под старость, хоть глазом и ослабела, а еще зорче видела, и хоть один зуб торчит, а и сам говорун речистый не переговорит ее шамканья. И была у Кондратьевны кумушка, – с одной ложки ели и пили, подружка. Старые старухи на печи лежат, старые старухи охают, а подружки сойдутся вечерок посидеть, до петухов сидят, да и век бы сидеть, разговаривать.
Подружка кумушка и померла.
И осталась на свете жить одна Кондратьевна.
Богомольная была Кондратьевна, к службам очень любила ходить. Все приметит Кондратьевна, все высмотрит: и кто как стоит, и кто зевнет, и кто кашлянет, и на ком что наряд какой, – ничего не упустит старуха. А порассказать-то уж и некому, нет больше кумушки, да и самой послушать нечего, не заговорит больше кумушка.
Без кумушки скучно Кондратьевне, ляжет старуха на печку, время спать – не спится, и лежит так, тараканьи шкурки считает.
Лежит так Кондратьевна, шкурки тараканьи считает, не спится старухе, вспоминается кумушка. И слышит раз Кондратьевна, среди ночи звон в церкви гудит. Встала с печки да в церковь. А церковь – полна покойников: в саванах стоят покойники и все одинаковые, не видно лица, не разберешь, кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летось. И как ни всматривается Кондратьевна, – все одинаковые, стоят в своих саванах.
А кумушка знакомая, подружка Кондратьевны, сняла с себя саван и говорит:
– Нынче мы молимся, упокойники, а не вы, уходи, да чтобы не слышал никто, не сказывай!
Ушла домой Кондратьевна: не будет она мешать покойникам, еще чего доброго и съедят ее, всю-то схряпают вместе с косточками. И целый день крепко держала старуха свой полунощный зарок. Но когда среди ночи опять услышала звон, охота посмотреть покойников отогнала всякие страхи. Встала старуха с печки да скорее в церковь: кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летось, – все она высмотрит, до всего дойдет. И опять ее кумушка, подружка знакомая, уходить ей велела.
Три ночи кряду ходила Кондратьевна в церковь, три ночи прогоняла ее домой кумушка. На четвертую ночь Кондратьевна не услышала звону, на четвертую ночь у дверей стал покойник. Молча в саване стоял у дверей покойник, пугал Кондратьевну. И на следующую ночь опять у дверей стоял покойник, пугал Кондратьевну.
«Кто – Иван или Марья? Когда умерший – нынче или летось? Зачем пришел? Что ему надо?» – хочется старухе все разузнать, а как разузнаешь, – не говорит, помалкивает покойник, только пугает.
И домекнулась Кондратьевна. Еще засветло покрыла она стол скатертью, под стол петушка пустила, чтобы в полночь спел петушок, – мало ли что! – сама влезла на печку, легла ночи ждать.
Лежит Кондратьевна на печке, шкурки тараканьи считает, ждет ночи, ждет покойника.
И пришла ночь, стал ночью у дверей покойник. Увидела его Кондратьевна, да скорее с печки, манит к столу.
Уселся покойник за стол и говорит:
– Съем я тебя! И зачем ты повадилась ходить к нам в непоказанный час, терпенья нет моего! – да саван с себя долой.
Тут Кондратьевна так и ахнула: кумушка, подружка ее знакомая, кумушка сидела за столом.
А скатерть и говорит:
– Трут меня и моют и полощут, все терплю, а ты малости такой перетерпеть не могла! – говорит скатерть кумушке.
И запел петушок, и покойница отступилась.
1911 г.
Ворожея *Был такой царь заморский, строгий, за правду стоял, порядок наводил, – нарядчик. Какие были в его государстве воры, жулики, озорники и безобразники, – либо перевелись, либо в другие земли промышлять отошли. Царь был строгий и справедливый, – нарядчик.
Случилось, царь разболелся: и то прикладывают и другое, – из сил выбились, а нет пользы, ничего не помогает.
Вот царица царю и говорит:
– Есть, – говорит, – в нашем государстве, в заморском, старушка одна, ворожея живет. Вот если позвать ее, так она уж скажет, какая у тебя болезнь.
Царь послушал царицу, дал согласие. Пошли за старухой. Позвали старуху. И пришла к царю старуха, ворожея самая.
– Здравствуй, дитятко, ваше царское величество! – говорит старуха, а сама и глянуть на царя боится: очень уж все царя боялись.
Ласково поздоровался царь со старухой, выслал вон приближенных своих царских слуг, остался один со старухой.
– А что, – говорит, – бабушка, знаешь ты: смерть мне или житье будет?
Старуха ни жива, ни мертва.
– Что ж, скажи, бабушка!
А старуха царю:
– Где уж мне знать Господню тайность про это, – да в ноги царю, – станешь, дитятко, ворожить, коли нечего в рот положить
Жалко стало царю старуху.
– Коли не знаешь, бабушка, – сказал царь, – а спросят тебя, скажи: смерть будет царю. От смерти-то, бабушка, никому не уйти, правда?
– Правда, дитятко, правда.
Простилась старуха, пошла от царя.
Тут ее, старую, и затормошили, – все на старуху, все хотят знать, что будет царю.
– Что будет царю: житье или смерть? – все хотят знать. – Утром помрет! – одно твердила старуха, что велел ей сам царь говорить, и до утра, кто о ни спросил, всем и каждому это одно, о смерти, – утром помрет!
И до утра все повторяли за старухой про царя старухино царское слово:
– У гром помрет.
Наутро царь и помер.
И как узнали, что правда, царь помер: сбылось, значит, слово, – и вознесли старуху, да так, что на вековечный хлеб попала.
1910 г.
Сердечная *Много от слова бывает: словом можно, что хочешь, накликать, словом и беду прогоняют. Мудрым людям известно, когда сказать надо, когда промолчать лучше.
Помер муж у Лизаветы, осталась одна она, да шестеро ребят, с шестерыми-то одной куда нелегко, много горя натерпишься!
Ладно жила с мужем Лизавета и затоскнула крепко. День в заботах, на месте не посидит, а ночь придет, не спится, места от тоски не найдет.
И стал он к ней ночью ходить, колотиться в дверь.
И раз пришел и в другой пришел.
Пришел он в третий раз и давай в дверь колотиться.
– Отворяй, – вопит, – я иду ребят смотреть! – любил он детей: ему жалко ребят.
Слышит Лизавета, испугалась, – волосы на голове стали, – поднялась, отворила дверь в сени.
– Когда бросил, – говорит, – да покинул, тогда не жалел, а нынче нечего с тобой делать, не отворю!
А он стоит у дома под дверями, колотится, вопит.
До петухов держал мертвец у дверей Лизавету в сенях: от страха не могла она сойти с места, стояла в холодных сенях.
Наутро рассказала Лизавета людям, что ходит, беспокоит ее покойник, и кто б ни зашел ее проведать, – жалели Лизавету, сердечная, до нищих добра была, – прохожий ли, странник-калика, всякому рассказывала Лизавета, не таилась.
И всякий пожалел Лизавету. Всякий пожалел Лизавету, кому бы ни рассказала она.
И больше не стал мертвец ходить к Лизавете.
1912 г.
Отгадчица *Жил-был старик со старухой, и плохо пришлось старикам, так обедняли, что не стало у них и куска хлеба. Что тут делать? Вот старуха и надумала.
– Возьми, – говорит старику, – у соседа, сосед богатый, возьми, – говорит, – коров, загони их в свою пожню!
Старик согласный: что старуха, то и старик, – загнал старик соседских коров на свою пожню. А там хватились, у соседа, ищут коров, найти не могут.
Тут старуха выждала время, да к соседу.
– Что, – говорит, – сосед, не могу ли я в сей вечер твоих коров отворотить?
Обрадовался сосед.
– Ежели, – говорит, – бабушка, твоя сила будет, чем могу, тем и поблагодарю, только верни коров.
Карасьевна домой, за старика.
– Гони, – говорит, – старик, коров домой.
Старик согласный: что старуха, то и старик, – погнал старик коров к соседу. А сосед на радостях Карасьевне пуд муки.
И стал старик со старухой жить да поживать, и все было хорошо, пока не съели пуд соседский.
Кончилась мука, попали опять старики в бедность, опять пришла нужда. И опять пришлось старикам за старое взяться: тоже и с другим соседом проделали, загнали коров, потом старуха коров вернула и получила новый пуд.
Так хватовщи́ной и прокормились старики лето.
А слава о Карасьевне, о колдовской ее силе такая пошла, сам государь узнал.
Пропал у государя о ту пору самоцветный камень, и сколько его ни искали, найти нигде не могут, как в воду канул. И пришло государю на разум испытать Карасьевну: пускай отгадает старуха, кто унес его камень.
Едут за Карасьевной два царских лакея: Брюх и Хребет – они же и царский камень украли, только все шито-крыто. Едут лакеи, ведут разговоры.
– Вот что, Брюх, – говорит Хребет Брюху, – ежели старуха и вправду отгадать может, что мы у царя камень взяли, давай положим куриные яйца в сани, узнает старуха, стало быть, верно, колдунья.
– Что же, положим, – согласился Хребет.
Хотели лакеи испытать старухину силу. И сейчас же, как только в село въехали, не заходя в дом, достали куриных яиц, да тихонько в сани и сунули.
А Карасьевна, как увидела Хребта и Брюха, да узнала, что от самого государя лакеи, везти ее к государю посланы, перепугалась насмерть.
– Не поеду, – стоит старуха, – без старика не поеду, он тоже знает.
Им-то чего, со стариком ли, без старика, все едино, уложили котомки и в путь.
Уселся старик в сани, села старуха, прощается с домом – куда уж вернуться!
– Сесть, – говорит, – мне было, как курице на яйца. А лакеи так друг друга и подтолкнули.
– Эка, ведьма, зараз узнала! – и всю-то дорогу помалкивали оба: чем ближе к государю, тем страх больше.
И старик со старухой молчали: не вернуться им домой вовеки!
Ночью приехали старики ко дворцу. Отвели старикам комнату особую, велели спать. А Брюх с Хребтом под дверями уши навострили.
Ворочался старик, – нет сна, какой уж сон!
– Ой, ворона, – не вытерпел, сказал старик старухе, – залетела в высоки хоромы, что-то нам будет?
– Что будет брюху, то и хребту! – горько сказала старуха, горько ей было старой: хоть и в бедности жили, да не в беде, а тут крышка.
Как услышали Брюх с Хребтом старухины слова, так тут у дверей и присели.
– Отдать надо, отгадала злодейка, отдать надо! – да ползком, ползком в свою лакейскую каморку, да скорей за сундук, вынули из сундука камень и с камнем назад к старикам, стучат к старикам.
А старик со старухой со страху тычутся, дверь отыскать не могут, чуть живы от страху, насилу-то отворили.
Тут Брюх и Хребет старухе в ноги:
– Не говори на нас, бабушка, что он у нас хранился! – и подают старухе камень, да сто рублей денег.
Приняла Карасьевна камень и сто рублей денег и уж до самого утра так его в руках и держала, а старик стоял, ее застил: горел самоцветный камень, играл, как Божьи огни – звезды.
Наутро привели старуху к государю.
– Что, старуха, – спрашивает государь, – гадала?
– Гадала, батюшка, – говорит Карасьевна, – и отгадала, батюшка, где твой камень есть. В Москву унесен, через неделю достану.
И целую неделю жил старик со старухой во дворце у государя, целую неделю из комнаты никуда не отлучались, караулили старики камень: мало ли грех какой, не уследишь, стащут!
Через неделю повели старуху к государю, и отдала Карасьевна государю его самоцветный камень.
Удивился государь такой колдовской силе.
– Ну, – говорит, – бабушка, за такую службу мало тебе и царской награды! Здесь ты желаешь жить или в свою сторону назад едешь?
А Карасьевна едва дух переводит и пала в ноги государю:
Батюшка, где меня взял, отвези назад. отправил государь старика и старуху домой и наградил хлебом до самой их смерти.
1912 г.
Догадливая *1
Жил один человек бедный, много терпел, а все неудача: не везло ему ни в чем – да и только. И не то, чтобы там о каких-нибудь богатствах, об одном уж у него мысль: хоть как-нибудь да Бог дал бы день прожить. Был он семейный: жена, дети, – и жить бы ему с семьей дружно, да жить нечем. И чем дальше, тем нужда больше. И так ему плохо пришлось, что и кормиться нечем.
Вышел Прохор из дому, а куда идти – и сам не знает. А идти надо: без денег хоть и домой не возвращайся. А где достать денег, – так, с ветру, и копейка не валится. И стало ему горько.
«Хоть бы черт денег мне дал, уж я бы ему и душу продал, чтобы только ребят кормить!»
И только это он о черте подумал, черт и явился.
А, – говорит, – здорово, Иваныч! – а золотой у самого в лапе так и играет, – хочешь?
Как тут быть: не откажешься – деньги налицо, только бери.
– Что ж, давай! – протянул руку Прохор за золотым.
А черт и говорит:
– Ишь, какой! Ты, Иваныч, наперед мне дело одно сделай, а потом и деньги твои будут. Палец безымянный надо… ну, кро́вку из пальца выпустим, так чуть-чуть, ты мне условие подпиши, Иваныч, и готово.
– Ладно, – согласился Прохор.
И живо все это дело сделали, из безымянного пальца кровь выпустили, подписал Прохор черту условие, а черт Прохору – денег, золотой.
– За душой приду, прощай! – только хвостом и вильнул черт.
2
С золотым вернулся Прохор домой. И с той поры не переводились деньги, разжился, начал торговать, и пошла совсем другая жизнь. Забыл бедняк о всякой нужде, легко было жить, и не заметил он, как старость подошла.
И чем ближе к смерти, тем больше стал задумываться старик.
И то, что черту кровью условие подписал – душу ему, черному, продал, мучило старика, и еще то, что столько лет со старухой в дружбе да в любви живет и во всем в душу и все с ней в совете, а главного-то, откуда у него тогда золотой появился, не открыл он старухе, ничего старуха о условии его с чертом знать не знает.
Сидит так старик, голову повесил: черта ему страшно – грех мучит, да и перед старухой вину свою знает, а сказать тяжко.
– Что ты, старик, все задумываешься? – спрашивает старуха, – раньше-то нам думать было о чем, когда жили мы бедно, а теперь что нам думать!
А старик ей, молчал-молчал, да и говорит:
– Не знаешь ты, старуха, где я тогда золотой взял! Я черту душу продал.
Сказал старик, а сам пуще испугался: думал, что уж старуха так тут на месте от страха и кончится.
А старухе и горя мало.
– Нашел, чем горевать! А пускай только придет черт: уж если брать твою душу, так и мою должен взять, а мою не возьмет, так и твою не возьмет.
3
Легок черт на помине, черт стучится:
– Отпирай, Иваныч, я пришел!
А на старике лица нет, двинуться не может.
Пошла старуха, отперла дверь, впустила черта.
– Здорово! – так хвостом и виляет, – я за душой, Иваныч!
– Нет, ты и мою бери, – наступает старуха, – столько лет вместе жили, так не годится.
– А на кой мне твоя, бабья, я за ним пришел! Да много ль возьмешь за свою? – сам так и юлит: ему, черту, чем больше душ, тем лучше.
– Денег я не возьму, а справь ты мне три задачи: справишь – тебе обе души, не справишь – иди от нас подобру-поздорову.
– Еще чего! – подскочил черт: черт все может, ему на бабу стало обидно.
Ударили по рукам: справит черт три задачи – возьмет душу старика да и бабью даром в придачу, а не справит – ни одной не получит.
А старик ни жив, ни мертв: страшно ему за себя, страшно и за старуху, как бы старуха перед чертом не сплоховала.
Стала старуха посреди избы, да как чихнет:
– На́, – говорит, – има́й!
Черт ловит, ловил-ловил, не может нигде поймать.
– Ну, вот и не справил задачу, а еще черт! – подзадоривает старуха.
Бесится черт: черт все может, ему на бабу обидно.
Выдернула старуха из-под повойника волосинку.
– На тебе, выпрями волос!
Черт за волос, крутил, вертел, и вертел, и меж ладонями катал, выпрямить не может, да и разорвал.
– А еще черт! Ничего-то ты не можешь, – знай себе, дразнит старуха.
Пуще бесится черт: черт все может, ему на бабу страсть обидно.
– Вот у меня родимое пятно, – показывает черту старуха, – седьмой десяток на теле ношу, слижи, чтобы добела.
Черт лизать, лизал-лизал, стало языку больно, а пятнышко не сходит, только старухе локоть натер. И невмоготу уж старухе, терпела-терпела, да как дрыгнет ногой: у черта из глаз инда искры посыпались.
И отступился.
Отступился черт, да драла без оглядки, забыл и про души.
1912 г