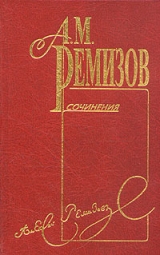
Текст книги "Том 2. Докука и балагурье"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 45 страниц)
Затеял один дошлый на Ивана-Купалу спрыг-траву искать – цвет купальский. Известно, сами морголютки неладные и те тогда ладно жить с тобой будут!
Вымылся он в бане, надел чистую рубаху, достал белый платок, да с платком, как стемнело, и пошел в лес. И в лесу там на поляне очертил три круга, разостлал под папоротником платок, присел, ждет, что будет.
Вот слышит, шум по лесу, треск, какие-то звери дерутся, а там стук, чего-то делают, и словно земля вся начинает кончаться, и вдруг набежал вихорь страшный – приблизилась полночь.
И ровно в полночь тихо папоротник расцвел, как звездочка.
И стали цветки на платок падать, и насыпало много, как звездочки.
Тут зря зевать не годится, завязал он цветы в узелок, но только что ступил, откуда ни возьмись медведи, начальство, саблями так и машут.
– Брось, – кричат, – а то голову долой!
И за руки хотят схватить.
И вдруг война началась, такая пошла резня – беда! Из пушек палят, раненые валятся.
– Из-за тебя проливаем кровь! Брось!
И появилась высокая каменная стена, и воткнуты в стене копья прямо перед глазами, того и гляди, выколют глаз. И стала земля проваливаться, и остался он на одной кочке. Все водой заливает – буря страшная, волны так и хлещут. Снег пошел.
Тонет народ, кричит, просят бросить цветок.
– А то, – кричат, – измаялись наши душеньки!
И вдруг, видит, запылала деревня, и дом свой видит, горит, и какие-то черные с крючками топочут вокруг.
– Не пускай! Не пускай его! Пускай горит!
А ветер так и воет, подкидывает бревна, несет головни, вся земля горит.
Не жив, не мертв, дрожкой дрожит, а держит узелок, не выпускает из рук – будь, что будет! А они, черные, уж так и этак стараются достать его: крючки закидывают, да не могут, – за кругом стоят.
И рассвело. Солнце взошло. Слава Богу, миновалось. Он и пошел из лесу, а лес зеленый, птицы поют – заслушаешься.
Шел, шел, – узелок в руке держит.
Вдруг слышит, позади кто-то едет. Оглянулся, – катит в красной рубахе и на него, налетел на него, да как жиганет со всего маху, узелок из рук и выпал.
Смотрит, – ночь, как была ночь. И нет ничего, один белый платок под папоротником лежит, а сам он, как есть мокрый: купальская росная была ночь.
1914 г.
Банные анчутки *Во всякой бане живет свой банник. Не поладишь, – кричит по-павлиньи. У банника есть дети – банные анчутки: сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка, а женятся они на кикиморах, и такие же сами проказы, что твои кикиморы.
Душа, девка бесстрашная, пошла ночью в баню.
– Я, – говорит, – в бане за ночь рубашку сошью и назад ворочусь.
В бане поставила она углей корчагу, а то шить ей не видно. Наскоро сметывает рубашку, от огоньков ей видно.
К полночи близко анчутки и вышли.
Смотрит, а они мохнатенькие, черненькие у корчаги уголья, у! – раздувают.
И бегают, и бегают.
А Душа шьет себе, ничего не боится.
Побоишься! Бегали, бегали, кругом обступили, да гвоздики ей в подол и ну вколачивать.
Гвоздик вколотит:
– Так. Не уйдешь!
Другой вколотит:
– Так. Не уйдешь!
– Наша, – шепчут ей, – Душа, наша, не уйдешь!
И видит Душа, что и вправду не уйти, не встать ей теперь, весь подол к полу прибит, да догадлива девка, начала с себя помаленьку рубаху спускать с сарафаном. А как спустила всю, да вон из бани с шитой рубахой и уж тут у порога так в снег и грохнулась.
Что говорить, любят анчутки проказить, а уж над девкой подыграть им всегда любо.
Выдавали Душу замуж. Истопили на девишник баню и пошли девки с невестой мыться, а анчутки – им своя забота, – они тут-как-тут, и ну бесить девок.
Девки-то из бани-то нагишем в сад и высыпали на дорогу и давай беситься: которая пляшет, да поет что есть голосу не-весть-что, которые друг на дружке верхом ездят, и визжат и хоркают по-меринячьи.
Едва смирили. Пришлось отпаивать парным молоком с медом. Думали, что девки белены объелись, смотрели, нигде не нашли. А это они, это анчутки ягатые, нащекота ли усы девкам!
Дурная молва пошла, перестали баню топить.
Приехал на ярмарку кум Бублов печник, сорвиголова, куда сама Душа! Вздумал с дороги попариться, его стращают, а ему чего – Бублов! – и пошел в баню.
Поддал, помотал веник в пару, хвать – с веника дождик льет, взглянул, а он в сосульках. Как бросит веник, да с полка хмыль из бани, прибежал в горницу.
– Ну, говорит, – теперь верю, что у вас за баня.
– Это тебе, кум, попритчилось, видно! – смеются.
Ну, при честном народе рассиживаться нагишом не очень годится, сходили в баню за Бубловой рубахой и штанами, принесли узелок. Развернули, а они все-то в лепетки изорваны. Так все и ахнули.
Вот, они какие, анчутки банные.
А малым ребятам они ничего не делают, и днем при них не скрываются, по своим делам ходят, как при своих, черненькие такие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка.
1914 г.
Нужда *Первое, видеть надо и все узнать… не узнаешь – не почувствуешь, не почувствуешь – не откликнешься, не откликнешься – не будешь свой, не будешь свой – изомрешь.
Рос царевич до всего вострый и чтобы все самому, задумал царство объездить, всю державу выведать – и кто как живет и кому чего надо, чтобы верою править и правдой судить.
Слушает, бывало, царь мальца, не натешится – и в кого такой зародился! – то-то горазд.
– Я, батюшка, все сам хочу знать! – скажет и смотрит, и так, ровно уголечки глаза горят: дай подрастет, будет первым царем, не пропадет с таким русское царство.
Отпускал царь царевича – сына, куда ему любо: пускай ездит один по белому свету. Только что Тимофей с ним, кучер.
Вот раз въезжает царевич на тройке в село под Москвою.
А морозило крепко и от мороза не только что люди, шавки и те попрятались все по конуркам, а от коней так пар и валит, и видит царевич, на краю дороги мужичонко дрова рубит, вот как резко рубит – лицо от морозу разгорается, а видно, не может согреться, уж очень одежонка-то худа.
– Бог помощь тебе, крещеный!
– А спасибо ж, царевич.
– В такую стужу ты рубишь?
– Не я, царевич, нужда рубит.
Царевич к Тимофею:
– А что, Тимофей, какая это нужда? Ты ее знаешь?
Усмехнулся во весь рот царский кучер, инда с бороды сосульки поскакали, а пар лошадиный пошел.
– Запамятовал что-то… Нам харчи сытные.
– Какая же это нужда? – соскочил царевич с саней да мужичонке, – где она у тебя, мне бы ее поглядеть!
– На что тебе, царевич, и не дай Бог с ней познаться!
– Нет, мне ее надо видеть!
А там в чистом поле на бугрине стояла со снегом былина.
– А вон, царевич, на бугрине стоит! Эвона как от ветру шатается.
– Веди нас, покажи.
– Можно, – положил мужичонко топор, прикрыл ветками.
Вот сели на тройку и поехали в чистое поле глядеть нужду. И скоро выехали на бугор, миновали былину, а за нею там дальше другая стоит.
– Где же нужда?
– А вон – вон за тою былиной… Только ехать нельзя: снег глубок.
Царевич соскочил с саней.
– Покарауль-ка, крещеный, пойду погляжу.
И пошел, ну и Тимофей за ним, – царская служба, – нельзя.
И полезли по снегу: былину пройдут, другая маячит, к другой подойдут.
Где же нужда?
А мужичонко стоял и стоял у саней, караулил. Иззяб, окоченел весь бедняга, ну, взял, да и выстегнул царскую тройку, сел, – только и видели.
Все по сугробу, да по сугробу, полазали вот как царевич с Тимофеем, и все попусту, нет нигде нужды, не оказывалась.
– Где, где она, эта нужда?
Уж смеркалось, пора было домой возвращаться, и повернули назад. Едва-едва на дорожку выбрались, хвать, а лошадушек и след простыл.
Эка беда! Что делать? И сани бросать не годится: за царское добро Тимофей в ответе.
– Впрягайся в корень, а я на пристяжку! – говорит царевич.
А Тимофей думает себе: так не годится.
– Так не годится, я простой человек, тебе царевич, в корень, а я на пристяжку.
Запряглись и поехали. Везут и везут, повезут и привстанут.
А тот мужичонко – не промах – поприпрятал лошадушек царских, да на дорогу, и пошел им навстречу.
– Чтой-то ты, царевич, санки на себе везешь?
А царевич из сил выбился, уж не смотрит.
– Уйди! Это нужда везет.
– Какая это нужда?
– Ступай, там вон в поле на бугрине!
А сам везет да везет.
Едва до села добрались. Тимофей на что крепок – царский ведь кучер! – и тот уморился. Слава Богу, наняли на селе лошадей. И приехали домой в Москву на троечке – на чужих.
Спрашивает царь:
– Чьи ж это лошади?
А царевич ему:
– Батюшка, я нужду увидел, лошадушек потерял!
Вот он какой – сам нужду увидел! А станет царем, будет первым царем, царь первый Петр.
1915 г.
Морока *1
Служил один солдатик двадцать пять лет царю верой и правдой, а царя в глаза не видал. Пришел срок, получил солдат отставку и пошел домой.
Выходит он из городу и раздумался:
«Что я за дурак за солдат, двадцать пять лет верой и правдой царю служил, царя не видал. Спросят про царя, что я скажу?» – взял да и повернул назад в город и прямо к царским палатам.
У ворот сторожа.
– Куда, земляк, идешь? – остановили.
– А вот, земляк, царя посмотреть: двадцать пять лет царю служил, царя в глаза не видал.
Доложили царю про солдата. И велел царь позвать солдата к царю на лицо.
– Здравствуй, земляк!
– Здравия желаю, ваше царское величество.
– Что тебе, земляк, нужно?
– Лицо ваше царское посмотреть: двадцать пять лет царю прослужил, царя не видал.
Царь посадил солдата на лавку.
– А что, – говорит, – солдатик, загану я тебе загадку: сколь, солдатик, свет велик?
– А не очень, ваше царское величество, свет велик: в двадцать четыре часа солнышко кругом обходит.
– Правда, солдат! А сколько от земли до неба высоты?
– Не очень, ваше царское величество, от земли до неба высоко: там стучат, здесь слышно.
– Ладно. А загану я тебе третью загадку: сколько морская глубина глубока?
– Ну, ваше царское величество, там неизвестно: был у нас дед семидесяти лет, ушел на тот свет, – и теперь его нет.
– Правда, солдат!
Понравились царю ответы, и дал царь солдату в награждение четвертной билет. Попрощался солдат, да прямо от царя в трактир.
Сутки погулял – десять золотых прогулял. Жалко стало солдату царской награды.
– Вот, – говорит трактирщику, – на тебе мой четвертной билет, я пойду тебе золота добывать.
И пошел солдат на базар, купил морковь, сделал десять золотых, и назад в трактир, подает трактирщику.
– Получайте!
Трактирщик золото принял, четвертную солдату отдал, а золото в шкатулку спрятал. Солдату тут бы и уйти с Богом, а он, нет, у трактирщика околачивается. Вздумал трактирщик проверить шкатулку, хвать, а там не золото, а кружки морковные. Трактирщик кружки в карман себе сунул да из трактира, в чем был, так и выскочил, да солдата за шиворот и прямо к царю, и приносит царю на солдата жалобу, что прогулял солдат десять золотых, а отдал десять морковных кружочков.
– Ваше царское величество, велите ему показать, чем я разделался!
Трактирщик и вынимает из кармана – ан не морковь, а золото – как золото из чекану.
– Видите, ваше царское величество.
Царю то уж больно понравилось, отпустил царь трактирщика в трактир и говорит солдату:
– Молодец-солдат, сядь-ка, побеседуй со мной.
2
Присел солдатик на лавку, ждет царской воли.
– Ну-ка, солдатик, пошути ты и надо мной шутку, да легоньку.
– Могу, ваше царское величество! – и просит царя на диван пересесть.
Послушался царь солдата, пересел на диван.
– А который будет час, ваше царское величество?
– Первый в начине, – сказал царь.
И вдруг дверь – у-у-ух! – полна палата воды: затопило царя на диване по шейку, – и ударился царь из палат своих бежать, а на дворе ему вплавь. Куда тут деться? Ухватился он за лестницу и ну карабкаться. И покрыла матушка-полая вода все леса темные. Сидит царь на конечке, захлебывается. Тут откуда ни возьмись лодка, – бряк в лодку. Поднялся ветер и унесло царя Бог знает куда.
Стала вода понемногу пропадать и пропала. И крепко захотелось царю поесть. Идет старуха, несет булочки.
– Пожалуй, бабушка, сюда, – говорит царь, – продай мне булочку.
– Ох, ваше царское величество, булочки-то больно жестки, ночевочки, нате подержите, я вам мяконьких принесу.
Царь у старухи взял булки, держит, думает себе:
«Слава Богу, хоть что-нибудь!» – очень проголодался. только что хотел отщипнуть кусочек, идет надзиратель Борисов.
– Чего, – говорит, – ты тут держишь?
– Булочки.
– Ну-ка, я посмотрю.
Царь разжал руку, глядь – человечьи головы.
Борисов его цоп – в часть.
До утра в части просидел, а там и суду предали, да в острог. И пока искали да разыскивали, натерпелся в остроге-то. И дознались, судили и засудили: приговорили к наказанию и навечно в каторгу.
«Ох, солдат, солдат, что надо мною сделал!»
Везут царя, а палач только усмехается.
И привезли на площадь, раздели, поставили. Взял палач двухвостный кнут…
– А, батюшки! – как закричит царь.
Тут вбежали в палату сторожа-приближенные, смотрят: сидит царь на диване, а против царя солдат на лавке.
– Ну, спасибо, солдат, пошутил ты надо мной хорошо!
– А посмотрите-ка, ваше царское величество, который час?
Царь-то думает, что времени с год прошло, а всего-то один час прошел.
И попрощался царь с солдатом, отпустил его на все четыре стороны.
3
Приходит солдат в деревню. У околицы народ стоит кучкой.
– Мир вашему стоянию, пустите ночевать!
– Пойдем ко мне, солдатик, – выискался старик.
Ну, и пошел солдат за стариком. Пришли в избу, дед и спрашивает:
– А не умеешь ли ты сказки сказывать?
– Можно, дедушка.
– Ну-ка, скажи.
– А что тебе одному сказывать, чай у тебя есть семейка?
– Есть, солдатик, два сына, две невестки.
– А вот и хорошо, когда придут в избу, все и послушают.
Сошлись сыновья и невестки, сели ужинать, поужинали, да и спать.
Лег дедушка с солдатом на полати.
– Ну-ка, солдатик, скажи сказку-то!
– Эх, дедушка, сказки-то я ведь не хорошими словами сказываю, а вон невестки сидят.
Старик перегнулся с полатей.
– Невестки, живо спать!
Невестки деда послушали, постельки постелили и спать легли.
– Ну, солдатик, скажи теперь! – уж очень деду хочется сказку послушать.
– А что я тебе скажу, дедушка! Посмотри-ка хорошенько, кто мы с тобой? Ты-то – медведь, да и я-то медведь.
Ощупался дед, пощупал солдата: так и есть – и сам-то медведь, и солдат-то медведь.
– Медведи, солдатик.
– То-то и оно-то, что медведи, дедушка, и нечего нам на полатях разлеживаться, надо в лес бежать.
– Известно, в лес! – согласился дед.
– А смотри, дедушка, в лес-то мы убежим, а там охотники нас и убьют. И если, дедушка, тебя наперед убьют, так я через тебя перекувырнусь, а если меня убьют, ты через меня кувыркайся, – будем оба живы.
Прибежали в лес, а охотнички тут-как-тут: грох в солдата – и убили. Дед стоит: что ему делать? бежать? – и его застрелят, и вспомнил, что перекувырнуться надо, перекрестился, да через солдата как махнет.
– А, батюшки! – закричал голосом старик. Невестки повскакали, огонь вздули, а дед на полу лежит врастяжку: эк, его угораздило!
– Хорошо еще Бог спас! с этакой высоты!
Поднял солдат деда на полати – больше не надо и сказок! – и до света ушел.
1914 г.
Клад *Лоха был большой любитель до всяких кладов, и был у Лохи товарищ Яков, тоже под стать Лохе. Оба частенько на Лыковой горе рылись, но ничего никогда не находили.
Клад – с зароком, и нередко такой зарок кладется: тот клад добудет, кто не выругается нехорошим словом, – а русскому человеку нешто удержаться? ну, клад и не дается!
Раз Лоха пошел за грибами на Лыкову гору, набрал груздей, спустился с горы, дошел до родничка и присел отдохнуть. А было это пред вечером, уморился Лоха с груздями, сидит так – хорошо ему у родничка, отдыхает.
И видит Лоха, товарищ его Яков с сухими лутошками едет.
– Куда, брат, едешь?
– Домой.
– Возьми меня!
– А садись на заднюю-то лошадь.
Яков на паре в разнопряжку ехал с двумя возами. Лоха повесил себе на шею лукошко с груздями, уселся, погоняет лошадку.
– Кум, – говорит Яков, – поедем ко мне горох есть. Василиса нынче варила. Уж такой, что твоя сметана.
– Поедем, кум.
Приехали к Якову, распрягли лошадей. Яков вперед в избу пошел, Лоха за ним.
Вошел Лоха в сени, двери-то в избу и не найти. Кричать – а никто голосу не подает. Вот он лукошко на землю поставил и стал шарить дверь. Бился, бился – нету двери. Начал молитву читать, а двери все нет, и молитва не помогает. Так руки и опустились.
И увидел Лоха вдали свет чуть пробивается, и будто в кузнице кузнецы куют. Поднял он с земли лукошко и пошел на свет.
Шел, шел, дошел до железной двери, отворил дверь – там длинный-предлинный подземный ход, а справа и слева очаги и наковальни, и кузнецы стоят.
Кузнецы большие, в белых, как кипень, одежах, и у каждого очага по три кузнеца: один дует мехами, другой раскаливает железо, третий кует.
Подошел Лоха к первым кузнецам – куют лошадиные подковы.
– Бог помочь вам, кузнечики.
Молчат.
Он к другим – шины куют.
– Бог помочь, кузнечики!
Молчат.
Он к третьим – куют гвозди.
– Бог помочь!
И эти молчат, только смотрят на него.
Ну, он дальше: дальше куют у каждого горна все разные вещи. Он уж ни с кем ни слова. И далеко прошел, уставать стал.
И вот откуда-то из побочного хода появился будто приказчик какой, распорядитель их главный, в кожаной одеже, сам смуглый, ловкий такой парень.
– Как ты, – говорит, – Лоха, попал сюда? Что тебе надо? Денег? Пойдем, я тебе их покажу.
– Нет, родимый, – Лохе уж не до денег, – ты меня лучше выпроводи отсюда, запутался я.
– Ну, вот еще! Я тебе наперед покажу, а потом и на дорогу выведу. Пойдем.
И пошел водить Лоху по разным ходам между кузнецами: то в тот переулок, то в другой, – так заводил, так замаял, могуты не стало.
– Бог с тобой, с твоими деньгами. Выпусти! – запросился Лоха.
– Сейчас! – да знай себе ведет, не остановится.
Наконец-то подвел к подвалу, повернул ключ в двери, отворил дверь – там лестница железная, весь подвал фонарями освещен и полн золота, серебра, меди, железа, стали и чугуна. И все, как жар, горит.
– Видишь, Лоха, богат-то я как! Хочешь золота, хочешь серебра? Бери сколько хочется.
– Да куда мне, родимый? Отпусти! Мне и взять-то не во что.
– Да вот голицу-то насыпай.
– Не донести мне.
– А ты от онуч веревки отвяжи, да и перевяжи рукавицу-то.
Лоха соблазнился: уж очень красно золото! – насыпал рукавицу золотом, а другую тот насыпал.
– Довольно, что ли?
– Спасибо, родимый. Дай тебе Бог здоровья на много лет.
– Ну, что там! Благодарить не за что. А ты вот что, ты с Яковом хлеба нам привези. Видел, сколько у меня работников, так их всех накормить изволь. Да, смотри, привези печеного, нам мукой-то не надо!
– Когда ж тебе, родимый?
– Да вот как первый урожай будет.
– Постараюсь, родимый.
– Не забудь же.
И повел, вывел его из подвалу да по коридорам, и к какой-то трещине. Тут и стал.
– Видишь, Лоха, свет?
– Вижу.
– Иди на него
Лоха и пошел на свет-то, и чувствует, что на воздух вышел.
Осмотрелся, – что за чудеса! – сидит он у родничка, где отдыхать сел, и лукошко его с груздями, как поставил, так и стоит. Взглянул под ноги, а у ног его голицы связанные, пощупал – деньги. Себе не верит, развязал малость, запустил руку – золото.
Темно было, чуть заря.
Поднялся Лоха, вытряхнул из лукошка грибы, положил в лукошко голицы с золотом, прикрыл травой и пошел себе по дороге. Да улицами-то не шел, а с заднего двора и прямо к себе в амбарушку.
Рассветало уж.
Вынул он из лукошка голицы, да не развязывая – в короб, короб на замок, и вошел в избу.
– Где это ты пропадал столько? – спрашивает жена.
– Да чего, в лесу заплутался.
– Все тебя, все село, три дня искали, думали, без вести пропал. Эко дело какое с тобой случилось!
Поговорили, поговорили, дали поесть. Сильно проголодался Лоха, поел всласть, да опять в амбарушку, лег там под коробом и заснул.
И видит он во сне, явился к нему тот самый приказчик, распорядитель кузнечный, и говорит:
«Ни, Боже мой, никому не говори, что ты у меня был и золота взял. Ежели откроешь, худо тебе будет!»
Но Лоха не только что говорить или кому показывать, а с опаски уж и сам, как положил голицы в короб, так хоть бы раз посмотрел, какое там у него в коробу золото лежит. В амбарушку пройдет понаведаться, короб осмотрит, да назад в избу.
И, должно быть, заметили люди, что Лоха в амбарушке что-то прячет, что-то таит, о чем-то помалкивает.
Раз пришел Лоха в амбарушку, хвать, а короба-то и нет, – украли!
Украли его короб, нет золота, нет его клада.
Кто же украл?
Никто, как Яков-кум.
Лоха и объявил подозрение на Якова. Стали Лоху допрашивать, где Лоха золотые взял, он и открылся – забыл наказ! – все рассказал и про кузнецов и про золото.
И вернулся Лоха домой с допроса, заглянул в амбарушку, постоял, потужил, пошел в избу – тоскливо ему было, прилег на постель, лежит – ой, тоскливо! И чувствует Лоха, ни рукой ему двинуть, ни ногой не пошевельнуть, хотел покликать, а язык и не ворочается.
Так и остался. А какой был-то! – одно слово, Лоха.
1914 г.








