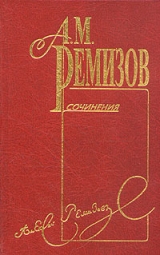
Текст книги "Том 2. Докука и балагурье"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 45 страниц)
Нелюбая *
1
Выйдет Сошка на двор – одна, ни души, – и ударит ей по́ сердцу.
С мужем неудовольствие было все: наговорят старики на невестку, не люба она им, в дом пускать к себе не хотели, нагородят невесть что, ну, и он к ней спиной.
Вспомнит Сошка обиду.
– Все равно пропадать – повешусь! Или ножом полоснуть?
А потом жалко станет, раздумается.
– Может, и ничего, поправится.
А тут во дворе-то, Дуняшка-кобыла, Жучка, Маруська – станет мило, погладит коров. Погладит, поплачет.
Поплачет – отойдет слезами. И в дом.
А какая Сошка желанная, какая умница, – цены ей нет. И за что это старик-то со старухой? В чем провинилась? Чем недовольны? – клещат и клещат. А и Сергей хорош! Всему верит.
Кот трется к Сошке, курлычет: от него, кота, Сошка только и видит ласку.
– Ой, Василий, один ты друг, колобун усатый! – погладит кота да за работу.
А какая Сошка работница, какая умница, – цены ей нет!
2
Приехали из гостей в чистый понедельник – от отца, от матери Сошки.
Вечером старика на сход кликнули, а старуха ненадолго вышла на беседу.
Сошка сидит у огонька, прядет.
После родимой Головлинки, дома родного, ой, как постыло!
Старуха вернулась и сама села прясть.
Ой, как постыло, нелюбой! А на сердце – ни слов, ни слез.
Подняла глаза Сошка – старуха прядет, муж спит, – у, постылые стены! И ударило по сердцу:
– Все равно!
Сошка засветила огонька да в сени… Отыскала веревку мочальную простую, наладила петлю, перекинула веревку через перемет, – петлю на шею. Приладилась. Захватилась руками за веревку…
Вдруг слышит старуха, невестка как блюет.
– Видно, пива напилась!
И опять слышит: что-то неладно. Стала старуха, засветила огонька, с огоньком в сени.
А муж дрыхнет, ничего-то не чует: это с блина так ему спится сладко, – хороши были блины в Головлинке!
– Ой, батюшки! Господи поми-лу-уй!
Старуха назад в избу, тычется от страха, да к сыну. Сергей догадался: неладно, – выскочил в сени. А там Сошка.
– Ох, шельма, что делаешь!
Стоит Сошка под переметом, петля на шее. Еще туже захватилась за веревку, – Сергей и рук ей разжать не может.
– Шельма!
Что делать? Скорее за перемет, жердь снял, – тут она веревку и отпустила.
И пала она помаленьку наземь, нелюбая, нелюбыми глазами к сырой земле: ей все равно.
Сергей ее за подпазушку и потащил в избу.
Старуха-то этакой беды от роду не слыхала: нынешний народ что делает.
– Ой, батюшки! Господи, помилуй!
Притащил Сергей чан с водой, сам побежал на сход за стариком.
Осталась одна старуха: зачерпнет кружку, приладится ленуть на Сошку, а та – той все равно – кружку-то рукой и оттолкнет к дверям.
– Да, что ты, дура, проливаешь воду-то?
Не понять старухе. Подымет она с полу кружку, зачерпнет и только что приноровится, а та опять – той все равно.
Билась, билась, старуха, бросила.
А Сошка лежит – не шевельнется, не скажет, – как мертвая.
– Ой, батюшки! Господи, помилуй!
3
Вот и бегут со схода: сотский, десятский и полицейский со стариком, да с Сергеем.
А Сошка лежит – не шевельнется, не скажет – как мертвая.
Постояли над ней, постояли. Ну, что они могут сделать?
– Сергей, – говорят, – поезжай за попом.
– Ой, батюшки! Господи, помилуй! – тыкалась старуха.
Сергей живо к попу.
– Хозяйка очень трудна.
Поп ехать не хочет.
– Пущай до утра. Помрет, похороню.
Так и вернулся.
А Сошка лежит – не шевельнется, не скажет – как мертвая.
– Чего ж ты не сказал, что из веревки вынули?
И погнали назад к попу.
– Батюшка, мы, ведь, ее из веревки вынули.
Ну, поп и поехал:
– Как ее зовут?
– Софьей.
Поп велел всем выйти: исповедать, значит, надо.
А как вышли и остался поп один с Сошкой – Сошка, как мертвая, – взял он ее за руку:
– Софья! Софья!
– Что, батюшка? – тихо отозвалась Сошка.
– Что ты это делаешь?
Сошка открыла глаза, приподняла голову: ничего незаметно, только на шее под горлом место красненькое.
– Невыносно!
Тихо она это сказала: «невыносно», – а и везде было слышно, и в сенях, и на дворе там – «невыносно»!
– Ой, батюшки! Господи, помилуй! – тыкалась старуха.
Сошка стонала.
Поп благословил и вышел. Велел Сергею за доктором ехать. А сам домой.
Пока что дали лошадям маленько перехватить, пока что, подошла полночь.
А Сошка опять лежит, как мертвая.
Собрался Сергей: пора ехать.
Вдруг она села.
– Не езди!
И так хорошо говорить стала, все просила не ездить: ночь, ведь! – словно с ней ничего и не случилось.
Сергей положил шапку: стало быть, не ехать!
И пошел лошадей распрягать.
А она на печку.
И больше ни слова.
Хотел было сотский ее расспросить, дознаться, – молчит.
– Ах, каналья, каналья!
Так и разошлись: сотский, десятский и полицейский.
И остался старик со старухой да муж, да на печке Сошка.
Все заснули, спят, не спит одна Сошка.
– Невыносно! – и красный знак на шее жжет.
Дошлая *
1
Пристала Анфиса к Синкриту:
– Уходи жену, а со мной обвенчаемся!
Анфисе полвека годов, вдовая, покойного мужа-то, сказывают, заколотила в гроб, баба дошлая.
Худо жил Синкрит с женою: Агафья и молодая, да после Машутки надорвалась, видно, таяла, как свечечка.
Синкрит и давно б уходил Агафью, да как такое дело обделать не сразумишься, а, главное Машутка: все смотрит – двенадцатый год девчонке – все понимает.
А Анфиса свое ладит:
– Уходи жену, а со мной обвенчаемся!
2
Вечером вышла Агафья в хлев задать корму корове. Девочка в доме за работу села.
На воле снежок шел.
Вот Синкрит, не будь глуп, взял веревку, да в хлев. Подкрался с веревкой к Агафье, да сзади на шею ей и набросил веревку. Дернул – петля есть! – и потащил.
Агафья не пикнула.
Выволок ее на двор – дело чистое.
Агафья не пикнула, ошеломило ее вдруг, да руки-то как-то сами под веревку: руки-то она под веревку и подложила.
Машутка вдруг слышит, на дворе мать кричит, ой, как кричит! Застучала там Машутка, в доме-то, Синкрит поскорей веревку с Агафьи и сдернул.
Машутка из избы на двор.
А мать ровно и не дышит, белая такая стала.
– Тятя, чего ты? Тятя, чего ты? – ухватилась девчонка за отца: поняла, от него это.
И сама, как мать, стала белая.
Притащили Агафью в избу.
Тут Машутка догадалась, да за снегом. На воле снежок шел. Принесла снегу и ну матери в рот класть и оттирать ее всю. Агафья вздыхать стала. А та трет ее и трет. И заговорила. За попом просит послать: худо ей.
А Анфиса тут-как-тут: она себе чует. И сейчас же мужика в аптеку погнала за лекарством.
Пришел поп, исповедывал Агафью: она ему все рассказала, и как мужик лаял и как давил.
– Мне, – говорит, – один конец, натерпелась, Машутку жалко, некому девчонку и напутствовать, мачеха-то забьет!
Поп причастил и ушел.
К ночи вернулся из аптеки Синкрит, привез лекарство. Там ему велели по капельке давать, а он налил полрюмки.
Поутру стали – Агафья умерла.
3
Всем распоряжалась Анфиса. Обрядили покойницу. Синкрит к попу.
– Вот что, Синкрит, знаю я, отчего она умерла. Ты ее давил!
А Синкрит ровно оглох.
– Надо похоронить.
– Не стану хоронить! – и выгнал поп мужика.
Что делать? Без попа похоронить невозможно. Перепугался Синкрит, кабы еще беды не было. А тут Машутка, смотрит девчонка, все понимает.
– Тятя, чего ты? Тятя, чего ты?
Да Анфиса-то не такая, у ней на все есть догадка, дошлая: погнала мужика в город к становому за похоронной.
Поехал Синкрит в город, добился до станового. Трое суток прошло, похоронную достал.
– Слава Богу, похоронная есть! – перекрестилась Анфиса.
Все по ее. Теперь с похоронной к попу, что скажет? – похоронную если принес, хоронить надо.
И похоронили Агафью.
А после Христова дня обвенчал поп Анфису с Синкритом.
Друг *
1
Ходил Василий в лесу за охотой, идет и слышит, в лесу шум. Стал подходить – тише и тише.
Медведь напал на разбойника и разбойник не может оборониться от медведя.
Василий прицелился в медведя и убил.
Разбойник высвободился, отряхнулся.
– Ах, голубчик, – говорит, – освободил ты меня от смерти, приходи завтрашний день на это самое место, я тебе за добро добром отплачу, да приводи друга, лучше которого у тебя нет на свете.
Вернулся Василий домой, рассказал старикам. У Василия отец, мать да жена – все и семейство.
– Посулил разбойник добра мне, только чтобы друга привел, которого на свете нет лучше.
Потолковали, потолковали, а не знают, кого посоветовать, и кто это друг самый лучший?
А жена и говорит:
– Да возьми меня, чего еще лучше? Верно, чего лучше, и толковать не стоило.
2
На другой день и пошли.
И приходят на то самое место, а разбойника нет.
– Обманул, видно, разбойник. Разбойник и есть!
А подождать все-таки не мешает. Мало ли, и разбойник, а тоже дела, дела, может, задержали разбойные. Покончит и явится.
Сели они на поляне. Распарило теплом. Он ей голову на колени и заснул.
Приходит разбойник.
Посмотрел разбойник на Василия, посмотрел на Дуню.
– Не понимаю, – говорит, – и что за охота с таким худым жить? Ты выйди за меня замуж, будешь у меня барыней!
А сам смотрит – волоём, здоровущий парень.
– А куда я мужика-то деваю? – оскалилась Дуня.
– А на, возьми мою саблю, отруби ему голову.
Дуня взяла у разбойника саблю, размахнулась, а разбойник в ту минуту ружье подставил, она саблей и ударила о ружье.
Ружье сбрякало, Василий проснулся.
– Вчера ты меня от смерти спас, а сегодня я тебя! – сказал разбойник.
А Василий спросонья ничего не разберет: видит, сабля валяется, и Дуня перепуганная.
Разбойник все ему и рассказал.
– Я же тебе говорил, приводи самого лучшего друга. Ну, привел бы собаку! Собаку вдруг не прикормишь, она б зачуяла и залаяла, ты бы и проснулся.
Толокно *
1
Жил один мужик, степенный Павел Андреич, первый охотник. Одно горе, с глушинкой. Все за охотой: не зайца, перо приносил – добычу. Кормил жену тетерками да рябцами.
А жена Анисья, баба молодая, веселуха. Болтали про Анисью, непутно говорили, что при муже тихоня, а за глазами ветер.
Дошло до Павла, – что ему делать? Конечно, надо проверить: мало ли чего ни наскажут и так, здорово живешь, и по злобе.
«Не страшен зверь, от человека жди лиха. Скорей зверь дрогнет, человек не поведет усом!» – про это хорошо знал Павел, первый охотник.
Ходил Павел в лесу, все думал.
И как бы это так ему дознаться, чтобы своими глазами увидеть, правду о жене говорят люди или зря?
Попало ему в лесу дупло большое.
«Стой, – думает, – дай замечу, это мне кстати!»
Заметил дупло и домой.
А Анисья ластится.
– Что, муженек, много ль настрелял?
– Чего настрелял? Не в этом дело. А вот нашел я дупло, в дупле дуплянское чудо. Что тебе хочется, все исполнит.
– А где это, Павел, чудо?
– А как выйдешь в лес, так на левую руку за орешней, там и будет дупло, там это и есть. Подойди к дуплу, да попроси, да поусердней проси. Что тебе надо, все исполнит.
Ничего не сказала Анисья. Тихая такая стала, рано и спать легла. Или головушка болит?
2
Спозаранку поднялась Анисья, да к двери.
Смекнул Павел.
А указал ей давеча Павел дорогу к дуплу кривлем, и как только Анисья за дверь и он за ней, да прямиком. Живо до дупла добежал и в дупло.
Сидит в дупле, ждет.
Пришла Анисья. Стала на колени.
– Баба я молодая. Ну, какое житье мне с псом моим окаянным? День-деньской на охоте. А вернется, дрыхнет. Позовешь, не слышит, тронешь, не шевельнется. Баба я молодая… Дуплянское чудо, ты слышишь?
А Павел ей из дупла толстым голосом:
– Чего тебе надо, все сделаю.
– Глухой у меня пёс, ослепи его, будь милосердный! – и до трех раз кричала Анисья, стучала головой о корневище: – ослепи! ослепи! ослепи его!
– Ступай, баба, с миром. Затопи печку. Пеки оладьи да мажь помасленее. Твой муж ослепнет. Через трое суток с масла совсем слепой будет.
Поклонилась дуплу Анисья: не узнать – как повеселела!
Тут тихонько выскочил Павел да прямиком и поспел домой до жены.
Степенный был мужик Павел, рассудительный, первый охотник, а тут и без масла ровно ослеп. Или не слышал, на что пеняла Анисья?
Вернулась Анисья.
– Где, жена, пропадала?
– У соседки.
И не может скрыться, так вся и пышет. Затопила Анисья печку, стала печь оладьи. И давай поливать их маслом, да Павлу этакую миску.
– Кушай, муженек, на здоровье!
Павел и ну уписывать.
– Что-то у меня, жена, глаза стягивает.
А Анисья схватила масла и еще прибавила.
– Ешь, ешь масленее. Ходил в лесу, устал. Поешь, отдохнешь и все пройдет.
Сама, знай, прибавляет масла.
Съел еще Павел оладьев – все лицо в масле.
– Что-то, жена, совсем плохо вижу: двоится.
Степенный был мужик Павел, рассудительный, первый охотник, а тут ровно и вправду со сладкого масла ослеп. Или не слышал, на что пеняла Анисья, не чуял, с чего сама, как оладья, пышет?
И на другой день тоже, опять оладьи. И на третий оладьи, да все жирно, да с маслом.
На третий день ослепнет Павел.
Ждет не дождется Анисья, зарумянилась вся.
– Ну, Анисья, я теперь ничего не вижу.
Поверила Анисья.
– Чего ты говоришь?
– Ой, ничего-то не вижу. Будешь ли ты меня поить-кормить, слепого?
– Буду, буду, не беспокойся. Вот как буду!
Уж как рада Анисья.
Да и, в самом деле, она будет ходить за Павлом. Бог с ним, только б воля. А теперь ей воля: не слышит Павел и вот не видит – ослеп.
3
Прибралась Анисья, умылась.
В избе выметено, вычищено – чисто, любо взглянуть.
И до чего это воля человека красит!
Сбегала Анисья к дружку. Привела дружка, усадила за стол: полон стол угощенья.
– Кушай, Саша, кушай, голубчик!
Ну, тот всего попробовал.
– Еще чего не хочешь ли?
А дружок и говорит Анисье:
– Всем я доволен. А хочется мне толокна, замеси, пожалуйста, я закушу.
Анисья проворно за толокно: сейчас и готово.
– Маслица бы немножко!
– Нет, нет, что ты! От масла ослепнешь: мой-то от масла ослеп. Погоди, я тебя послаще угощу.
Был на деревне кабак. Анисья в кабак и побежала: угостит она дружка послаще.
А Павел лежит на печке, ружье около – ив гроб завещал ружье с собой положить. И как вышла Анисья, он за ружье, да в дружка – хорошо стрелял Павел, первый охотник – так дружка на месте и уложил. Сам соскочил с печки, закатал такой вот ком толокна, напихал ему полон рот, да опять на печку. И лежит, как ни в чем не бывало.
Вернулась из кабака Анисья, а дружок – полон рот толокна. Позвала не слышит, тронула и не дрыгнет.
Вот тебе толокно какое!
Проклянутая *
1
Богатый жил мельник Рябов – мельница в трех верстах от деревни. И был у мельника сын, парень на все руки, балалаешник. Раз ввечеру посылает мельник сына.
– Поди, – говорит, – Саша, сходи-ка на мельницу.
Забрал Александр балалайку и пошел. И там засыпал молотье, а сам в избушку, сел на лавку да за балалайку. Сидит себе, играет и не заметил, как подошла полночь. А в полночь будто ветер – полосой прошел по избе ветер. Поднял глаза, глядь – пляшет…
Залюбовался Александр – этакая красавица, – и звончее пустил плясовую.
Плясала – подымала руки – плыла, заплывала, а то, как волчок.
– Как звать тебя? – крикнул Александр.
Та засмеялась:
– Настасьей!
Да на него, что метелица, вот-вот вышибет балалайку, так и кружит, и кружит.
Александр протянул руку – дай ухвачу – да носом в пол и ткнулся.
И нет в избе никого.
Ночь. Вода гремит на плотине.
Александр положил балалайку и до утра просидел в избушке, все прислушивался, ждал: не придет ли?
Нет, вода гремит на плотине.
Вернулся Александр домой, думает:
«Возьму молотья на две ночи, доберусь, так не выпущу».
А отец и говорит:
– Что ты, милый сын, не женишься, пора бы.
– А вот дайте, невесту выберу.
– Где же, сынок, выбирать-то будешь?
– Да у нас же, на мельнице.
Ничего старик не сказал: балагур и смехун Александр, на всю деревню славился.
К ночи пошел Александр на мельницу, засыпал восемь мер молотья, да в избушку и опять за балалайку.
И в полночь опять ровно бы ветром, – и заходила изба.
Настасья плясала еще пуще, еще краше.
Александр положил балалайку, привстал: ну, сейчас так и схватит. А она у него из-под рук – и нет никого.
Ночь – ой, какая это долгая ночь! – шум, гремит вода на плотине.
– Ну, ладно ж, теперь не уйдешь.
И решил Александр: очень-то не разбавляться, а как явится, так прямо и хватать.
На третью ночь так и сделал.
В полночь на звон балалайки появилась Настасья, зашла в середку, он балалайку об пол, тут и попалась.
– Ну, никому не отдам. А она:
– Умел схватить, умей и замуж взять.
– А где ты живешь?
– Ты скажи своему отцу: я нашел себе на мельнице невесту.
– Дом твой?
– В плотине.
Александр разжал было руки. Да опомнился: нет, другой ему никакой не надо.
– Будут к тебе на свадьбу проситься, отец твой богатый, всякому любо попировать на твоей свадьбе, но поедет вас трое, ты, крестный да кучер, а больше никто не поедет. Да закажи попу, чтобы встретил на полудороге с крестом. Да купи ты себе тройку вороных жеребцов – с места, что есть прыти, бежали бы. Любишь меня?
У Александра дух захватило: да кого же еще?
– Прок-ля-нутую?
Рванулась, – и нет никого.
Ночь. Вода гремит на плотине.
Не дождался Александр рассвета, и без балалайки домой.
2
– Я нашел себе невесту, – сказал Александр отцу.
– Где, сынок, нашел, чья?
– Проклянутая, – рассмеялся Александр, – в нашей плотине.
Старик глаза вытаращил: нет, не шутит.
– В нашей плотине. И другой никакой мне не надо.
Купил Александр тройку вороных жеребцов, съездил к попу, заказал, чтобы встретил на полдороге с крестом, как поедут к венцу, – погост от деревни за двадцать пять верст. И стал с отцом пиво варить да вино курить.
Все готово. Рябов дом громок. Вся родня, все соседи явились на свадьбу. Допьяна напились гости. Пора по невесту.
– Да где ж у тебя невеста?
– Моя невеста – в плотине.
– В плотине?..
Ну, кто говорит, что спать захотел, кто – простынуть, мол, выйду, кто чего – куда хмель! – и как ветром, все разошлись. Пусто в доме. Один крестный остался да кучер.
А уж ночь на дворе.
Кони рвутся, гульлят колокольцы.
Благословил отец сына, сел Александр с крестным, – только пыль заклубилась.
Вот и мельница. Вода гремит на плотине. Остановил коней кучер.
– Эй, невеста, – кричит Александр, – твой жених готов.
Ночь – ой, какая ночь! – шум, гремит вода на плотине.
И вышла Настасья. А за ней три сундука тащат.
Сундуки на скамейку. Уселись. Кучер хлестнул лошадей.
А вдогонку вихорь с громом – пыль пылит.
– Ты не забыл?
– Кони видишь.
– На полупути?..
– Будет, будет.
Полпути. Гром громнее. Свист и вой. Пыль глаза заслепляет. Небо горит.
А попа все нет.
Кони станут. Пропадет надежда. Не гульлят колокольцы, плачут.
А попа задержали. Слышит, колокольцы плачут. Схватился да бежать. И поспел. Три раза обежал тройку с крестом.
Ночь – какая ночь! – кони – вихорь, колокольцы гульлят.
– Ну, счастливо, – перекрестилась Настасья, – не поспей поп к часу, не видать нам света.
3
Обвенчал поп молодых, зовет чай пить.
Настасья к попадье. Втащили сундуки. Раскрыла. Выбирает Настасья себе платье нарядиться. Выбрать не может. Попадья тут же, заглянула в сундук – глазам не верит. Схватила из сундука полотенце, схватила другое – Господи! – да к попу.
– Отец, наша дочка нашлась. Поп затряс головою.
– Наша дочка нашлась.
– Не пойму.
– Настя! Настя!..
А была у них дочка, в сердцах прокляла ее мать еще в люльке, а как подросла, ушла с девчонками купаться и пропала.
Бросился поп с попадьей к Настасье.
– Прости ты нас, мать, отца: не со зла, в сердцах.
А она – одно щедрое счастье: ей мало простить, все забудет и одарит – проклянутая и любимая.
И стали они жить-поживать, да добра наживать.
Хитрая *
1
Рассердился староста на дьякона: староста Чижов не дай Бог – чуть что, не поглядит, что храм Божий, при всех выговорит. Вот и с дьяконом Дамаском вышло: проштрафился дьякон на паремиях – забрал больно высоко и на всеобщий соблазн кончил, совсем как петух. Чижов и не вытерпел, да тут же и ляпнул при всем честном народе. Хуже того, воспретил дьякону на вечные времена паремии читать.
В позорище выстоял Дамаск всенощную и уж как ночь провел, один Бог знает, и обедню служил, ничего не помнит.
По обедне пошел Дамаск с повинной к старосте: ведь, старался для благолепия и торжества, но что поделать, такой уж грех, – не соразмерил, и если другим смех и соблазн, ему пущее горе, и больше никогда он не допустит такого, попридержится, вниз возьмет.
– А хочешь вину с себя снять, – сказал староста, – научи медведя грамоте! Вот тебе и повинная.
Вернулся Дамаск домой к дьяконице.
– Или в вине ходить до второго пришествия или медведя грамоте выучи!
Плачет.
А дьяконица не такая.
– Чего ты! Медведя? Да давай мне только медведя, эка!
Обрадовался Дамаск и скорее назад к Чижову: ведь, всю жизнь на паремиях положил.
– Согласен, давай медведя!
Усмехнулся староста – чудное дело! – велел выдать дьякону медведя.
И повел дьякон зверя, Господи помилуй! от страха читает.
– Александра Петровна, вот тебе, принимай!
2
Если и человека, чтобы приучить, надо хлебом обязательно, а зверя и подавно. Дьяконица так и сделала, хлебом Мишу потчевала и привык медведь, перестал фурчать на дьяконицу, а по дьяконице и на дьякона.
И как стал Миша в доме свой человек, тут его за книгу дьяконица и засадила. Напечет блинов, между листами переложит, даст Мише книгу, а он блины ищет, листы перебирает, мормкочет.
– Ну, как настоящий профессор, – потеха!
И за какую неделю медведь с книгою, как в лесу с медом, управлялся.
– Вот тебе, дьякон, и вся хитрость.
Дамаск Александре Петровне в ноги: еще бы, теперь-то уж помилуют, станет он по-прежнему под большие праздники паремии читать, заберет верха – на всю церковь.
3
В субботу Дамаск служил всенощную. Словно после долгой болезни или после поста на страстях так истово служил дьякон и молебно: сердце его было полно радостных ожиданий. И уж как ночь провел, один Бог знает, едва утра дождался, и как служил обедню, ничего не помнит.
По обедне пошел Дамаск к старосте, медведя повел.
– Медведь читает, как профессор!
Усмехнулся староста – чудное дело! – положил перед зверем книгу.
А Миша у дьяконицы-то привык к блинам, и сейчас же за книгу, да лапой и ну перелистывать, блинов искать.
– Мор, мор, мор, – мормкочет.
Ай, да дьякон, ну, и медведь!
– Сущий профессор! – гоготал Чижов, отгоготаться не может.
А медведь, знай, ищет, листы перебирает, на своем языке мормкочет.
И не только снял староста вину с Дамаска: читай паремии, хоть всякую субботу, и сколько влезет! – а и наградил за потеху.
Да и гости, кто случился у старосты после обедни за чаем из прихожан знатных, дьякона так не пустили.
И пошел Дамаск домой к дьяконице: рожа во – сияет!
Скажет дьякон спасибо Александре Петровне: с такой ничего не страшно, с такой не погибнешь на сем белом и горьком свете.








