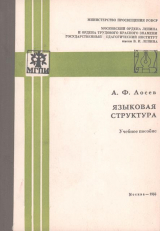
Текст книги "Языковая структура"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
§ 8. Структура предложения
Структура предложения и участие в предложении его членов тоже имеет единственным назначением только быть орудием общения, то есть выбирать из действительности то, что нужно для данного сообщения.
Само предложение тоже не есть только объективная предметность и не просто отражение действительности, а всегда и обязательно ее интерпретация.
Сказать, что предложение по самой своей сущности есть только отражение действительности значит признать, что все решительно предложения всегда истинны и что предложение, выражающее любую глупость, есть тоже отражение действительности. На самом же деле такие предложения, как «данный квадрат имеет круглую форму» или «этот кусок железа деревянный», вовсе не отражают никакой действительности. И тем не менее это – самые настоящие предложения. «Юпитер гневается» есть совершенно правильное с грамматической точки зрения предложение как для тех, кто верует в Юпитера, так и для тех, кто в него не верует. Как же можно после этого говорить, что грамматическое предложение есть всегда только отражение действительности?
При таком понимании предложения выступает во всю свою величину метафизическое овеществление предложения, когда оно вместо орудия общения трактуется как образ и кусок самой же действительности. В самом лучшем случае отражением действительности можно было бы считать не язык, а мышление, хотя и такая концепция была бы тоже слишком большим упрощением всей проблемы. Но считать язык только отражением действительности и находить в этом его специфику, – это значит не только отрицать возможность лжи и также заблуждения (потому что в таком случае все предложения необходимо было бы считать истинными), но и не признавать языка как орудия общения. Не отражение действительности, как она есть сама по себе, а понимание ее с той или иной точки зрения и сообщение этого понимания другому сознанию – вот что такое язык. И предложение как своеобразная единица речи тоже есть известное понимание и известное сообщение действительности.
§ 9. Разделение предложений
Разделение предложений на повествовательные, вопросительные, восклицательные и побудительные тоже может иметь смысл только в том случае, если предложения рассматриваются коммуникативно.
Именно вопросительные, например, предложения – вовсе не те, которые выражают собой реальную постановку вопроса, а те, которые выражают что бы то ни было (пусть это будет вопрос или не вопрос) в виде вопроса. Риторический вопрос вовсе не есть вопрос в объективном смысле слова, а вполне повествовательное предложение. И, следовательно, вопросительность здесь имеет значение только способа преподнесения того или иного утверждения, то есть преследует цель сообщить о данном предмете другому сознанию и притом сообщить в определенном виде. С другой стороны, любой вопрос в объективном смысле слова может быть выражен грамматически как повествование. Таков так называемый косвенный вопрос.
Побудительные предложения тоже вовсе не те, которые обязательно выражают побуждение в буквальном и непосредственном смысле слова. Если бы это было так, то в поговорке «не в свои сани не садись» мы бы находили какое-то побуждение избегать чужие сани. На самом же деле ни о каких санях, ни о своих, ни о чужих, нет здесь и помину; и «не садись» – едва ли тут императив. Во всяком случае это какая-то сложная модальность и очень сложный комплекс разного рода смысловых тенденций. Еще сложнее такой пример скрытого побуждения, как «обжегшийся на молоке, на воду дует». Можно подумать, что в данном случае дуют на какую-то воду. На самом же деле тут не только нет никакого отношения человека к воде, но даже и нет речи о какой-нибудь воде вообще. «Дует» формально есть, конечно, индикатив. Но мы уже много раз говорили, что и всякая грамматическая категория, и в частности индикатив, отнюдь не есть в языке непосредственное отражение объективной действительности, но – всегда та или иная переделка ее сознанием. И если захотеть раскрыть подлинный предметный смысл этого индикатива «дует», то в данном случае получится не только не индикатив, но нечто такое сложное, что даже трудно описать в кратких словах. Это – какая-то очень сложная модальность, которая выражена в басенно-аллегорической форме и которая обозначает неправильное отыскание причины данного явления, сваливание вины с одного предмета на другой и какую-то обычность, трафаретность подобного сваливания и его своеобразную необходимость, и наставительно-ироническое, снисходительное отношение к подобного рода людским поступкам.
В предложении «Приди он вовремя, он бы меня застал» глагол «приди» надо было бы всерьез считать императивом, в то время как об императиве, если иметь в виду сущность данного высказывания, здесь нет никакого намека, а глагол «приди» имеет лишь условное значение. Да и, кроме того, «приди» не обязательно глагол, если подходить к нему не грамматически и интерпретативно, но предметно и с точки зрения объективной действительности (ведь предметно оно тут значит «в случае его прихода»). Таким образом, побудительное предложение есть тоже не что иное, как форма выражения, то есть как форма сообщения, но оно вовсе не есть форма и прямое отражение самой предметной действительности. Точно так же объективно и данный императив очень часто выражается при помощи условной возможности. В предложении «ты бы помолчал» в предметном смысле имеется в виду пожелание или побуждение, чтобы кто-нибудь молчал; в выразительном же смысле, то есть в смысле характера выражения, здесь употребляем глагол в сослагательном наклонении. И это делается, конечно, неспроста, как и вообще всякая коммуникативная предметность всегда содержит те или иные оттенки и ту или иную смысловую специфику в сравнении с объективной предметностью.
Следовательно, всякая классификация предложений есть классификация не областей самой действительности и не сфера отражения ее в мышлении, а классификация предложений как орудий общения, то есть как способов переработки того или другого предмета для сообщения его другому сознанию в определенном смысле и с определенными оттенками и акцентами.
§ 10. Члены предложения
Определение самого подлежащего и сказуемого в предложении также подчиняется общему интерпретативному характеру всякой грамматической категории. И господствующие здесь определения тоже, большей частью, не достигают своей цели, ввиду игнорирования этого основного характера всякой грамматической категории и языка вообще.
Недостаточное определение подлежащего и сказуемого дают те, которые определяют подлежащее как субъект действия и сказуемое как само действие. Типичен в этом отношении А.М. Пешковский:
Прежде всего, подлежащее вовсе не всегда обозначает действующий предмет. В предложении «я сплю» подлежащее не указывает ровно ни на какое действие. Конечно, в предложении «я пишу письмо» подлежащее «я» указывает на субъект действия, а дополнение «письмо» указывает на результат этого действия. Но в предложении «письмо пишется мною» подлежащее вовсе не выражает субъекта действия, но выражает его объект, субъект же действия выражен здесь дополнением, а вовсе не подлежащим.
Все подобного рода определения игнорируют как раз грамматическую сущность подлежащего и сказуемого, то есть Пешковский рассматривает их не как грамматические, но как онтологические или логические категории.
Близко подошел к истине А.А. Шахматов:
«Подлежащее является грамматически господствующим над главным членом зависимого от него состава (сказуемым), а также и над словами, входящими в состав общего с ним (подлежащим) грамматического единства… Сказуемое является грамматически господствующим над словами одного с ним грамматического единства, но грамматически зависимым от подлежащего, принадлежащего другому грамматическому единству»[220]220
Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – М., 1941, с. 158.
[Закрыть].
Это определение подлежащего и сказуемого было бы прекрасным, если бы автор вскрыл то, что он понимает под терминами «грамматический» и «господствующий». Вполне определенно заметна тенденция у А.А. Шахматова понимать подлежащее и сказуемое именно грамматически: но что такое здесь «грамматически», неизвестно.
Мы исходим из того, что язык есть орудие общения и, в частности, орудие развития и борьбы, и в этой коммуникативной функции мышления, в этих интерпретирующих его актах мы и находим сущность грамматического. Поэтому и подлежащее вместе со сказуемым и со всеми другими членами предложения есть ни что иное, как орудие общения; и в коммуникативной природе всякого члена предложения и заключается весь его смысл и все его назначение. С этой точки зрения подлежащее не есть ни предмет изображения или высказывания, ни субъект действия, а решительно все, что угодно (то есть и предмет высказывания, и не предмет высказывания, и субъект действия, и не субъект действия), но понимаемое и сообщаемое как предмет высказывания или как субъект действия.
В предложении «собака лает» важно вовсе не то, что подлежащее и сказуемое отражают фактическую действительность и что собака действительно лает. Это предложение может иметь место в каком-нибудь фантастическом рассказе, и тогда ни о каком реальном собачьем лае не будет и помину. Это предложение может иметь и переносный смысл, вроде того, как говорится: «собака лает – ветер носит». Очевидно, ни о каком реальном собачьем лае в этой поговорке нет ни слова. Наконец, пишущий или произносящий это предложение может попросту лгать и говорить о собачьем лае в тот момент, когда никакая собака не лает. Следовательно, сущность подлежащего и сказуемого в предложении вовсе не в том, что они являются буквальным воспроизведением действительности. Однако подобное предложение во всяком случае свидетельствует о том, что пишущий или говорящий имеет в виду сообщить о собачьем лае, независимо от того, лает ли фактически в данный момент собака, или не лает. Данное предложение организовано так, как будто бы действительно собака в данный момент лаяла. Для человеческого сознания, которому необходимо общение с другим человеческим сознанием, надо иметь это орудие общения, то есть уметь направить образ действительности в ту или иную сторону, осветить его с той или иной точки зрения, переработать его для тех или иных целей. Это не есть только акт объективного отражения самой объективной действительности, но это есть акт определенной обработки этого образа с целью преподнесения его в том или ином свете другому сознанию, будь то в истинном свете, будь то ограниченно и односторонне, будь то в ложном свете для целей искажения действительности, будь то в переносном или поэтическом смысле. Все это есть формы общения одного человеческого сознания с другим, и если рассматривать подлежащее и сказуемое как грамматические категории, то они и выступают не онтологически, не логически и не только абстрактно или образно, не специально для отражения объективной действительности и для отрыва от нее, но исключительно как орудие того или иного понимания и обработки действительности для целей сообщения о ней другому сознанию, то есть исключительно интерпретативно и коммуникативно.
Вот почему совершенно не обязательно, чтобы подлежащее выражалось при помощи единственного слова, и так же – сказуемое. Если стоять на интерпретативно-коммуникативной точке зрения, то подлежащим может оказаться и целое словосочетание и даже целое предложение. Постановка в греческом языке артикля среднего рода перед любым словосочетанием и даже предложением субстантивирует то и другое и тем самым превращает и в подлежащее, и в дополнение. Если стоять на предлагаемой точке зрения, то вообще только живая речь со своими живыми смысловыми оттенками и акцентами единственно может явиться критерием для решения вопроса о том, что такое подлежащее и что такое сказуемое. Подлежащее и сказуемое, состоящие каждое из одного слова, можно назвать простым или элементарным подлежащим или сказуемым. Однако если подходить к членам предложения с коммуникативной точки зрения, то в живой речи мы без труда замечаем целые группы слов, которые играют роль «предмета высказывания», то есть подлежащего, и целые группы слов содержащих высказывания, то есть играющих роль сказуемого. Это – сложное или распространенное подлежащее и сложное или распространенное сказуемое. В предложении «В этом помещении – хоть глаза выколи» слова «в этом помещении» есть подлежащее, а слова «хоть глаза выколи» есть сказуемое. В предложении «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом» основным предметом сообщения является, очевидно, одинокий белый парус; а говорится о нем то, что он находится в голубом тумане моря. В таком случае слова «белеет парус одинокий» есть подлежащее, а слова «в тумане моря голубом» – сказуемое. Само собой разумеется, что определение подлежащего и сказуемого во всяком таком случае есть дело сложное и ответственное и не отличается такой легкостью, как в вопросах о простых подлежащих и сказуемых. Однако так оно и должно быть, если речь всерьез идет о живом общении говорящего и слушающего, ибо здесь – бесконечное число смысловых оттенков и ударений.
В традиционном учении о так называемых второстепенных членах предложения тоже накопилось множество механистических приемов, возникших благодаря слишком прямолинейному пониманию грамматических категорий и благодаря слабому различению в них коммуникативной и предметно-логической стороны.
Так, дополнение понимается обычно как объект действия сказуемого или вообще как его предмет в самом широком смысле слова. В этом смысле винительный надеж является наиболее простым и очевидным способом выражения дополнения. Но в то же самое время всякая более или менее пространная грамматика любого языка приводит множество других способов выражения дополнения, причем становится ясным, что дополнение под влиянием этих способов его выражения в других контекстах может оказываться и определением, и обстоятельством, и сказуемым, и даже подлежащим. Если мы возьмем такое выражение, как «с умом», то заранее нельзя сказать, каким членом предложения окажется оно в том или другом случае. В предложении «Здесь нужен человек с умом» оно есть определение (вместо «умный»). В предложении «Критикуя его, ты столкнешься с его умом» оно есть дополнение. В выражении «сыграть роль с умом» оно есть обстоятельство образа действия. Наконец, в предложении «С умом – хорошо, без ума – плохо» данное выражение есть подлежащее. Таким образом, любое выражение, любая часть речи в любой форме, любое словосочетание и, добавим также, любое целое предложение может оказаться каким угодно членом предложения в зависимости от контекста, от расположения слов, от интонации и от всякого рода экспрессивных моментов.
Что же такое при этих условиях член предложения? Очевидно, его нельзя определить ни лексически, ни морфологически, ни каким-нибудь другим способом, кроме контекста живой речи. Всякий член предложения есть только принцип понимания, принцип сообщения или принцип интерпретации каких угодно языковых элементов, но только в одном определенном направлении: подлежащее есть субъект и носитель признаков или действий, сказуемое есть приписываемое субъекту действие или признак, дополнение есть предмет или область действия сказуемого и т.д. Каждый член предложения есть определенного рода коммуникация, которая дифференцируется в бесконечно разнообразном смысле и получает бесконечно разнообразное предметно-логическое значение, так что различие самих членом предложения становится весьма текуче, заставляя их незаметно переходить один в другой, и бывает иной раз даже трудно определенным образом квалифицировать в предложении тот или иной его член.
Наконец, чтобы воочию доказать коммуникативный характер подлежащего, сказуемого и всех членов предложения и полную независимость орудий общения от характера той действительности, которая является сферой общения, приведем такой бессмысленный набор слов, который тем не менее является самым настоящим предложением: «Брадрай крадрает храбрайную кратдрань»[221]221
Такого же рода «бессмысленное» предложение приводил Л.В. Щерба в своих лекциях (см.: Успенский А. Слово о словах. – Л., 1954, с. 248).
[Закрыть]. Здесь каждое слово – бессмыслица. «Брадрай» есть просто произвольный набор звуков, совершенно бессмысленный и никакой действительности не отражающий. Тем не менее, в данном случае это слово является самым настоящим подлежащим. «Крадрает» – тоже полная бессмыслица и объективно ничего не значит; но тут это – вполне определенно сказуемое. Точно так же третье из приведенных слов есть определение и четвертое – дополнение. Такого рода предложение неопровержимым образом доказывает, что всякий член предложения и, следовательно, само предложение не просто содержит в себе те или иные акты понимания или сообщения, но что эти акты как раз и являются центральными и основными и притом настолько, что отражение объективной действительности, в крайнем случае, может даже и совершенно отсутствовать в предложении. В данном случае это возможно только благодаря наличию определенных формально-грамматических признаков каждого из приведенных бессмысленных слов. Конечно, акты понимания и сообщения большею частью имеют в виду ту или иную объективную действительность. Но это вовсе не обязательно. Путем этих актов можно настолько извращать объективную действительность, что от нее уже ничего не останется в таком понимании и сообщении. Раз такой разрыв возможен, то уже одно это является доказательством того, что перед нами здесь два совершенно различных акта человеческого сознания и мышления, а именно акт объективного полагания или объективного отражения действительности и акт того или иного освещения и понимания этой действительности, акт того или иного сообщения о ней. Члены предложения суть именно такие интерпретативные и коммуникативные акты, если только мы всерьез рассматриваем их грамматически, а не онтологически, не логически, не психологически и не изолированно формалистически. Правда, оба эти акта при всем их различии совершенно неотделимы друг от друга, как различны и в то же время взаимно-неразделимы язык и мышление вообще.
Грамматические категории, дающие то или иное понимание действительности, служат для переделывания ее в самых разнообразных направлениях. А переделка отнюдь не есть простое и непосредственное отражение. Следовательно, кто из переделываемой действительности делает вывод об утере самой действительности и всякое переделывание упрекает в субъективизме, тот, очевидно, отрицает возможность и необходимость переделывания действительности, и для него отпадает принцип языка как орудия развития и борьбы. Политический вред такой теории слишком очевиден и не нуждается в пояснениях.
Далее, хотя интерпретация есть субъективный акт, тем не менее это ровно ничего не говорит об обязательной оторванности этой интерпретации от объективной действительности или о принципиальной невозможности применять ее для оперирования с этой последней. Оторвана ли данная субъективная интерпретация действительности от самой действительности или не оторвана, этого заранее сказать нельзя на основании одного только голого факта интепретации. Это можно сказать только при условии применения того или иного критерия реальности и при условии практической ориентации в окружающем бытии. Одни интерпретации действительно далеки от реальности и могут даже противоречить ей. Другие же близки к ней и помогают ее не только осознавать и сообщать другим, но и переделывать ее в положительном или отрицательном смысле.
Наконец, тот, кто отрицает специфику в самой коммуникативности грамматических категорий и не отличает ее от предметно-смыслового характера этих категорий, находя во всякой коммуникативности условность, относительность и беспринципность, тот, очевидно, возражает и вообще против учения об единстве языка и мышления. Ведь мышление само по себе, ввиду своей абстрактности и ненаправленности от одного сознания к другому, вовсе еще не есть язык, а язык, ввиду того, что он есть практически осуществленное мышление, тоже отнюдь еще не есть просто само мышление, и тем не менее, обе эти сферы совершенно нераздельны и не могут даже и существовать отдельно друг от друга. Они различны, но нераздельны. Следовательно, поскольку язык не есть мышление, поскольку язык может и не содержать в себе того отражения действительности, которое несет в себе мышление, то есть он может содержать в себе любую ложь и любое извращение действительности. Поскольку же язык не существует без мышления, постольку он не только может отражать всю ту действительность, которую отражает мышление, но даже когда он содержит в себе ложь, он есть тоже результат той лжи, которая зарождается в самом мышлении. Подобно тому, как и ложь самого мышления может быть не только ложью в отношении истинной действительности, но и ложью отражающей ложную действительность.








