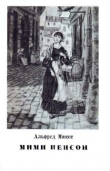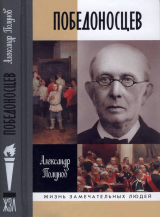
Текст книги "Победоносцев. Русский Торквемада"
Автор книги: Александр Полунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Дело в том, что общественно-политическая обстановка, в которой во второй половине XIX века приходилось действовать русским клирикам, давно уже была далека от патриархальной целостности, благообразия и простоты. Господствующей Церкви Российской империи всё чаще бросали вызов не только антирелигиозные течения (агностицизм, атеизм), но и соперники на религиозном поле. К их числу принадлежали иноверие – неправославные исповедания (католицизм, протестантизм, ислам, буддизм), последователи которых оказались в свое время под властью Российской империи в результате ее территориального расширения, и инаковерие – течения, отколовшиеся от Русской православной церкви (старообрядчество, сектантство) и переживавшие в эпоху Великих реформ заметный подъем. Идеальный же, с точки зрения Победоносцева, клирик – «простой духом», непричастный к соблазнам высокой культуры, мало чем отличающийся от простолюдина, – перед лицом всех этих вызовов оказался бы попросту беспомощным.
Усиление иноверия и распространение религиозного инакомыслия в России вызывали сильнейший гнев Победоносцева, поскольку сам факт их существования разрушал идиллическую картину патриархального единения пастырей и паствы, которую столь любовно рисовал для себя российский консерватор. Поэтому искать какие-то глубокие причины для возникновения и развития в России религиозного разномыслия он решительно отказывался: «Этому бесконечному смешению мечтательных и самочинных верований невозможно полагать одну общую основу в убеждении: их порождает нервная сила воображения, их размножает подражательная восприимчивость того же нервного чувства… образуется психическое возбуждение, заражающее целую массу силой какого-то гипноза… и развивается фанатизм, нередко злобный и яростный»{132}.
В основе действий вождей религиозного инакомыслия, создателей новых учений лежали, по мнению консерватора, морально ущербные мотивы, связанные с гордостью, самомнением, противопоставлением себя массе простых верующих. «Непризнанные учителя разных толков, – с возмущением писал он, – проповедуют с ревностью, доходящей до фанатизма и до глумления над всяким возражением, туманное, не приведенное в систему, но повелительное применение к жизни начал, произвольно извлеченных и произвольно истолкованных из Евангелия… всякий, сосредоточась на своем «я», всегда себялюбивом, самочинном, исключительном, отрешаясь в духе от мира своих собратий, приходит к отрицанию»{133}. Обер-прокурор полагал, что, поскольку с историческими традициями России была связана именно Русская православная церковь, творцы новых религиозных учений должны были смиренно признать этот факт, склоняясь перед многовековой мудростью предков. «Простая душа, – заявлял консерватор, – была душа смиренная»; сектантство прививает ей «бессмысленную гордость с уверенностью в своей правоте – перед кем? Перед целым народом, составляющим Церковь и живущим в смиренном сознании своей греховности перед Богом и в смиренной надежде прощения грехов»{134}.
Победоносцев признавал, что в рамках сложившейся в России системы религиозных отношений обратить в инаковерие среднего православного обывателя достаточно нетрудно, ведь он представлял собой «простую душу, в которой есть только чистое, незанятое поле религиозного чувства»{135}. Однако, разумеется, допускать это обращение ни в коем случае не следовало: «простые души», безусловно, должны были оставаться в ограде господствующей Церкви, находящейся под защитой государства, дабы ее служители имели возможность оказать на них духовное воздействие. Пользуясь своей близостью к народу, клирики-«простецы», безусловно, укрепят его преданность Церкви, однако осуществится это не иначе как посредством медленных постепенных мер, которые дадут прочный результат лишь впоследствии. «Стадо это – наша будущность, – писал Победоносцев Е. Ф. Тютчевой в 1881 году о православной пастве. – Что сегодня не может быть в нем возделано, то будет возделано через десятки лет, но покуда мы должны оберегать его от волков»{136}.
Предложение снять напряжение, возникающее в обществе в связи с развитием инаковерия, путем уравнения в правах всех исповеданий, составлявшее часть проекта разделения Церкви и государства, вызывало решительный протест обер-прокурора. Он утверждал: подобные проекты, наивно-идеалистические по своей природе, не учитывают ущербной природы человека. Избавившись от опеки государства в религиозной сфере, люди, как и в сфере политической, не смогут удержаться в рамках «терпимости» и взаимного уважения и немедленно перейдут к насилию. «Из-за свободы совести, – подчеркивал обер-прокурор, – веками велась кровопролитная брань, и гонимое вероисповедание завоевывало себе свободу. Но вскоре же оказывалось, что эта свобода превращалась на каждой стороне в свою исключительную свободу, переходя в стеснение свободы для партии противоположной»{137}.
В силу ограниченности своих возможностей, утверждал Победоносцев, рядовой обыватель, будучи не в силах осмыслить разницу между собственно религиозным учением (догматом) и обрядом, воспринимает религию прежде всего с внешней стороны, которая практически всегда оказывается связана с особенностями национальной культуры. Поэтому объявление неограниченной свободы совести откроет путь ожесточенной борьбе между национальными группами, ведущей к дезинтеграции общества. Подобный сценарий казался Победоносцеву особенно вероятным в условиях России с присущими ей слабостью исторических традиций и культуры, наивной целостностью народного мировосприятия, делающего «простых людей» крайне уязвимыми для внешнего воздействия. «Немецкие люди, – писал Константин Петрович в 1889 году О. А. Новиковой, – понять не могут того, что мы, русские люди, так живо чувствуем. У них, в Неметчине, лютеранин, католик, сектант не перестает быть немцем, англичанином и проч. А у нас, сделавшись протестантом или сектантом немецкой лютеранской окраски, немедленно перестает быть русским и становится немцем – отрицателем России и всего русского!»{138}
Формальное уравнение исповеданий, полагал Победоносцев, не обеспечит людям возможность свободного духовного выбора, а лишь откроет простор действиям наиболее агрессивных, склонных к насилию участников межрелигиозной борьбы: «При равенстве прав всех и каждого фанатик сектант может достичь властного положения и властного влияния на множество людей… и совершать над ними несправедливое давление в целях религиозного фанатизма»{139}. В этих условиях не могло быть и речи о безразличии государства в религиозной сфере – оно должно было оказывать попечительное воздействие, ограждая «малых сих», «простых людей» от вредоносного внешнего влияния. «Церковь наша – одно с народом – не лучше его и не хуже, – вновь подчеркивал Победоносцев в письме Е. Ф. Тютчевой. – В этом ее великое качество. Но Государство обязано понять его и защитить ее. От кого? От целой армии дисциплинированных врагов ее и наших – всяких вероисповедных пропагандистов, которые, пользуясь простотой народной, бездействием правительства, условиями пространства и бедной культуры, врываются, как волки, в наше стадо, не имеющее достаточно пастырей»{140}. Таким образом, он возлагал на государство практически всеобъемлющие функции. Чтобы их успешно выполнять, государство должно было обладать самыми широкими возможностями, выступать в качестве власти, максимально сконцентрированной в себе самой, ни с кем не разделяющей своих полномочий. В размышлениях о сущности и особенностях устройства подобной системы управления и рождались представления Победоносцева о самодержавии – единственной форме власти, которая, по его мнению, могла служить прочной основой порядка в России.
«Верховное воплощение порядка и справедливости»
В условиях, когда обществу грозила катастрофа, когда в сфере социальной жизни всё более неудержимо и бесконтрольно проступали темные стороны человеческой натуры, настоятельно требовалось действие высшего упорядочивающего начала, способного приостановить нарастание хаоса. Таким началом могло быть лишь самодержавное государство. «В душевной природе человека… глубоко таится потребность власти, – утверждал Победоносцев. – С тех пор, как раздвоилась его природа, явилось различие добра и зла и тяга к добру и правде вступила в душе его в непрестанную борьбу с тягой ко злу и неправде, не осталось иного спасения, как искать примирения и опоры в верховном судье этой борьбы, в верховном воплощении властного начала порядка и справедливости»{141}.
Поскольку задачи, возлагавшиеся на власть, носили прежде всего охранительный характер, законотворчество и вообще все меры по формально-административному регулированию общественных отношений казались Победоносцеву делом второстепенным, а то и бесполезным. Главное заключалось в личности правителя, его нравственных качествах и твердой приверженности изначально выбранным политическим принципам, суть которых ясна и не нуждается в дополнительных обсуждениях. «Я не придаю никакого значения конституции и вообще какого бы то ни было рода формам, – заявлял Константин Петрович высокопоставленному сановнику и своему товарищу по Училищу правоведения, сенатору Александру Александровичу Половцову в 1877 году, когда в обстановке начала Русско-турецкой войны и возможной смены царствований встал вопрос о разработке политической программы для наследника престола. – Надо, чтобы сам государь был человек, твердый на добро, разбирающий людей и т. д., а без этого всякие внешние перемены ни к чему не послужат». «Я убедился, – замечал Половцов, – что ясной политической мысли или программы у него нет, а что он ограничивается платоническими полурелигиозными пожеланиями нравственного совершенствования»{142}.
Основой стабильности и благополучия общества представлялся Победоносцеву духовно-нравственный фактор – убежденность народа, что власть пребудет твердой и незыблемой. «Мое глубокое убеждение, – наставлял будущий обер-прокурор наследника Александра Александровича в 1877 году, – что у нас, в России, всего более дорожить надо нравственным доверием народа, верой его в правительство. Всевозможные льготы и постановления – ничто перед этим чувством»{143}. Консервативному сановнику было вообще не очень понятно, зачем нужно коллективное и тем более публичное обсуждение вопросов управления, чем оно может дополнить существующие представления о необходимой обществу государственной системе, порядке и принципах ее функционирования. В 1880 году он неодобрительно писал Ф. М. Достоевскому о получивших в это время широкое хождение (в том числе в консервативных и близких к славянофильству кругах) планах созыва Земского собора. Как будто «из этого нового смешения языков может возникнуть потерянная истина»! «Чего еще искать ее, – восклицал консерватор, – когда она всем давным-давно дана и открыта!»{144}В переписке Победоносцева, касавшейся вопросов управления, постоянно встречаются рассуждения, что в дискуссиях лишь теряется смысл рассматриваемых вопросов и что обсуждение призвано касаться лишь технических вопросов исполнения той или иной меры, поскольку коренные принципы управления сомнению подвергаться не должны. Крайняя резкость выступления обер-прокурора в марте 1881 года против выборных органов самоуправления – земств и городских дум – объяснялась и тем, что данные учреждения представлялись ему бесполезными «говорильнями», в которых депутаты зачем-то дискутировали о вопросах, смысл которых был и так ясен.
Самодержавная власть, будучи простой с точки зрения принципов устройства, должна была нести ясность и простоту и в окружающую действительность, которая в пореформенные годы буквально терзала Победоносцева противоречивостью и неопределенностью. «Главная наша беда в том, – писал обер-прокурор Александру III, – что цвета и тени у нас перемешаны. Мне казалось всегда, что основное начало управления – то же, которое явилось при сотворении мира Богом. «Различа Бог между светом и тьмою» – вот где начало творения вселенной»{145}. Безусловно, проводить в жизнь подобные принципы управления должен был человек, не знающий сомнений. «Власть как носительница правды, – настаивал Победоносцев, – нуждается более всего в людях правды, в людях твердой мысли, крепкого разумения и правого слова, у коих да и нет не соприкасаются и не сливаются, но самостоятельно и раздельно возникают в духе и в слове выражаются»{146}.
Усложнение устройства государственной машины, формализация системы управления, нараставшие на протяжении второй половины XIX века, казались консерватору непонятной и ненужной помехой, препятствовавшей проявлению благодетельной силы самодержавия: «Закон становится сетью… для самих властей, призванных к применению закона, стесняя для них множеством ограничительных и противоречивых предписаний ту свободу рассуждения и решения, которая необходима для разумного действования власти»{147}.
И из-за особенностей человеческой натуры, и, прежде всего, в силу специфических условий России состояние народа и страны являлось прямым отражением состояния верховной власти и буквально каждое действие правителя немедленно находило отзвук на всех уровнях социального организма. «Ваш труд, – писал Победоносцев цесаревичу Александру Александровичу, – всех подвинет на дело, Ваше послабление и роскошь зальют всю землю послаблением и роскошью»{148}. В этих условиях, утверждал консерватор, наивно рассчитывать на то, что какие-либо слои российского общества – даже самые консервативные, лояльные к самодержавию, смогут свершить что-то полезное самостоятельно, без руководства со стороны власти. Касалось это и столь высоко ценимых Победоносцевым «простых людей». «Народ наш, – писал он наследнику престола, – способен творить чудеса всякой доблести, когда чувствует, что им правят и ведут его, а когда правящей силы нет или она отказывается править или уклоняется – тогда можно ожидать хаоса и гибели». Буквально каждая деталь управления должна была находиться под контролем власти. «У нас, в России… всякое дело надобно держать, не отпуская ни на минуту: как только отпустишь его в той мысли, что оно идет само собой, так дело разоряется и люди расходятся и опускаются»{149}.
В подобной ситуации казались полным абсурдом попытки либерально настроенных государственных и общественных деятелей разделить власть с обществом, передать ему часть управленческих функций, к ужасу Победоносцева, становившиеся всё более частыми. Чем же были вызваны эти совершенно непонятные консерватору проекты? Он видел в них лишь проявление моральной ущербности – стремление малодушных людей сбросить с себя тяготы власти, прикрыть различными хитрыми фразами стремление к комфорту и покою. «Придет, может быть, пора, – обращался Победоносцев к цесаревичу, – когда льстивые люди – те, что любят убаюкивать монархов, говоря им одно приятное, – станут уверять Вас, что стоит лишь дать русскому государству так называемую конституцию на западный манер – всё пойдет гладко и разумно, и власть может совсем успокоиться. Это ложь, и не дай Боже истинно русскому человеку дожить до того дня, когда ложь эта может осуществиться»{150}.
По мнению синодального обер-прокурора, стремление пойти на уступки обществу могло быть вызвано также несамостоятельностью отдельных государственных деятелей, их внутренней слабостью, зависимостью от внешних воздействий: «Люди эти тянут туда, где чуют силу. Теперь им чудится сила в каком-то фальшивом, придуманном общественном мнении. Разумеется, это доказывает, что у них нет живой веры в истину: в таком случае они сами в себе имели бы центральную, непреоборимую силу. И так эта слепая сила, которая для них сливается и с подлым страхом, и с личным интересом, господствует над ними и обессиливает в них всякую деятельность»{151}.
Сам Победоносцев воспринимал все призывы пойти на уступки «духу времени», «сложившимся реалиям» крайне негативно. С его точки зрения, следовало не корректировать взгляды в соответствии с реалиями жизни, а, наоборот, жизнь подчинять воздействию принципов, верность которым рассматривалась им едва ли не как главное достоинство политика. Когда в обстановке общественно-политического кризиса рубежа 1870—1880-х годов власти, дабы снять напряженность, попытались несколько изменить направление правительственного курса (в частности, до определенной степени расширить свободу печати), обер-прокурор воспринял подобные маневры резко отрицательно. «Правительство, – с гневом писал он Е. Ф. Тютчевой, – отказывается от всякой борьбы за основные начала – именно от того, что вдохновляет и укрепляет человека и учреждение верой – на борьбу хотя бы с целой вселенной. Напротив того – всякое явление действительной жизни, хотя бы самое безобразное, выставляется существующим фактом, с которым надобно считаться, который остается урегулировать»{152}.
Поскольку людей, готовых бросить вызов хоть «целой вселенной» ради того, чтобы отстоять изначально усвоенные принципы, становилось вокруг всё меньше, Победоносцев считал, что его едва ли не мессианское призвание – стоять на страже основ традиционного политического порядка. Это давало ему ощущение величайшей убежденности в своей правоте. «Меня обвиняют в том, – писал он в 1881 году Е. Ф. Тютчевой, – что я себя одного высоко ставлю и всех критикую; но разве могу я, веруя в Единого Бога, вступить в нравственное общение с теми, в ком вижу идолопоклонников?»{153}
В мессианские представления Победоносцева входила вера в то, что он – едва ли не единственный, кто способен донести до верхов «народную правду», кто сохранил духовную близость с народом. «Я старовер и русский человек, – провозглашал Победоносцев в письме С. А. Рачинскому в роковом для страны 1881 году. – Я вижу ясно путь и истину… Мое призвание – обличать ложь и сумасшествие»{154}. Современники не случайно сравнивали обер-прокурора со средневековыми служителями Церкви, выступавшими в качестве наставников или обличителей государей, – святым преподобным Иосифом Волоцким, епископом Вассианом Топорковым, священником Сильвестром{155}. Подобно им, Победоносцев готов был пожертвовать собой во имя торжества своих идей. «Я, – писал он Е. Ф. Тютчевой, – провижу… время когда придется отступить – не потому, что я избегал борьбы, но потому, что толпа завопит: распни его – и я предан буду на распятие!»{156}
Быть государственным человеком, наставлял Победоносцев наследника, – значит «не утешаться своим величием, не веселиться удобством, а приносить себя в жертву тому делу, которому служишь, отдавать себя работе, которая сожигает человека, отдавать каждый час свой и с утра до ночи быть в живом общении с живыми людьми, а не с бумагами только»{157}. И сам государь, и его приближенные должны были выстроить свою жизнь так, чтобы в ней не оставалось буквально ни одной свободной минуты для развлечения, удовольствий, чтобы все силы и время были обращены на дела управления. Само же управление должно было заключаться в непосредственном руководстве всеми аспектами государственной жизни, контроле за каждой ее деталью. Подобный образ действий был важен еще и потому, что позволял избежать бюрократизации системы управления, обойти тот самый формализм, который вел ее к отрыву от реальной жизни, заставлял выстраивать широкомасштабные абстрактные планы. Забвение подобных правил, по мысли Победоносцева, привело к развалу правительственной системы в конце царствования Александра II. «Все уверяли друг друга и старались уверить высшую власть, что всё пойдет отлично, лишь бы принято было такое-то правило, издано такое-то положение, и все под этим предлогом избавляли себя от заботы смотреть, надзирать и править»{158}, – писал он по этому поводу своему воспитаннику цесаревичу Александру Александровичу.
Основой управления Победоносцев считал опору на «живых людей», действующих максимально небюрократическим путем, и в первую очередь на людей из провинции. Апелляция к провинции играла в воззрениях обер-прокурора совершенно исключительную роль. Эта малоизвестная столичному обществу, во многом загадочная среда, пребывавшая в отдалении от больших городов, не в последнюю очередь именно благодаря такому отдалению смогла сохранить в своих недрах драгоценные качества – чистоту, простоту и смирение, – давно потерянные в столицах. «Впечатления петербургские тяжелы и безотрадны… – писал в духе подобных представлений Победоносцев наследнику Александру Александровичу. – Добрые впечатления приходят лишь изнутри России, откуда-нибудь из деревни, из глуши. Там еще цел родник, от которого дышит еще свежестью; оттуда, а не отсюда наше спасение»{159}. Правителю, государственному деятелю следовало бы как можно плотнее общаться с этой провинциальной средой, встречаться с отдельными ее представителями, чаще ездить по стране, по возможности избегая использования «омертвелых» бюрократических механизмов.
Усердный, непрерывный труд царя, его советников и соратников, постоянное поощрение «усердных тружеников провинции», в представлении Победоносцева, со временем привели бы к установлению между такими тружениками прочных связей, существование которых позволило бы в благотворном духе воздействовать на ситуации в стране. Связи эти ни в коем случае не должны были подвергаться формализации, включаться в состав каких-либо учреждений, стимулом их возникновения и развития должны были служить исключительно личностные начала, прежде всего сила примера. «Хорошие люди, – внушал Константин Петрович цесаревичу Александру Александровичу, – идут на живую силу, и, как огонь от огня загорается, так и человек загорается от живого человека»{160}. Начинания «скромных тружеников провинции», складывающиеся между ними неформальные отношения следовало оберегать и от омертвляющего воздействия бюрократических структур, и – особенно – от «грязи и рынка» публичной полемики, в связи с чем эти отношения с точки зрения обер-прокурора должны были приобретать едва ли не конспиративный характер. «Святое дело… лучше устоит на молве, из уст в уста передаваемой людьми добра и веры»{161}, – писал Победоносцев об одном из привлекших его внимание мероприятий просветительской направленности.
В результате развития поощряемых сверху начинаний в провинциальной среде со временем должны были возникнуть группы единомышленников – «кружки русских людей», «дружно и плотно действующие». Именно им, по мысли Победоносцева, суждено было оказать благотворное воздействие на ситуацию в стране; рутинная же работа существующих бюрократических структур должна была сыграть в лучшем случае вспомогательную роль. Точечная, адресная поддержка верхами каждого такого кружка и их отдельных представителей должна была обеспечить успех их деятельности. К принятию же мер общего характера, к широким организационным начинаниям и уж тем более к преобразованию учреждений Победоносцев относился скептически, поскольку «обобщение» и формализация могли омертвить, выхолостить самую благую инициативу. «Ведь если можно в отдельных случаях где-нибудь в углу поставить на ноги или ободрить зачинающуюся силу – разве это не много само по себе значит? – писал Победоносцев Рачинскому. – А поставить на ноги и ободрить всех – это мечтание и дело недоступное»{162}.
Постоянные призывы к труду на благо родины; заявления, что в качестве главных тружеников, несущих на плечах все тяготы управления, должны выступать сам царь и его доверенный советник; рассуждения о необходимости опоры в системе управления на личностные начала в противовес «омертвевшим» официальным механизмам, ориентация на скрытые силы провинции, всемерная поддержка подвизающихся там «простых тружеников»; обещание изменить ситуацию в стране к лучшему путем мер прямого воздействия, минуя сложные и запутанные управленческие механизмы, – всё это делало программу Победоносцева привлекательной в глазах многих современников, контрастно выделяло его самого из массы бюрократов, защищавших существующий политический строй из соображений административной рутины. Самодержавие в рамках воззрений Победоносцева приобретало неожиданные, необычные черты, в известном смысле даже насыщалось демократическим содержанием.
Нельзя не заметить, что многие построения консервативного сановника – своеобразный культ «простого человека», призыв искать правду в «отдаленных углах», вне больших городов, подозрительное отношение к системе формальных норм и правил, сложных административных институтов, включая официальные бюрократические механизмы, – очень сильно пересекались с распространенными в то время умонастроениями, находили точки соприкосновения с такими течениями общественной мысли и духовной жизни, как народничество и «опростительство». Всё это также заставляло многих современников с вниманием и интересом относиться к идейным построениям Победоносцева. Главным же с точки зрения развития политической жизни России было то, что его взгляды привлекли внимание наследника престола, будущего императора Александра III, и в 1860—1870-х годах оказали очень сильное влияние на него. Очень многие наставления консервативного сановника, принятые близко к сердцу будущим царем, легли в основу правительственной политики 1880-х.