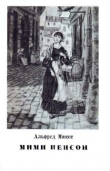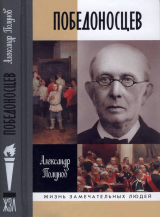
Текст книги "Победоносцев. Русский Торквемада"
Автор книги: Александр Полунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
В целом события Восточного кризиса убеждали Победоносцева в глубокой порочности попыток урегулирования международных противоречий путем вступления России в разного рода альянсы со странами Запада. «Как давно, – писал он бывшему ученику, – нам надо было понять, что вся наша сила в нас самих, что ни на одного из так называемых друзей и союзников нельзя нам положиться, что всякий из них готов на нас броситься в ту же минуту, как только заметят нашу слабость и ошибку»{212}. Однако подобные заявления вовсе не означали, что общественно-политические процессы в странах Запада не привлекали внимания Победоносцева. Бывший профессор, литератор, публицист прекрасно понимал, насколько велико в европейских странах влияние общественного мнения на политику правительств. В связи с этим воздействие на идейное противоборство, разворачивавшееся в Европе в связи с Восточным кризисом, встало в повестке дня Победоносцева в число первоочередных задач.
Разумеется, при всей неприязни к Западу, делая заявления о его тотальной враждебности России и славянству, будущий обер-прокурор прекрасно понимал, что общественность европейских стран вовсе не едина в отношении к Восточному кризису. Культурой, общественной и политической жизнью Европы он интересовался с достаточно давних времен, поэтому с самого начала выступлений славян против Турции на Балканах начал налаживать каналы взаимодействия с общественным мнением Европы. Важнейшим его сотрудником на данном направлении стала постоянно проживавшая в Англии О. А. Новикова, в салоне которой собирались видные представители английской интеллигенции, так или иначе сочувствовавшие России: философ Томас Карлейль, его ученики, историки Джеймс Энтони Фруд и Эдуард Фримен, знаменитый политик Уильям Гладстон и др. Посетители салона Новиковой (Победоносцев называл их «английскими славянофилами») немедленно попали в сферу внимания консервативного сановника.
Сразу после начала Восточного кризиса он перевел и опубликовал в журнале «Гражданин» памфлеты Гладстона «Болгарские ужасы и Восточный вопрос» и «Черногория», ставшие знаменем прославянского движения в Англии. На страницах того же «Гражданина» будущий обер-прокурор подробно знакомил русского читателя со всеми перипетиями идейной борьбы в Англии по Восточному вопросу: созданием Национальной конференции в поддержку славян, проводимыми ею митингами, публикациями Гладстона, Карлейля и других авторов в поддержку славян и России. Часть поступавших из Англии материалов о движении в поддержку славян Победоносцев передавал представителям верхов – цесаревичу и возглавлявшему в то время Министерство иностранных дел канцлеру Александру Михайловичу Горчакову, стремясь, таким образом, воздействовать не только на общественное мнение, но и на политику правительства России.
Развернувшиеся на Западе дискуссии вокруг Восточного кризиса служили для Победоносцева доказательством важности «славянского дела» во всемирном масштабе, ведь даже в Англии, враждебной России, значительная часть «властителей дум» вынуждена была признать правоту движения за освобождение славян. «Разумеется, – писал будущий обер-прокурор в «Гражданине», – справедливость англичанина к России может быть только относительная, вследствие национального предрассудка, но и то уже много значило, что сила истины… заставила оценить по достоинству, во имя правды и человеколюбия, права угнетенных и правду того дела, на защиту коего поднялось в России народное движение и высказалось русское правительство»{213}. При этом, разумеется, русский консерватор стремился всячески воздействовать на английское общественное мнение. Он оказывал давление на Министерство иностранных дел, если оно не выступало с опровержением появлявшихся в зарубежной печати ложных, с его точки зрения, сведений или не предавало гласности официальные материалы, которые могли бы помочь в развернувшейся идейной борьбе.
Через Победоносцева Новиковой присылались для перевода и публикации в Англии материалы, демонстрировавшие, насколько широка поддержка «славянского дела» в России: речи И. С. Аксакова, издания славянских комитетов, «Дневник писателя» Достоевского, газета «Современные известия» близкого к славянофилам Никиты Петровича Гилярова-Платонова. Победоносцев стремился создать режим наибольшего благоприятствования для английских и американских литераторов и журналистов, благожелательно, с его точки зрения, относившихся к России: известного ученого и публициста Дональда Маккензи Уоллеса, корреспондентов газеты «Дейли ньюс» Януария Алоизия Мак-Гахана и Арчибальда Форбса и др.
После начала Восточного кризиса Победоносцев принял активное участие в работе российских общественных организаций, выступавших в поддержку балканских славян и на первых порах действовавших значительно более энергично, нежели правительство. В данном случае консерватор признавал, что тот самый «народный дух», единство с которым составляло силу правительства, мог начать действовать и помимо официальных властей, если они почему-то отставали от хода событий. Так, в статье, опубликованной в «Гражданине», Победоносцев счел необходимым особо отметить речь И. С. Аксакова на заседании Славянского комитета в поддержку Сербии в 1877 году, которая «заявила вне всякого сомнения, что движение в России по поводу сербских событий было подлинно самобытным явлением, независимо… от приказаний правительства»{214}. В период Восточного кризиса будущий обер-прокурор содействовал благотворительной деятельности славянских комитетов и Красного Креста, вошел в Главное управление последнего. Летом 1877-го Победоносцев перевел и издал на свои средства сочинение XVI века «Приключения чешского дворянина Братислава в Константинополе в тяжкой неволе у турок»; эта публикация была призвана укрепить в обществе симпатии к славянству.
Помимо поддержки речей, с которыми в 1876-м и начале 1877 года выступал Аксаков (и за которые он не раз подвергался взысканиям со стороны правительства), Победоносцев в это время пытался – правда, безуспешно – помочь бывшему однокашнику с учреждением в России особой «славянской газеты». В течение 1877 года будущий обер-прокурор выступал даже за некоторое расширение свободы печати и приостановку цензурных преследований, считая в условиях мощного подъема в поддержку славян в России несравненно более опасным «раздражение, которое произойдет в умах от совершенного прекращения журнальных статей мерами правительства». «В то время, когда происходит борьба титанов и подземные силы поднимаются», правительство, лишь усиливая недовольство общества, «с огромным молотом гоняется за мухами»{215}, писал он Е. Ф. Тютчевой. Обстановка необычайного, давно не случавшегося в России общественного подъема заставляла его вновь и вновь задаваться вопросом, почему в условиях, когда контуры предстоящего противоборства четко определились, когда перспективы развития международного конфликта ясны, правительство не решается принять простую и ясную меру – открыто выступить в поддержку балканских славян, немедленно объявив войну Турции. Размышления над этим вопросом существенно повлияли на идейную эволюцию русского консерватора в конце 1870-х годов.
Упорное и совершенно непонятное Победоносцеву нежелание начать войну служило в его глазах концентрированным выражением всех пороков, присущих правительству в 1860—1870-е годы и фатально обессиливавших его деятельность: формализма, тяги к комфорту, нежелания брать на себя ответственность. «Повсюду, – с раздражением писал он цесаревичу, – встречаешь людей, только желающих как можно скорее успокоиться и готовых для этого уверять всех и каждого, что мы все никуда не годимся и что всё у нас никуда не годится»{216}. Сыграл свою роль и такой роковой, по мнению Константина Петровича, изъян правительства Александра II, как стремление на всё испрашивать согласие Европы, в том числе и таких явно враждебных России стран, как Англия и Австро-Венгрия: «Россия слишком дорожит тем призраком дружбы и согласия, которым манит ее австрийская политика, всегда лживая, всегда ходящая в маске и скрывающая под ней глубокую ненависть к России и к славянству»{217}.
В условиях, когда, по мнению Победоносцева, необходимость и неизбежность войны давно стали очевидны, дипломатические маневры официальных властей, стремившихся обеспечить России по возможности благоприятную обстановку в рамках надвигающегося конфликта, казались ему ненужной и неуместной эквилибристикой. Подобная политика, писал он О. А. Новиковой, «не по сердцу Русскому человеку, который не понимает в общем деле извилистых путей»{218}. Когда же в апреле 1877 года война, наконец, была объявлена, он воспринял это событие как симптом выхода на поверхность и утверждения в сфере «большой политики» тех самых исконных здоровых настроений, которые были характерны для основной массы народа и до времени подавлялись малодушием властей. «Свершилось нечто священное и торжественное… – писал Победоносцев Е. Ф. Тютчевой после объявления войны. – Но наверху, в расфранченных слоях общества – какое клянчанье, какая кислятина»{219}. Казалось, признание правительством справедливости требований основной массы народа после долгих проволочек должно способствовать быстрому разрешению Восточного кризиса.
В реальности, однако, дела пошли совсем не так, как ожидал консервативный сановник, но и для этого он подобрал объяснение: военные неудачи, которые после первых успехов начали преследовать русскую армию, прежде всего затяжная осада крепости Плевна, служили доказательством провала именно либерального, реформаторского компонента политики правительства Александра II. Это звучало тем более убедительно, что военное и морское министерства возглавляли видные правительственные либералы – соответственно Д. А. Милютин и брат царя, великий князь Константин Николаевич. Именно на два эти ведомства наставник цесаревича и направил острие своей критики. «Рассказывают, – писал он Александру Александровичу в октябре 1876 года, еще до начала войны, – поразительные, превышающие всякое вероятие истории о систематическом грабеже казенных денег в военном, морском и в разных других министерствах, о равнодушии и неспособности начальствующих лиц и проч.»{220}. Константин Николаевич обвинялся им в неправильном выборе приоритетов при определении программы военного судостроения, в неготовности флота к войне, в отказе принять решительные меры против Турции из-за боязни уронить репутацию в глазах Европы. Милютин, по словам Победоносцева (получавшего информацию с театра военных действий по линии Красного Креста), совершенно развалил систему снабжения армии одеждой, продовольствием и медикаментами, не мог организовать помощь раненым. Ситуация, по мнению консерватора, достигла такой остроты, что вот-вот должны начаться массовые волнения в войсках.
Проблемы, выявившиеся в ходе войны, резко усилили присущие Победоносцеву нервозность и пессимизм, погрузив его в состояние неизбывной паники. «Я живу здесь в каком-то кошмаре, – писал он Е. Ф. Тютчевой, – от которого лишь изредка как будто просыпаешься, а потом опять что-то ложится на грудь и давит». «Со времен Крымской кампании я не испытывал такого волнения и стеснения духа – никого бы не видел, ни о чем бы не говорил; точно жизнь пропала и испаряется в воздухе»{221}. Его панические настроения нарастали из-за того, что его августейший ученик, как и другие взрослые великие князья, должен был отбыть на театр военных действий (цесаревичу предстояло возглавить Рущукский отряд), что было небезопасно для жизни. Кроме того, отъезд наследника престола был чреват разрушением столь тщательно выстраивавшейся Победоносцевым системы неформальных отношений с ним. «Зачем пускают его командовать – неопытного еще человека, и его следовало бы поберечь и устранить от фальшивого положения»{222}, – с раздражением писал Константин Петрович в июле 1877 года С. Д. Шереметеву, в то время состоявшему адъютантом наследника. Вскоре, однако, Победоносцев понял, что новая ситуация не только не опасна для него, но и открывает новые, значительно более широкие перспективы для воздействия на Александра Александровича.
Причина заключалась в том, что характерная для многих великих князей и царедворцев тенденция относиться к цесаревичу неприязненно, держать его в стороне от серьезных государственных дел не исчезла с началом войны. Наследник пребывал в немилости у своего дяди-главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, был фактически отрезан от информации о политических событиях в России. «Я решительно ничего не знаю о намерениях государя и вообще что творится в главной квартире его, потому что ничего мне не сообщают, кроме как о военных распоряжениях, до нас касающихся, – жаловался Александр Александрович осенью 1877 года бывшему наставнику. – Я решительно ничего не знаю, что делается у нас на родине»{223}. Понятно, что в подобной ситуации цесаревич оказывался в высшей степени зависимым от того, кто стал для него источником необходимых сведений, и Победоносцев в полной мере воспользовался открывшимися возможностями.
Константин Петрович в письмах не просто рисовал картину едва ли не полного развала российской системы управления (в особенности ведомств, возглавляемых либералами), но и вел масштабную и весьма опасную политическую игру, подвергая нападкам ближайших родственников цесаревича – великих князей, его дядьев. Так, администрация кавказского наместника Михаила Николаевича стала, по словам Победоносцева, «клоаком всяческих нечистот, беспорядков, интриг, хищений». Про Николая Николаевича, по его сообщению, все говорили, что «он упорен невыразимо, что не хочет слушать разумных советов, не хочет видеть ошибок и ради упорства шлет даром на смерть полки героев»{224}. Источником сведений, как правило, служили «слухи», «толки», частная корреспонденция, впечатления от личных, часто случайных встреч; однако именно эта информация преподносилась им как истинная и достоверная, в отличие от ложных данных официальных докладов. Разумеется, всеобщая критика нисколько не касалась цесаревича – все его распоряжения являли счастливое исключение на фоне всеобщей дезорганизации, вызванной применением ложных административных принципов, которыми власти руководствовались еще со времен Великих реформ. «Ваша добрая слава растет по всей России, – многозначительно писал Победоносцев Александру Александровичу в ноябре 1877 года. – Ах, это большая сила Вам на будущее, нравственный капитал, который дай Боже Вам сохранить и приумножить!»{225}
Война, по мнению Победоносцева, еще раз и с предельной резкостью выявила ставшее характерным для пореформенной России противостояние испорченного мира верхов и «простого народа». Победой в ней, по мнению консерватора, Россия была обязана исключительно второй силе, в то время как первая в годы великих потрясений выказала свою полную пустоту и никчемность. «И, не правда ли, во всей этой долгой, долгой военной истории всего краше является русский солдат, во всей простоте русской души, в которой, кажется, сосредоточилось всё, что мило и дорого в родной земле русскому человеку… Всё дело, по-моему, выносят на плечах своих солдаты»{226}, – писал он бывшему ученику. Цесаревич в представлении Победоносцева был воплощением и едва ли не неформальным вождем этой реальной, «народной» России, голос которой стал почти не различим за официальной ложью официальных отчетов. Именно этой России предстоит со временем сказать свое веское слово, и на нее в своей деятельности и должен ориентироваться цесаревич. «Об Вас, – писал ему Победоносцев, – не трубит слава, но передаются из уст в уста тихие речи, и все радостные… во всей России честные люди, преданные отечеству, понимают труд Ваш, глубоко сочувствуют Вам и следят за Вами с любовью и крепкой надеждой»{227}.
Не приходится сомневаться, что наследник престола одобрял подобные рассуждения. Его собственные взгляды на роль верхов и народа были к этому времени во многом сформированы самим же Победоносцевым, а пренебрежение, которому он подвергался со стороны родственников, и испытываемое им в связи с этим раздражение заставляли его особенно внимательно прислушиваться к словам бывшего наставника. То, что сообщал ему Победоносцев, зачастую воспринималось как истина в последней инстанции. «Благодарю Вас, добрейший Константин Петрович, за Ваши длинные и интересные письма, которые меня очень интересуют… В частных письмах не все решаются передавать правду», – писал цесаревич. Их духовная близость в годы войны еще укрепилась, что было особенно важно в свете того, что внешнеполитические потрясения, связанные с событиями на Балканах, очень скоро сменились внутриполитическими. В стране разразился кризис, связанный с подъемом революционного движения. Результатом этого кризиса стали гибель Александра II и вступление на престол его сына, вознесшее Победоносцева на вершину власти.
Начало царствования Александра III
Первые проявления общественно-политического кризиса, которому суждено было кардинально изменить направление правительственной политики и дать начало новому царствованию, поначалу не казались консервативному сановнику опасными. При всей неприязни к антиправительственным идеям он не считал серьезной угрозу, исходившую от русских революционеров. Когда осенью 1877 года правительство решило организовать большой судебный «процесс 193-х» над участниками состоявшегося за три года до этого «хождения в народ», эта затея была воспринята Победоносцевым как совершенно неуместная. «Достойным власти актом было бы – ради настоящей войны – всё это бросить и выпустить всё это стадо заблудших овец: не до того теперь, чтобы с ними возиться»{228}, – писал он Е. Ф. Тютчевой. Однако после покушения народницы Веры Засулич на петербургского градоначальника Трепова и особенно после ее оправдания судом присяжных Победоносцев осознал драматичность ситуации, грозившей самодержавию самими тяжелыми потрясениями, значительно более опасными, чем военные поражения. «Другая Плевна выросла, – писал он наследнику в апреле 1878 года, вскоре после суда над Засулич, – и причины открываются те же самые, и открывается бездна еще грознее, еще ужаснее прежней… мы спим; надобно проснуться, иначе всё пропало»{229}.
Опасность, по мнению Победоносцева, заключалась в том, что власть вместо подавления революционного движения быстрыми и жесткими мерами почему-то проявляла нерешительность и колебания, что, в свою очередь, провоцировало революционеров на новые выступления. «Потому страшно, – писал он наследнику престола, – что хотя поток невелик и грязен – гнила плотина, которая должна удержать его». Вялость правительства доводила Победоносцева буквально до исступления. В письме Александру Александровичу он заявлял: «Правительства нет, как оно должно быть, с твердой волей, с явным понятием о том, чего оно хочет, с решимостью защищать основные начала управления… Люди дряблые, с расколотой надвое мыслью, с раздвоенной волей… равнодушные ко всему, кроме своего спокойствия и интереса. Середины нет. Или такое правительство должно проснуться и встать, или оно погибнет»{230}.
Победоносцев считал, что следствием недостаточно энергичной деятельности правительства могли стать народные бунты в защиту самодержавия, и не переставал пугать цесаревича этой перспективой. «Может прийти минута, – писал он бывшему ученику в апреле 1879 года, после покушения народника Александра Соловьева на Александра II, – когда народ, в отчаянии, не узнавая правительства, в душе от него отречется и поколеблется признать своей ту власть, которая, вопреки писанию, без ума меч носит»{231}. Однако в глубине души консерватор, видимо, сознавал, что массы вряд ли поднимутся на бунт, а вот перспектива того, что пробравшиеся в коридоры власти изменники или просто легкомысленные люди навяжут народу чуждые ему политические принципы, в частности конституционное устройство, казалась вполне реальной. «Здравое, но смутное и сбитое с толку негодование масс на правительство»{232} не могло послужить надежной гарантией против подобного рода нововведений. Победоносцев очень боялся, что «конституция» (то есть ограничение царской власти какой-либо формой представительства) станет реальностью, и бдительно отслеживал все симптомы, которые могли указывать на то, что в верхах началось обсуждение каких-либо проектов с «конституционным» оттенком. Борьба против подобных проектов составит стержень политической деятельности консервативного сановника в период кризиса рубежа 1870—1880-х годов.
Какие меры предлагал Победоносцев для борьбы с революционным движением? Главное в этой сфере, с его точки зрения, зависело от личностного фактора. На ключевые посты вместо нынешних «евнухов» и «скопцов» следовало назначить наиболее решительных администраторов и максимально развязать им руки, дать возможность свободно действовать в рамках самых широких полномочий для подавления революционного движения. Необходимо, писал консерватор, «объединить власть, вооружив ее средствами для быстрой и решительной кары. Надобно, чтобы казнь следовала как можно скорее за преступлением»{233}. (Частичной реализацией его чаяний стало последовавшее вскоре назначение временных генерал-губернаторов с чрезвычайными полномочиями в ряд крупных городов России.) Попытки сбить накал кризиса путем какого-либо преобразования учреждений казались Победоносцеву делом абсолютно бессмысленным: «Когда у человека острая болезнь, например воспаление, которое угрожает в несколько дней унесть его совсем, надобно тотчас же лечить болезнь; безумно рассуждать, что вместо сильных средств следует иначе расставить мебель в комнате»{234}.
Принципы, которыми государство со времен реформы 1864 года стремилось руководствоваться в судебно-карательной деятельности (и которые когда-то вызывали у самого Победоносцева сильную симпатию), теперь воспринимались Константином Петровичем с крайним раздражением. Он негодовал, что в деле Засулич председатель суда – его бывший студент А. Ф. Кони, – следуя принципу формальной законности, допустил оправдание обвиняемой. «Правду – существенную и вечную, – писал Победоносцев Е. Ф. Тютчевой, – он перепутал с соблюдением форм, в которых полагает свободу и равенство, и боится в чем-нибудь преступить эту формальную правду»{235}. В условиях кризиса, настаивал консерватор, требуется сосредоточить как можно больше власти в руках решительных правителей, которые безошибочно определят правильный образ действий, опираясь на свою духовную близость к самодержавию и интуитивное понимание того, в чем заключается «существенная и вечная» правда. По мере нарастания в верхах противоречий и споров о дальнейшем политическом курсе Победоносцев всё более напористо продвигал свою программу, опираясь как на крепнущие контакты с наследником, так и на оказавшиеся в его собственных руках инструменты неформального политического влияния. Одним из таких инструментов стал Добровольный флот – морская судоходная компания. Руководство ею сыграло важную роль в возвышении Победоносцева.
Создание весной 1878 года Добровольного флота явилось результатом не слишком удачного для России завершения войны с Турцией, результаты коей под давлением великих держав, прежде всего Англии, пришлось пересмотреть на Берлинском конгрессе. Под впечатлением от выявившейся в ходе войны военно-технической слабости России представители московских патриотических кругов решили собрать деньги по подписке и закупить на них пароходы, которые в случае войны можно было бы переоборудовать в крейсеры. Инициаторы предприятия обратились за поддержкой к цесаревичу, а он попросил взяться задело Победоносцева. В результате с апреля 1878 года тот стал ведать сбором средств для высочайше утвержденного Комитета по устройству Добровольного флота, а в 1879-м возглавил правление общества.
Первоначально воспринявший московскую инициативу весьма скептически, подозревая в ней попытку косвенным путем добиться влияния на Александра Александровича, Победоносцев вскоре понял, что новая структура открывает ему значительные возможности в плане разворачивавшейся в то время борьбы в верхах. Прежде всего, вмешательство в дела, связанные с флотом, было дополнительным оружием против одного из столпов правительственного либерализма – великого князя Константина Николаевича. После того как Победоносцев занялся делами судоходной компании, в его переписке с цесаревичем всё чаще стали встречаться упоминания о преимуществе ее пароходов перед кораблями морского министерства, о пренебрежении, с которым великий князь Константин относится к своим прямым обязанностям, о том, что Добровольный флот вынужден брать на себя функции, от которых фактически отреклось министерство (в частности, организацию бесперебойной морской связи Центральной России с Дальним Востоком).
Руководство Добровольным флотом давало Победоносцеву возможность вмешиваться в самый широкий круг дел в различных сферах государственного управления. Здесь особенно ярко стали проявляться примечательные качества консерватора, которые и раньше были заметны в его отношениях с наследником престола, – стремление высказываться по самым разным административно-политическим вопросам и безусловная вера в свою способность эти вопросы решить. Еще в годы Русско-турецкой войны Константин Петрович авторитетно высказывался и о воспитании детей цесаревича, и о правильных, с его точки зрения, способах ведения военных действий. Теперь же, полемизируя со своим тезкой, великим князем, он подробно рассуждал о сравнительной пригодности для России различных типов крейсерских кораблей и грузовых судов; в письмах цесаревичу давал безапелляционные оценки администраторам, руководившим важными для Добровольного флота регионами (Таврической губернией, Одессой, Сахалином). Будущий обер-прокурор, не имевший никакого отношения ни к военной, ни к технической сфере, попытался заняться даже перевооружением русской армии и флота. Он руководил опытами по созданию «воздухоплавательных снарядов» (с целью поставить под удар Англию, недостижимую с суши), а также поддерживал инженера С. К. Джевецкого, занимавшегося созданием первых моделей подводных лодок.
Встав у руля Добровольного флота, Победоносцев впервые после 1869 года, когда прекратилось его наставничество в царской семье, смог занять официальное положение при наследнике, стать, по словам историка Ю. В. Готье, «его формальным сотрудником в деле, требовавшем определенных докладов, распоряжений и выбора людей»{236}. В определенной степени флот рассматривался им и как резервуар кадров, которые можно было использовать в борьбе за власть.
Одним из выдвиженцев Победоносцева, прошедшим через Добровольный флот, был упоминавшийся выше морской офицер, участник Русско-турецкой войны Николай Михайлович Баранов, прославившийся в 1877 году после сообщения, что находившийся под его командованием пароход «Веста», переоборудованный в крейсер, сумел выдержать неравный бой с турецким броненосцем. Впоследствии Баранова обвинили во лжи, он попал под суд и даже был уволен со службы, однако вину не признал и продолжал пользоваться доверием Победоносцева. В глазах бывшего профессора лихой капитан был воплощением излюбленного им типа администратора – «живого человека», способного действовать «с огнем», с энергией, не обращая слишком большого внимания на бюрократические формальности. «Есть в этом человеке огневая жилка, – писал Победоносцев Александру Александровичу, – и натура у него, при всех недостатках, бесспорно русская»{237}.
За пределами Добровольного флота будущий обер-прокурор также был склонен поддерживать тех администраторов и военачальников, которые проявляли качества «живых людей», были известны прославянскими симпатиями и в той или иной степени находились в оппозиции правительству Александра II. К их числу относились бывший посол в Константинополе Николай Павлович Игнатьев, выступавший в свое время за более решительную политику России на Балканах, генералы Михаил Дмитриевич Скобелев и Михаил Григорьевич Черняев.
В условиях кризиса близость к наследнику престола способствовала укреплению позиций Победоносцева в верхах. Когда после очередного террористического акта – взрыва в Зимнем дворце, устроенного народовольцем Степаном Халтуриным в феврале 1880 года, – к власти был призван генерал М. Т. Лорис-Меликов, получивший диктаторские полномочия, он включил консервативного сановника в состав Верховной распорядительной комиссии – чрезвычайного органа, призванного координировать деятельность всех государственных ведомств по борьбе с революционным движением. По представлению Лорис-Меликова бывший воспитатель цесаревича в апреле 1880 года был назначен на пост правительственного чиновника, ведавшего делами Русской православной церкви, – обер-прокурора Святейшего синода, а в декабре вошел в состав Комитета министров. Возвышая консерватора, генерал, безусловно, шел на политический маневр, рассчитывая таким образом укрепить отношения с цесаревичем, близость к которому Победоносцева была общеизвестна.
Сам же бывший наставник наследника поначалу воспринимал деятельность новоявленного диктатора достаточно благосклонно, видя в нем воплощение «сильной личности», способной решительными мерами подавить крамолу. Отношение начало меняться после того, как выяснилось, что генерал задумал изменить направление правительственной политики, намереваясь сочетать репрессии против революционеров с отдельными уступками «благомыслящим» слоям общества, апогеем которых должно было стать введение в России представительства. Подобная политика в глазах Победоносцева была совершенно недопустима, и борьба против Лорис-Меликова стала с конца 1880 года важнейшим направлением его правительственной деятельности.
Введение в России представительства, по мнению обер-прокурора, было мерой совершенно абсурдной и не только не положило бы конец кризису, но и довело бы его до предельной остроты. Он считал, что сторонники либеральных мер, вместо того чтобы заботиться об укреплении дисциплины, собирались «пустить куда-то – в свободное пространство – в так называемое общество важнейшие функции государственной власти»{238}. Не находя разумного объяснения появлению подобных проектов, Победоносцев делал вывод, что на ключевые посты в правительстве проникли изменники, которые исподволь готовят крушение государства. Измена, по его мнению, свила гнездо в святая святых государственного аппарата – Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Изменником он считал и великого князя Константина Николаевича. «Все простые русские люди, – написал Победоносцев Александру Александровичу уже после 1 марта, – говорят со страхом и ужасом о Мраморном дворце (резиденции Константина. – А. 77.). Мысль эта вкоренилась в народе»{239}.