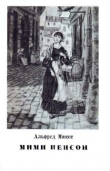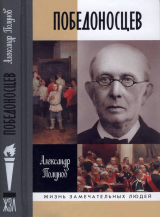
Текст книги "Победоносцев. Русский Торквемада"
Автор книги: Александр Полунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Занимая по этому вопросу жесткую позицию, Победоносцев в некоторых случаях всё же считал необходимым проявлять осторожность. Именно таким было поначалу его отношение к немецким элитам Прибалтийского (Остзейского) края и распространенному в этом регионе лютеранству, а также к периодически возникавшим здесь конфликтам на религиозной почве, связанным с заявлениями местных жителей – латышей и эстонцев – о желании перейти в православие. Как ни парадоксально, подобные заявления обер-прокурор на первых порах встречал без особого энтузиазма, ибо небезосновательно усматривал в них социальную подоплеку – стремление коренных жителей выйти из-под власти немецкого дворянства. Втягиваться в эту борьбу, связанную с протестом против давно сложившейся в империи системы социально-политических отношений, ему, естественно, не хотелось. Останавливало и понимание ограниченности возможностей Русской православной церкви в крае, где давно сложился собственный социально-культурный и религиозный уклад. «С одной стороны, – описывал Победоносцев Е. Ф. Тютчевой ситуацию в Прибалтике, где он побывал вскоре после назначения на пост обер-прокурора, – богатое всякими силами… лютеранство, с другой – наши убогие, нищенские церкви и приниженность духовенства… Дивно, чем мы еще держимся: так слабы наши силы!»{423}
Из этих соображений Победоносцев рекомендовал православному духовенству в Остзейском крае проявлять крайнюю осторожность, когда в 1883 году в связи с коронацией Александра III среди местных жителей возникло очередное движение за переход в православие. Однако надолго сохранить нейтралитет в развернувшейся вероисповедной борьбе он, разумеется, не мог. Первые же негативные отзывы местных баронов и пасторов о православии, их попытки остановить начавшееся движение заставили обер-прокурора занять гораздо более агрессивную, наступательную позицию по отношению к местным элитам. Он заявил, что считает невозможным «отдавать себя со связанными руками, и Церковь, и народность в руки иноверцам и иноземцам, смотрящим с презрением на нас и на нашу Церковь»{424}.
Последовали жесткие ограничительные меры по отношению к местной верхушке. Принимать в православие предписывалось через три недели после прошения (а не через полгода, как требовали бароны и пасторы). Землевладельцам запрещалось взимать с православных арендаторов традиционные для этого края сборы на содержание лютеранского духовенства, вводился закон о возможности принудительного отчуждения земель на нужды Русской православной церкви. В 1885 году были восстановлены отмененные за 20 лет до этого предбрачные подписки с разноверных супругов об обязательном воспитании детей в православии. Победоносцев поддержал эту меру, заявив, что отмена подписок обратилась «в страшное орудие лютеранской пропаганды и онемечения во всех слоях общества»{425}. Подтверждалось правило, согласно которому лица, записанные в православные метрические книги, не могли обращаться к пасторам за исполнением духовных треб, даже если считали себя лютеранами.
Вступление властей на путь вероисповедной борьбы в крае очень быстро привело именно к тем последствиям, которых изначально боялся Победоносцев. Принятие постановлений об отмене сборов с православных арендаторов и отчуждении земель заставило власти вмешиваться в сферу поземельных и имущественных отношений, вызвало массу тяжб и споров, которые никак не помогли укреплению на местах позиций Русской православной церкви, однако способствовали расшатыванию там социального порядка. Возможность легального нарушения прав собственности, предусмотренная в законе об отчуждении земель, напугала многих российских сановников, ощутивших классовую солидарность с остзейским дворянством. Представление об отчуждении, негодовал Половцов, «написано так, что у любого помещика можно отнять любой участок земли… путем военной реквизиции… любого помещика можно выгнать из дома и вселить в этот дом православную школу»{426}.
Объявление о восстановлении в полной мере правил о смешанных браках, требование строгого соблюдения порядка записей в метрических книгах привели к хаосу на местах. Власти начали возбуждать в большом количестве дела против пасторов, совершавших требы для формально приписанных к православию. Очень скоро количество отданных под суд пасторов стало исчисляться десятками. В некоторых приходах просто некому стало отправлять духовную службу. При этом губернское начальство стремилось трактовать действия пасторов как активное и сознательное религиозное преступление («совращение из православия»), что влекло за собой тяжелые наказания. Неудивительно, что у современников, особенно на Западе, известия о развернувшейся в Прибалтике вероисповедной борьбе вызывали в памяти эпизоды религиозных гонений давнего прошлого. Заговорили, как раздраженно заявлял сам Победоносцев, «о кострах инквизиции, о Варфоломеевской ночи, об отмене Нантского эдикта при Людовике XIV»{427}. Не приходится удивляться и тому, что принимавшиеся российскими властями меры, получившие широкую огласку за рубежом, вызвали там волну протестов. В 1888 году с ходатайством о прекращении религиозных гонений обратилась к Александру III влиятельная международная организация протестантов – Евангелический союз. Спустя год открытое письмо Победоносцеву опубликовал в Европе пастор Герман Дальтон, бывший глава реформатской общины в Петербурге, хорошо известный в Северной столице и до начала 1880-х годов поддерживавший с обер-прокурором дружеские отношения.
По предложению царя Победоносцев подготовил и опубликовал ответ на обращение Евангелического союза, однако его аргументы мало кому в России и на Западе показались убедительными. Обер-прокурор, в частности, заявил, что Россия в силу своей особой исторической миссии (вызвана «на стражу на пути великого переселения народов») имела право на своей территории подвергать ограничениям неправославные исповедания; однако аналогичные притеснения властями Австро-Венгрии проживавших на ее территории прорусских меньшинств неизменно вызывали его гнев. Не звучали убедительно и заявления, что «нигде в Европе инославные и даже нехристианские исповедания не пользуются столь широкой свободой, как посреди русского народа». Победоносцев в данном случае имел в виду возможность исповедовать ту или иную религию уже имеющейся паствой без права ее пропаганды (прозелитизма). Однако запрет на прозелитизм, наложенный в России на все конфессии, кроме православия, в Европе в конце XIX века уже виделся анахронизмом. Наконец, стремясь нанести по остзейской верхушке решающий удар, обер-прокурор обвинил ее, ни много ни мало, в антигосударственных замыслах и политической неблагонадежности – стремлении к «абсолютному господству в целом крае», стеснении «всяких попыток к единению с общим отечеством его – Русским Государством»{428}. Для обоснования подобных тяжких обвинений требовалось привести веские доказательства, которых у Победоносцева, естественно, не было.
Как и в случае с религиозным инакомыслием, на поприще противостояния с иноверием Победоносцеву приходилось преодолевать скрытое, но упорное сопротивление гражданских властей, вовсе не стремившихся подключаться к этой чуждой им вероисповедной борьбе. Подобное явление было заметно в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и Приуралье. Даже в Польше генерал-фельдмаршал Гурко, поначалу настроенный оказывать духовенству всемерное содействие, постепенно стал считать, что излишне продолжать, по словам Победоносцева, «кропотливую и неприятную работу» в сфере вероисповедной политики, и предоставил ее «собственному течению»{429}. Против религиозных гонений в Прибалтике почти открыто выступили и светские, в том числе центральные власти, даже министр внутренних дел Д. А. Толстой, один из столпов правительственного консерватизма. «Беда наша, – писал по этому поводу Победоносцев в 1884 году С. А. Рачинскому, – крайнее равнодушие М[инистерств]а внутренних] дел. В М[инистерст]ве вн[утренних] д[ел] готовы были бы и теперь продать это дело немцам – за канцелярское спокойствие»{430}.
Вновь, как и в случае с религиозным инакомыслием, Победоносцеву на поприще борьбы с иноверием пришлось столкнуться с сопротивлением судебного ведомства – оно всячески противилось попыткам расширить масштабы религиозных преследований, придав законам растяжимый характер. Так, основываясь на точном толковании законодательства, Сенат потребовал рассматривать исполнение в Остзейском крае пасторами треб для приписанных к православию не как религиозное преступление (совращение), а максимум как служебный проступок, ограничил в польских губерниях и Западном крае гонения на верующих, формально приписанных к православию, но фактически исповедовавших католицизм и исполнявших католические обряды.
В некоторых случаях постановления местных властей, отмененные решениями Сената, настолько резко расходились с существующими законами, что с решениями высшего судебного органа были вынуждены согласиться и царь, и сам Победоносцев. «И что это они там делают? И чего они путают? Вот уж усердие не по разуму!»{431} – восклицал, по словам Кони, обер-прокурор по поводу действий властей в польских губерниях и Западном крае. Однако нельзя не отметить, что это «усердие не по разуму» было следствием если не прямых указаний Победоносцева, то тех принципов, которых он придерживался в сфере вероисповедной борьбы. Очевидно также, что разворачивание этой борьбы в конкретных условиях конца XIX – начала XX века имело безусловно негативные последствия – оно сталкивало друг с другом различные правительственные ведомства, вело к нарушению принципа законности, крайне тяжело сказывалось на положении значительных масс населения, подвергавшихся преследованиям. Фактически своей политикой Победоносцев во многом подрывал основы того порядка, который стремился защитить.
«Критик, но не созидатель»
Конфликты, порождаемые действиями Победоносцева в отношении иноверия и религиозного инакомыслия, трения в отношениях с разными слоями духовенства, не говоря уже про общее неприятие его политики общественными кругами в России и на Западе, – всё это неуклонно подтачивало основы влияния обер-прокурора в верхах. Безусловно, его позиции подрывала и манера вмешиваться в дела самых разных ведомств, вызывавшая у их руководителей крайнее раздражение. Однако решающий удар по политическому влиянию консервативного сановника, его авторитету в глазах царя был нанесен, когда стало ясно, что взгляды Победоносцева серьезно расходятся с правительственным курсом. Речь шла о так называемых контрреформах – мерах по переустройству введенных в 1860—1870-е годы либеральных институтов, к которому правительство Александра III приступило с середины 1880-х. К удивлению многих высокопоставленных консерваторов, Победоносцев, славившийся неприязнью к политическому наследию Царя-освободителя, встретил эти шаги настороженно.
Вопрос об отношении обер-прокурора к контрреформам был и остается для исследователей его биографии и внутренней политики самодержавия последних десятилетий XIX века одним из самых сложных. Размышлять об этом начали уже современники. Высказывалось мнение, что в отношении к контрреформам проявилась сущность натуры обер-прокурора как «бюрократического нигилиста», всё подвергавшего сомнению, но бессильного что-либо сотворить. Однако с этим мнением не согласуется необычайная по масштабам и энергичная деятельность обер-прокурора в духовно-идеологической сфере, в частности на поприще развития церковных школ для народа. Предпринимались также (прежде всего, в советской историографии) попытки доказать, что Победоносцев, в сущности, был сторонником контрреформ, критикуя лишь их частные аспекты. Однако обер-прокурор наносил удар именно по важнейшим положениям, лежавшим в основе реакционных мер Александра III. Так или иначе, вопрос об отношении Победоносцева к контрреформам остается во многом открытым. Между тем очевидно, что для самого обер-прокурора эта проблема была очень важна.
«Законодательством минувшего 25-летия до того перепутали все прежние учреждения и все отношения властей, внесено в них столько начал ложных, не соответственных с внутренней экономией русского быта и земли нашей, что надобно особливое искусство, чтобы разобраться в этой путанице»; «Я вижу с великой скорбью, как всё оно (чиновничество. – А. П.) постепенно развращалось, как разрушались все начала и предания долга и чести, как люди слабые, равнодушные, ничтожные заступили место крепких и нужных»{432} – эти и подобные фразы, в изобилии представленные в переписке Победоносцева, казалось бы, не оставляют сомнений, что нововведения 1860—1870-х годов он безусловно отвергал, а шаги к их пересмотру должен был встретить с одобрением. Об этом вроде бы свидетельствовали и предложения, с которыми обер-прокурор начал выступать сразу после воцарения Александра III. Уже в конце марта 1881 года он ходатайствовал перед царем о содействии представителям администрации (попечителям учебных округов), вмешивавшимся в дела университетов, невзирая на предоставленную этим учебным заведениям автономию: «Остановить ее (смуту. – А. П.) нетрудно. Стоит только дать твердую поддержку людям порядка, которых везде много, но которые всюду обескуражены действиями министерской власти»{433}.
В сфере начального и среднего образования, по мнению обер-прокурора, следовало провести меры, фактически восстанавливающие принцип сословности, от которого также пытались отказаться в 1860—1870-е годы. «Люди низшего класса», заявлял он, должны получать «нехитрое, но солидное образование, нужное для жизни, а не для науки», не пытаться подниматься по образовательной лестнице «дальше и дальше к университетам». В подобных попытках, полагал Победоносцев, проявляется «фальшивая тяга кверху», из-за которой «отпадающие недоучки гибнут, отрываясь от среды своей». Наконец, обер-прокурор отвергал принцип выборности, на основе которого было реорганизовано управление крестьянами после отмены крепостного права, поскольку в малокультурной крестьянской среде он приводил к тому, что всё влияние на местах принадлежало «кулакам и горланам сходки». «Власть, – наставлял Победоносцев Александра III, – для того, чтобы быть властью действительной, должна носить на себе печать государства и иметь опору свою вне среды местной общественности»{434}.
В профессионально близкой ему судебной сфере обер-прокурор не ограничился общей критикой либеральных принципов, а выдвинул развернутый проект преобразований, предполагавший практически полную отмену основ судебных уставов 1864 года – всего того, за что сам он рьяно выступал в начале царствования Александра II. Опыт пореформенного развития, выявивший, с точки зрения обер-прокурора, преобладание в натуре человека негативных черт, трансформировал все принципы 1864 года в их противоположность: публичность превратила суд в спектакль ввиду «слабости нашей общественной среды губернской и уездной, при отсутствии в ней серьезных умственных интересов, при господстве в ней привычек к праздности, ищущей развлечения и сильных ощущений»; несменяемость судей полностью потеряла смысл, «ибо в нашей истории не могло образоваться доныне особливое судебное сословие, крепкое знанием, преданием и опытом и связанное чувством и сознанием корпоративной чести». Деятельность же адвокатов якобы стала нести едва ли не физическую угрозу всем участникам судебного процесса: «…терроризируют на суде и судей, и обвинителей, и свидетелей, возбуждая публику искусственными приемами, действующими на нервы».
Однозначно отрицательно оценивались обер-прокурором выборный мировой суд и присяжные, в эффективности которых он сомневался с самого начала. Все эти институты подлежали существенному ограничению или ликвидации. Функции же охраны прав и безопасности обывателей должны были, по мнению Победоносцева, выполнять не столько судебные органы, сколько администрация. Он настаивал: «Со стеснением исполнительной власти, долженствующей действовать быстро и на месте к устранению зла и к обеспечению безопасности, остались необеспеченными вовсе те самые существенные для народа интересы порядка, коих суд предполагался хранителем, но коих охранять он не в силах»{435}.
Испытывая к судебным уставам 1864 года острую, граничившую с аффектом неприязнь, руководитель духовного ведомства спустя два десятилетия выступил главным инициатором мер, нацеленных на пересмотр либеральных судебных законоположений. Под его давлением был принят закон о дисциплинарной ответственности судей (1885), ограничена гласность судебных заседаний (1887), сокращена компетенция суда присяжных (1889). Министр юстиции В. Д. Набоков, не проявлявший, по мнению Победоносцева, должной энергии в борьбе против судебных уставов, в 1885 году был смещен по его настоянию. Его преемник Николай Авксентьевич Манасеин вел себя, по воспоминаниям современников, «как приказчик» Победоносцева, и существенно продвинулся вперед в деле пересмотра судебных порядков. Эти и другие меры, а также приведенные выше высказывания обер-прокурора дали повод ряду историков называть его активным сторонником контрреформ или даже их инициатором. Однако реальность была намного сложнее.
Если оставить в стороне вопрос о судебных уставах (к которым у Победоносцева были претензии со времен его участия в правительственных комиссиях 1860-х годов), можно заметить любопытную особенность: каждый раз, когда намечался переход от общих рассуждений о необходимости «укрепления сильной власти», «борьбы со смутой» и т. д. к конкретным мерам по пересмотру законодательства 1860—1870-х годов, обер-прокурор – казалось бы, решительный и несгибаемый борец с либерализмом – начинал проявлять осторожность. Это стало очевидно уже в 1883–1884 годах, когда в верхах был поставлен вопрос о принятии нового университетского устава, призванного отменить введенное за 20 лет до этого либеральное законодательство о высшей школе. Эта мера вроде бы соответствовала самым заветным чаяниям Победоносцева, однако он воспринял ее без всякого энтузиазма. Более того, он начал пугать инициаторов контрреформы – М. Н. Каткова, Д. А. Толстого, И. Д. Делянова – едва ли не катастрофическими последствиями: «…последует такой в деле народного образования крах, что сам виновник реформы Делянов не переживет его»{436}. Сопротивление обер-прокурора удалось сломить лишь после того, как проект контрреформы был вынесен на обсуждение особого совещания со специально подобранным составом сановников. Оставшись среди них в одиночестве, обер-прокурор был вынужден смириться.
История повторилась при обсуждении последующих мер из пакета контрреформ – введения должностей земских участковых начальников, призванных ужесточить надзор за крестьянским самоуправлением, и нового положения о земстве. Опять, когда дело дошло до обсуждения конкретных аспектов предстоящих преобразований, обер-прокурором овладели нерешительность и скептицизм, он начал высказывать возражения против предложенных мер, причем возражения эти, подчеркнул историк Петр Андреевич Зайончковский, касались не каких-то второстепенных аспектов нововведений, а их принципиальных основ{437}. В случае с университетской контрреформой это был протест против расширения власти попечителя учебного округа за счет прерогатив ректора, полного отстранения преподавателей от выборов ректора, а главное – введения государственных экзаменов, с помощью которых разработчики контрреформы намеревались контролировать содержание преподавания. При разработке законопроекта о земских начальниках Победоносцев выступал против соединения в их руках судебной и административной власти, придания этому институту сословного характера (земским начальникам на местах подчинялось бы только крестьянство). Наконец, в случае с земской контрреформой удар наносился по центральной идее проекта – попытке ликвидации самостоятельных исполнительных органов земств – управ, с заменой их специально созданными бюрократическими структурами.
Надо сказать, что позиция, занятая Победоносцевым, стала крайне неприятным сюрпризом для его соратников по консервативному лагерю. Они терялись в догадках, пытаясь понять, чем же вызвано столь странное поведение обер-прокурора, и списывали его на разного рода сторонние влияния, на проявления пресловутого «бюрократического нигилизма». Немедленно началось давление на Победоносцева, принимавшее всё более резкий характер. Так, Д. А. Толстой при обсуждении законопроекта о земских начальниках заявил, что подаст в отставку, если убедится в непримиримой враждебности обер-прокурора. В конце концов глава духовного ведомства, как и в случае с университетской контрреформой, вынужден был уступить, однако проголосовал за введение постов земских начальников, по его собственным словам, лишь потому, что не видел лучшей альтернативы и надеялся, что вскоре нововведение будет пересмотрено.
В чем заключались причины стойкой неприязни консервативного сановника к контрреформам? Почему он, рискуя подорвать свою репутацию в глазах царя, теряя связи с соратниками по консервативному лагерю, до последнего отказывался одобрить намечаемые меры и шел на это лишь после того, как у него фактически не оставалось выбора?
Одной из причин была ярко выраженная продворянская направленность этих реакционных мер, по сути, попытка возродить особое значение поместного дворянства как некой привилегированной опоры общественного порядка. Победоносцеву, ратовавшему за надсословную монархию, стороннику равенства всех слоев общества перед лицом самодержавной власти, подобные устремления казались абсурдом. Уже в конце 1890-х годов он предельно ясно выразил эту мысль в письме министру финансов Сергею Юльевичу Витте: «Создано учреждение земских начальников с мыслью обуздать народ посредством дворян, забыв, что дворяне одинаково со всем народом подлежат обузданию»{438}. В период обсуждения нового земского положения глава духовного ведомства твердо высказался против автоматического, без выборов, включения особо состоятельных помещиков в состав земских собраний, при помощи которого авторы проекта пытались расширить социальную базу самодержавия. «Крупное землевладение, – заявлял Победоносцев в отзыве на законопроект, – само по себе далеко не представляет надежного ручательства политической благонадежности»{439}. Эти и подобные высказывания ярко демонстрировали истинное отношение бывшего воспитателя царя к российскому «благородному сословию». Видимо, не является большим преувеличением замечание В. П. Мещерского (перешедшего к концу 1880-х годов в стан противников Победоносцева), что в период обсуждения контрреформ тот «ко всему, что соединялось с дворянством, относился почти неприязненно»{440}.
Надо сказать, что «почти неприязненное» (или просто неприязненное) отношение к «благородному сословию» сохранится у Победоносцева до конца его карьеры. Особенно отчетливо оно проявится во второй половине 1890-х годов, когда правительство Николая II, продолжая намеченную при Александре III линию, примет целый ряд мер по материальной поддержке поместного дворянства. Обер-прокурор будет в эти годы выступать единым фронтом с Витте, резко критиковавшим продворянский правительственный курс. «Фабрикуется венец благополучия для дворян, – писал глава духовного ведомства министру финансов в 1898 году по поводу учреждения Особого совещания по делам дворянского сословия. – Ваша записка и направлена… против этой односторонней государственной заботы». «Смешно… как топорщится благородное дворянское сословие»; «дворянство-дворянство – наладила сорока Якова!»{441} – эти и подобные саркастические замечания, которыми наполнены письма Победоносцева второй половины 1890-х годов, не оставляют сомнения в том, что к попыткам придать политике правительства односторонне сословный характер он относился крайне скептически. Собственно, этот скепсис и стал одной из причин потери обер-прокурором прежнего влияния в верхах и подрыва его репутации в глазах царя. Мысль, что именно «благородное сословие» является наиболее верной опорой престола, с конца 1880-х годов достаточно прочно утвердилась в окружении Александра III, и попытки оспорить ее не вызывали ничего, кроме раздражения и неприязни монарха.
Помимо продворянской направленности контрреформы могли отталкивать обер-прокурора и тем, что ограничение либеральных начал в системе управления сопровождалось дальнейшей бюрократизацией правительственного аппарата. У Победоносцева, сторонника «живого», небюрократического самодержавия и патриархальных методов управления, это вызывало опасения. Видимо, поэтому при обсуждении земской контрреформы глава духовного ведомства не решился поддержать полное подчинение органов местного самоуправления правительственной бюрократии, несмотря на неприязнь к выборному началу и представительным институтам. «Позволительно спросить, – писал обер-прокурор по поводу намеченной ликвидации земских управ, – для чего нужно это коренное, по мнению моему, извращение первичной мысли законодательства и восстановление в местном хозяйственном управлении именно того бюрократического начала, которого желательно было бы законодателю… избежать в нем?»{442}
Выступления в защиту автономии провинций и местных общин, протест против сосредоточения слишком больших полномочий в руках «беспочвенной» столичной бюрократии были в XIX веке весьма характерны для западной консервативной мысли, оказавшей влияние на Победоносцева. В частности, об этом много писал Ф. Ле Пле, пользовавшийся у российского консерватора огромным авторитетом. Примечательно, что в статье о Ле Пле, над которой глава духовного ведомства работал как раз на рубеже 1880– 1890-х годов, он счел необходимым особо выделить все моменты, которые французский социолог связывал с обоснованием ограничения вмешательства центральных властей в дела местных сообществ. Община, заявлял (в изложении Победоносцева) Ле Пле, «есть истинная и законная область демократии»; необходимо освободить центральное правительство «от дел частного интереса и местной администрации, которые с большей пользой могут быть возложены на местные власти или предоставлены самим гражданам»; последние «при ежедневном соприкосновении с местными вопросами могут приобретать… привычку к управлению и мало-помалу переходить к управлению областному… и государственному»{443}.
Когда в правительстве началось обсуждение закона о земских начальниках и нового земского положения, Победоносцев прислал Д. А. Толстому один из основополагающих трудов Ле Пле «Организация семьи», явно намекая на необходимость использовать концепцию французского социолога. В письме министру внутренних дел обер-прокурор подчеркивал, что Ле Пле – «один из умнейших людей и солиднейших писателей нашего века», чьи сочинения «считаются классическими в кругу серьезных государственных деятелей»{444}.
Безусловно, построения западных консерваторов, отстаивавших приоритет традиционных, патриархальных начал в системе управления, в целом совпадавшие по духу с идеями самого Победоносцева, были важным фактором, обусловившим своеобразие его позиции в период разработки контрреформ. Однако решающую роль в определении этой позиции сыграли, видимо, фундаментальные воззрения Константина Петровича, его представления о соотношении «внешнего» и «внутреннего», «формального» и «духовного», «людей» и «учреждений».
Еще со времен реформ 1860-х годов относясь с опаской к любой законотворческой деятельности, будучи убежден, что начала общественного благоустройства не связаны с той или иной конструкцией «учреждений», а уходят корнями во внутренний мир людей, Победоносцев просто не видел необходимости в очередном переустройстве административных и социальных институтов, пусть и проходившем на этот раз под консервативными лозунгами. Ключ к улучшению системы управления – это не бесконечные преобразования, подрывающие общественную стабильность и ведущие к непредсказуемым последствиям, а напряженная ежедневная деятельность каждого на своем месте в рамках существующих учреждений, назначение достойных людей на важнейшие государственные посты, личный контроль царя и его доверенного советника над всеми важными вопросами. «Мы, – заявлял глава духовного ведомства Рачинскому в 1883 году, – живем в век трансформаций всякого рода в устройстве администрации и общественного управления. До сих пор последующее оказывалось едва ли не хуже предыдущего… У меня больше веры в улучшение людей, нежели учреждений»{445}.
Пытаясь донести столь важную для него мысль о соотношении «людей» и «учреждений» до тех, кто определял развитие государственного управления в России, обер-прокурор непрерывно повторял ее в беседах с высокопоставленными персонами во время обсуждения университетского устава 1884 года – первой контрреформы, которая должна была задать направление всему последующему законодательству Александра III. «[Победоносцев] постоянно возвращается к своему любимому тезису, что учреждения не имеют значения, а всё дело в людях»; «приходит Победоносцев и в течение целого часа плачет на ту тему, что учреждения не имеют важности, а всё зависит от людей»; «Победоносцев не перестает восклицать: «Нету людей! Художника нету, чтобы всё это сводить к единству!»{446} – записывал в дневнике Половцов в 1883–1884 годах. Наконец, уже в 1888 году, спустя четыре года после принятия университетского устава, обер-прокурор счел необходимым повторить ту же мысль в письме царю: «Зачем строить новое учреждение… когда старое учреждение потому только бессильно, что люди не делают в нем своего дела как следует?»{447}
Представляется, что именно этой установкой – «люди, а не учреждения», – а не просто повышенной настороженностью, полным отсутствием позитивной программы определялась позиция Победоносцева в отношении проводимых контрреформ. В целом с учетом системы воззрений обер-прокурора она выглядела вполне логичной. Однако для большей части современников, в том числе соратников Константина Петровича по консервативному лагерю, эта позиция оказалась совершенно непонятна, ведь, выступая с критикой контрреформ, он играл на руку либеральной оппозиции. Сторонники контрреформ, в первую очередь совершенно не склонный к компромиссам Катков, немедленно и в жесткой форме потребовали от Победоносцева изменить отношение к мерам, предлагаемым его единомышленниками в правительстве, прежде всего Толстым и Деляновым. «Неужели, – вопрошал московский публицист в период разработки университетского устава, – гр[аф] Толстой, которому вверена самая безопасность государства, так легкомыслен… внес в государственный совет проект закона, исполненный таких чудовищных несообразностей, что Вы нашлись вынужденным (так в тексте. – А. П.) вступить в коалицию даже с заклятыми противниками Вашего образа мыслей, лишь бы избавить Россию от пагубы, задуманной графом Толстым?»{448} Но напрасно Победоносцев призывал сторонников контрреформ проявить терпимость и широту взглядов, тщетно сетовал на неумение единомышленников Каткова и Толстого отличить «несогласие во мнениях от пристрастия», безуспешно заявлял, что «это плохое средство – бросать укорами в противника и характеризовать его глупым только потому, что он другого мнения»{449}. Когда на кон были поставлены судьбы страны (а Катков, максималист не в меньшей степени, чем Победоносцев, воспринимал ситуацию именно так), даже малейшее, с точки зрения консерваторов, отклонение от «правильной» политической линии считалось абсолютно невозможным.