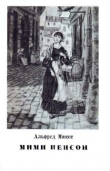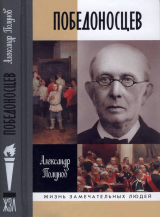
Текст книги "Победоносцев. Русский Торквемада"
Автор книги: Александр Полунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
«Великая ложь нашего времени»
Разоблачение тотальной дефективности институтов политической демократии, принятие всех возможных мер, чтобы не допустить их внедрения в России, – эти направления деятельности имели огромное значение для Победоносцева. Он стремился всесторонне и фундаментально обосновать свои начинания в этих сферах. Российский консерватор был хорошо знаком с политической жизнью Западной Европы, где в течение всего XIX века утверждение демократических институтов сопровождала острая борьба. Победоносцев внимательно следил за западной прессой, читал выходившие на Западе сочинения по политическим вопросам, состоял в переписке с европейскими политиками и учеными, сам, как упоминалось выше, не раз бывал в европейских странах. Картины разворачивавшихся там политических катаклизмов – крушение Второй империи и борьба вокруг утверждения республики во Франции, затяжная гражданская война в Испании, противоборство государства и Церкви («Культуркампф») в Германии – давали сановному публицисту обильный материал для рас-суждений, доказывавший, с его точки зрения, деструктивную природу политических институтов, основанных на принципах демократии и секулярного (свободного от церковного влияния) государства.
Критикуя утверждавшиеся на Западе институты политической демократии, Победоносцев прибегал к своеобразному приему – черпал свои аргументы из сочинений западных авторов, к числу которых, помимо упоминавшихся выше Карлейля и Ле Пле, принадлежали консервативные английские правоведы Генри Джеймс Самнер Мэн и Джеймс Фитцджеймс Стивен, французские педагоги и публицисты Эдмон Демолен и Этьен Лами и даже один из основателей сионизма – франко-германский публицист Макс Нордау (Симон Зюдфельд), критиковавший «слева» институты представительной демократии. Переводы и переложения сочинений этих авторов, информацию о них Победоносцев на протяжении второй половины XIX – начала XX века публиковал как отдельными изданиями, так и в виде статей в консервативных газетах и журналах («Гражданин», «Русское обозрение», «Московские ведомости»). Многие из этих материалов вошли в его главное публицистическое сочинение – «Московский сборник». Помимо собственно политических вопросов, российский консерватор большое внимание уделял борьбе против атеизма и секуляризма, требований отделения Церкви от государства и введения безрелигиозной системы образования, также получавших всё большее распространение в странах Европы.
Вся совокупность утверждавшихся на Западе новейших политических и идеологических принципов – демократии, секуляризма, идейно-политического плюрализма, введения или расширения избирательного права – подрывала, с точки зрения Победоносцева, стабильность европейских государств и вела большую часть их к гибели. Ярчайшим доказательством этого он считал судьбу Франции – родины или очага всех новейших европейских революций. Попытавшись после 1789 года положить в основу своей политической системы принцип «воли народа» – неопределенной, неуловимой и постоянно меняющейся, – эта страна никак не может выйти из череды кровавых катаклизмов (от революции к реставрации, от республики к монархии, от традиционной династии к империи и снова к республике, и так до бесконечности). Единственной опорой общественного порядка, по Победоносцеву, могла быть исторически сложившаяся государственность, унаследованная от предков, имеющая божественную санкцию и не зависящая от воли людей. «Как скоро власть, – писал он в 1873 году, вскоре после падения Второй империи во Франции, – сорвалась с основ своих и обществом овладело недоумение о том, где власть законная и кто ее непререкаемый представитель, – всё общество выходит из своей орбиты и стремится в пространство блудящей кометой… мятется во все стороны, не находя уверенности и безопасности»{103}.
Политическая демократия, с точки зрения Константина Петровича, являла собой типичный пример формально правильной, но по существу ложной конструкции, источником которой было абстрактное теоретизирование оторванных от жизни либеральных политиков и интеллигентов. Так, введение избирательной системы наделе вовсе не вверяло власть народу, как провозглашали вожди демократии, а лишь готовило почву для утверждения новой деспотии – значительно более жесткой, чем традиционная монархия. Власть в рамках избирательной системы оказывалась раздробленной на множество фрагментов, каждый в отдельности бессильный. Наделенная такими бесполезными обломками масса рядовых избирателей оказывалась беспомощной игрушкой в руках парламентских демагогов, теряла способность осмысливать свои истинные интересы и начинала действовать фактически себе в ущерб. Выбор в рамках демократической системы, утверждал Победоносцев, «должен бы падать на разумного и способного, в действительности падает на того, кто нахальнее суется вперед». Образование, опыт, добросовестность при избирательной системе вовсе не требовались – «тут важнее всего смелость, самоуверенность в соединении с ораторством и некоторой пошлостью, нередко действующей на массу»{104}.
С точки зрения Победоносцева, попытка вверить сложнейшие вопросы государственного управления массе обычных людей ведет к недопустимой профанации всей сферы политической деятельности. Будучи втянут в политическую жизнь, народ может проявить себя лишь как «толпа»: «быстро увлекается общими местами, облеченными в громкие фразы, общими выводами и положениями, не помышляя о поверке их, которая для нее недоступна… слушает лишь того, кто кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе наклонности»{105}. Чтобы избежать подобной ситуации, власть и опека над народом должны принадлежать узкому кругу мудрецов, наделенных солидным багажом практического опыта, прошедших долгую школу изучения механизмов управления и народной жизни. «Ясность сознания, – утверждал русский консерватор, – доступна лишь немногим умам, составляющим аристократию интеллигенции, а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит из толпы «vulgus»[12]12
Чернь, простонародье (лат.).
[Закрыть], и ее представления по необходимости будут «вульгарные»{106}.
Для Победоносцева была характерна скептическая и главным образом пессимистическая оценка человеческой натуры. Сознавая раздвоенность природы человека, борьбу в его душе доброго и злого начал, он в конечном счете всё-таки склонялся к мысли о преобладании последнего. «Печальное будет время, – писал Константин Петрович, – когда водворится проповедуемый ныне новый культ человечества. Личность человеческая немного будет в нем значить; снимутся и те, какие существуют теперь, нравственные преграды насилию и самовластию»{107}. Скепсис, подозрительность, недоверие – эти его качества, с годами усиливаясь, всё больше бросались в глаза современникам. «В течение более 20-летних дружеских отношений с Победоносцевым, – вспоминал близко знакомый с обер-прокурором консервативный публицист князь Владимир Петрович Мещерский, – мне ни разу не пришлось услыхать от него… прямо и просто сказанного хорошего отзыва о человеке»{108}. Сходные отзывы содержатся и в мемуарах других людей, встречавшихся с Победоносцевым.
Читая сочинения западных консерваторов (в первую очередь англичан), российский сановник сочувственно отмечал в них пассажи, в которых говорилось о господстве силы в системе человеческих отношений, о невозможности полагаться только на добрые качества человеческой натуры, о неизбежности проявлений неравенства и несправедливости. Важным эпизодом в публицистической деятельности Победоносцева стало подготовленное им в 1873 году для журнала «Гражданин» сообщение о книге английского юриста сэра Джеймса Фитцджеймса Стивена «Свобода, равенство, братство», содержавшей критику воззрений либеральных авторов – Огюста Конта, Джона Стюарта Милля, Генри Томаса Бокля. Будущий обер-прокурор, цитируя англичанина, акцентировал внимание русского читателя на том, что «и нравственное учение, и религия» обращаются к страху в душе человеческой «гораздо еще больше, чем к надежде», что «едва ли есть хоть один добрый навык, который можно было бы приобресть иначе как посредством стеснений, более или менее отяготительных». Встречались в книге Стивена и еще более резкие заявления: «Люди – это собаки на своре, вместе связаны и рвутся в разные стороны»; «сила повсюду предшествует праву»{109}. Специально оговорив, что некоторые оценки британского коллеги звучат чересчур резко, сановный публицист всё же счел необходимым поддержать большинство их, отметив, что, к сожалению, они подтверждаются жизнью.
Все институты, которые втягивали народ в активную общественно-политическую жизнь, портили его и превращали тем самым в «толпу», расценивались Победоносцевым крайне отрицательно, хотя раньше он нередко возлагал на них надежду в плане улучшения российских порядков. Адвокатов он считал алчной корпорацией, которой движет интерес «самолюбия и корысти» и которая «упражняется в искусстве софистики и логомахии для того, чтобы действовать на массу». Представители общества в зале судебного заседания – это «смешанная толпа публики, приходящей на суд, как на зрелище посреди праздной и бедной содержанием жизни». Наконец, присяжные – «пестрое, смешанное стадо… собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки»{110}.
Пожалуй, наибольшее негодование из всех институтов современного общества вызывала у Победоносцева периодическая печать – именно потому, что была способна быстро оказать воздействие на значительные массы населения, самим фактом своего существования тревожила умственный покой «простого человека» и прививала ему нездоровую тягу к рассуждениям о политических вопросах. Наивно думать, заявлял Константин Петрович, что печать отражает общественное мнение; нет, она активно формирует его «под себя», подвергая разного рода манипуляциям. С появлением массовой прессы, полагал он, весьма широкий круг людей получил возможность доступа к рычагам идеологического воздействия на общество, однако из-за доминирования в человеческой натуре негативных начал большинство самозваных «властителей дум» использовали эту возможность во зло. «Любой уличный проходимец, – с возмущением писал Победоносцев, – любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писак… и он может с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность»{111}. В этих условиях власть просто не могла самоустраниться, в ее обязанности входило осуществление попечения над простыми людьми: «охранять «малых сих», верующих в нее, т. е. многомиллионный народ, от яда и соблазна»{112}.
Фактически все институты современного общества, с точки зрения Победоносцева, оказывались тотально испорченными, в чем нельзя не увидеть опрощенной оценки сложной и неоднозначной реальности. Однако в действиях Победоносцева была своя логика. В условиях, когда страна, как ему казалось, катилась в пропасть, и в суждениях о политике, и – особенно – в действиях тех, кто был облечен властью, должны были присутствовать определенность и однозначность, создающие основу для быстрых, решительных мер. В целом все попытки обратить внимание на сложный, противоречивый характер различных явлений социальной действительности вызывали у Победоносцева глубокое подозрение в стремлении уйти от ответственности, «размыть» четкую линию политического поведения в море отвлеченных рассуждений. Лучший деятель, заявлял консерватор, «не тот, кто, смешивая цвета и оттенки, способен доказывать, что в черном есть белое и в белом черное, но тот, кто прямо и сознательно называет белое белым и черное черным»{113}.
Разумеется, настаивая на «черно-белой» оценке всех явлений, консервативный сановник не мог увидеть в столь ненавистной ему демократии каких-либо позитивных сторон, и все элементы этой политической системы оценивались им однозначно отрицательно. Победоносцев был глубоко убежден, что все государства, которые ввели у себя демократические институты, неудержимо валятся в пропасть. Избранные в парламент депутаты не представляют в нем население, как это предполагается теоретически, а лишь узурпируют волю народа в своих интересах. Так же по отношению к самим депутатам поступают министры, которым те вверяют задачи текущего управления. В самом парламенте демократия оборачивается полной фикцией – в том числе и потому, что никакие демократические институты не могут отменить извечного неравенства, основанного на различном распределении способностей, волевых качеств и дарований: «Люди по природе делятся на две категории: одни не терпят над собой никакой власти и потому необходимо стремятся господствовать… [другие] как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо, следующее за людьми воли и решения, составляющими меньшинство… Они как бы инстинктивно «ищут вождя» и становятся послушными его орудиями»{114}. В результате партийные фракции, складывающиеся в парламенте, оказываются подчинены деспотической власти своих руководителей.
Подобная ситуация складывалась и в масштабах всего общества, демонстрируя, что демократические институты не только не закрепляют обещанные свободы, но парадоксальным образом способствуют их падению: «Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента с той лишь разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли, а в парламенте нет его… Политическая свобода становится фикцией, поддерживаемой на бумаге, параграфами и фразами конституции. Начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе… Такое состояние ведет неотразимо к анархии, от которой общество спасается одной лишь диктатурой, т. е. восстановлением единой воли и единой власти в правлении»{115}.
Вся история стран, пытавшихся в XIX веке ввести у себя институты политической демократии, показывала, по мнению Победоносцева, пример развития этой тенденции. Одной из жертв конституционных преобразований стали страны Балканского полуострова, куда «представительные учреждения внесли сразу разлагающее влияние народной жизни, представляя из себя в иных случаях жалкую карикатуру Запада». Парламент Испании, погруженной в пучину перманентной гражданской войны, являл собой «картину невообразимой, ни к чему серьезному не ведущей болтовни». Наконец, бывшие латиноамериканские колонии Испании демонстрировали еще одну тенденцию, порождаемую демократией, – перерастание последней через анархию в диктатуру. Победоносцев с ужасом писал о «том чудовищном и поучительном зрелище, которое представляют многочисленные республики Южной Америки», вся история которых «представляет непрестанную смену ожесточенной резни между народной толпой и войсками, прерываемую правлением деспотов, напоминающих Коммода или Калигулу»{116}.
Главной жертвой политических пертурбаций, связанных с попытками введения демократии, оказывались, по мнению Победоносцева, простые люди, рядовые обыватели, хотя именно им поборники демократических начал собирались вверить государственную власть. «Замечательнее всего, – отмечал русский консерватор в статье про Францию, – что в этой политической игре, которую ведут между собой партии, хотя всё делается именем народа, до народа, в сущности, никому дела нет. Народ… сбит с толку и совсем не понимает, что делается наверху с его правительством». Подобное явление, на его взгляд, было глубоко закономерно: первая потребность массы – «это потребность в твердом, установленном правительстве, а когда его нет, положение массы печально». Инстинктивно пускаясь на поиски твердой власти и прочных основ духовной жизни, народ обращается к религии, и взрыв религиозных настроений во Франции в 1870-х годах, с точки зрения Победоносцева, об этом свидетельствовал: «В нем выражается вопль простого человека, потерянного в смятенном своем отечестве и сбитого с толку, – вопль к Богу о судьбах своей несчастной родины»{117}.
Оказывая негативное влияние на политическую стабильность во всех государствах, институты демократии, по мнению Победоносцева, вели к особо разрушительным последствиям в государствах многонациональных. «Национализм в наше время можно назвать пробным камнем, на котором обнаруживается непрактичность и лживость парламентского правления»; в многонациональном государстве при введении парламентских учреждений «каждое племя из своей местности высылает своих представителей – не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти и к господствующему племени, и к другим племенам». «Монархия неограниченная, – утверждал консерватор, – успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы не одной только силой, но и уравнением прав и отношений под одной властью»{118}, демократия же не в силах с ними справиться; поэтому многонациональные державы, вводящие у себя демократические институты, стремительно идут к распаду, тенденции которого, по мысли Победоносцева, уже вполне отчетливо проявились в политической жизни западной соседки России – Австро-Венгрии.
Исключением из общемировой тенденции, связанной с развитием демократических институтов, казалось бы, служила родина парламентаризма – Англия. Однако для Победоносцева пример этой страны, которую он хорошо знал, не раз в ней бывал и внимательно следил за тамошней политической жизнью, не был доказательством, поскольку островное государство изначально развивалось в весьма специфических условиях, воспроизвести которые невозможно ни в одной из стран континентальной Европы, не говоря уже о неевропейской периферии. Центром общественного развития в Англии со времен раннего Средневековья служила независимая личность, все институты управления росли «снизу», а парламент стал их органичным завершением; в жизни же других европейских стран централизованная и зачастую авторитарная государственная власть служила стержнем общественного устройства, и все попытки «насадить» на эту структуру легкомысленно заимствованные парламентские институты могут привести лишь к разрушительным результатам.
Но даже в Англии, при всей важности для нее парламентских институтов, политическую стабильность, полагал российский консерватор, обеспечивали не сами по себе представительные учреждения, а прочность исторических традиций, на которые опирались функционирование механизмов управления, признание народом безоговорочного авторитета своих элит, готовность повиноваться указаниям признанных правителей. «Сила закона (коего люди не знают) поддерживается, в сущности, уважением к власти, которая орудует законом, и доверием к разуму ее, искусству и знанию»{119}, – утверждал Победоносцев.
Чрезвычайно цельный в убеждениях, Победоносцев, придя к выводу о тотально деструктивном характере парламентских институтов, не мог допустить ни одного исключения из выведенной им формулы – иначе рушилась бы вся система его взглядов. Поэтому в его представлении крах должен был постигнуть и парламентские институты Англии. «Всякая конституция, на представительстве основанная, есть ложь, – заявлял обер-прокурор в письме публицистке славянофильского направления Ольге Алексеевне Новиковой, проживавшей в Лондоне и служившей ему посредницей в общении с представителями английских элит. – Рано или поздно в этом убедятся все Европ[ейские] народы, не исключая и Британцев. У них держится порядок, можно сказать, вопреки форме правительства, сделками с ней – и силой характера народного и исторического смысла. Но и у них он изнашивается»{120}. Значительным и безусловно негативным, с точки зрения Победоносцева, было воздействие демократических начал на религию и Церковь – те аспекты жизни общества, которые имели для консерватора особое значение.
Духовные основы консервативного порядка
Вопросы веры и религиозных институтов находились в центре внимания Победоносцева уже в силу того значения, которое он придавал механизмам интуитивного, непосредственного восприятия, безотчетной верности традициям, лежавшим, по его мнению, в основе спасительного для России народного консерватизма. На вере, заявлял он, «всё у нас держится», и ей «следует дорожить более всего, ибо отнимите эту веру, и всё рухнет»{121}. Осознание важности социально-политической роли веры и Церкви в системе представлений Победоносцева тесно смыкалось с унаследованными от предков нормами, среди которых приверженность религиозным началам, благочестие играли огромную роль. Многие современники отмечали, что к своей деятельности на сугубо бюрократическом посту обер-прокурора Синода он относился едва ли не с миссионерским пылом, сильно отличавшим его от большинства предшественников, в целом равнодушных к вопросам религии. Собеседникам Победоносцев нередко напоминал то средневекового монаха, то духовного иерарха, то проповедника, лишь по ошибке облаченного в чиновничий мундир. Не случайно на разных этапах биографии консервативного сановника его знакомые – иногда в шутку, а иногда и всерьез – прочили ему пострижение в монахи и посвящение в архиерейский сан.
Победоносцев был глубоко убежден, что секулярные тенденции, охватившие в XIX веке самые разные социальные сферы – от массового и индивидуального сознания до образования и государственных структур, – вкупе со столь же вредоносным, как он считал, процессом насаждения институтов политической демократии приведут общество к катастрофе. Попытки уменьшить значение религии или вовсе изъять ее из жизни общества неизбежно откроют путь деструктивным процессам, ибо общественная мораль – главная основа социальной стабильности – может базироваться только на религиозных началах. Без апелляции к высшим ценностям, настаивал Победоносцев, невозможно сформулировать идеалы, которые будут побуждать людей держаться вместе в рамках сколько-нибудь мирных, цивилизованных отношений. «Атеизм, – настаивал он в статье, основанной на материалах работ английского писателя и богослова Уильяма Харрела Мэллока, – не в силах выставить перед людьми ясный и действительный образ… счастья, да и немыслим такой образ в круге земных вещей и в пределах земной жизни. Мы слышим от него только такие речи: разве добродетель не должна сама себе служить наградой? Разве люди должны быть добры, великодушны, правдивы, мужественны только из расчета на награду в будущей жизни или из страха наказаний? Разве не следует стремиться к этим качествам ради их самих?.. Но все эти речи и подобные им только рассыпаются звуком в пространстве, ничего не разъясняя, никого не убеждая»{122}.
Лозунг разделения Церкви и государства, получавший во второй половине XIX века всё большую популярность на Западе, казался Победоносцеву нежизнеспособным, поскольку не учитывал абсолютной, всеохватной природы религиозных начал. «Церковь не может отказаться от своего влияния на жизнь гражданскую и общественную, – писал Победоносцев в статье, основанной на материалах еще одного западного автора, патера Гиацинта Луазона. – Чем она деятельнее, чем более ощущает в себе внутренней, действенной силы, тем менее возможно для нее равнодушное отношение к государству». Сам по себе принцип разделения светского и религиозного начал казался консерватору еще одним, наряду с политической демократией, примером логической абстракции, которая может быть приемлема для интеллигенции, но которой «не удовлетворится простое сознание в массе верующего народа», поскольку «жизнь духовная ищет и требует выше всего единства духовного и в нем полагает идеал бытия своего»{123}.
Скептически относясь к добрым свойствам человеческой натуры, Победоносцев в целом не слишком верил в возможность полюбовного размежевания между Церковью и государством. Последнее, по его мнению, было не менее, чем Церковь, склонно к расширению сферы своего влияния, особенно если отказывалось от своих религиозных основ. «Не свободы ищет государство и не о совести хлопочет, – заявлял будущий обер-прокурор, описывая события борьбы государственной власти против католической церкви в Германской империи. – Оно добивается, в свою очередь, преобладания и тоже хочет связать – с другой стороны – совесть верующей массы»{124}. Показательно, что в статьях, посвященных «Культуркампфу», Победоносцев с одобрением писал о действиях католической церкви, хотя в целом – по крайней мере со времен Польского восстания – относился к этой конфессии крайне отрицательно. Упорное сопротивление католиков натиску секулярного государства, полагал он, заслуживает уважения, так как в данном случае они отстаивают свое неотъемлемое право на духовную независимость, сохранение своих традиционных порядков.
Оценивая значение религиозного учения для общества, Победоносцев главной в нем считал проповедь смирения перед высшим началом, преклонения перед силой традиций, служащую противовесом легкомысленным социальным экспериментам, необоснованной страсти к реформированию. «Что выше меня неизмеримо, – заявлял Константин Петрович, – что от века было и есть, что неизменно и бесконечно… вот во что хочу я верить как в безусловную истину, а не в дело рук своих, не в творение ума своего, не в логическую форму мысли». Наиболее полно идеалы смирения и простоты, по его мнению, воплотились в деятельности русского духовенства, в религиозной жизни русского народа, сумевшего сохранить «понятие о Церкви как о народном достоянии и общем собрании, полнейшее устранение сословного различия в Церкви»{125}.
Еще в 1860-е годы будущий обер-прокурор писал о благотворном влиянии служителей Церкви на российскую провинцию – влиянии, которому в специфических условиях России трудно было подобрать замену: «Духовенство наше при множестве неблагоприятных условий для своего развития и при отчуждении от высших классов общества всё-таки является еще во многих местностях России едва ли не лучшим представителем умственного образования и интересов, особенно в сравнении с классом уездных и земских чиновников»{126}. Заслуги русского клира, утверждал Победоносцев, таковы, что заставляют мириться со многими его недостатками. Признавая, что «наше духовенство мало и редко учит», что зачастую лишь «служба церковная и несколько молитв… передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и Церковью», он, однако, утверждал, что, несмотря на все изъяны, «во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, неизвестно кем, алтарь неведомому Богу» – прежде всего, за счет житейской, социальной близости клира к народу{127}.
Высоко оценивая заслуги Русской православной церкви, Победоносцев в то же время признавал, что с точки зрения внешнего благоустройства ей далеко до западных конфессий. По его словам, если западный христианин (особенно протестант) обратится к русскому с предложением: «Покажи мне веру твою от дел твоих», последнему придется «опустить голову»: «Чувствуется, что показать нечего, что всё не прибрано, всё не начато, всё покрыто обломками». Протестантская же церковь имела право сказать о себе: «Я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум в соглашение с верой. Я освятила верой труд, житейские отношения, семейный быт, верой искореняю праздность и суеверие, водворяю честность и правосудие и общественный порядок». Силу католической церкви, по мнению Победоносцева, составляли «верные полки» служителей («как один человек»), которых она на протяжении своей многовековой истории рассылала «на концы вселенной». Однако подоплека этих успехов, по мнению российского консерватора, делала бессмысленными попытки переноса западных порядков в Россию. Так, блестящие экономические и политические достижения Англии, благополучное состояние англиканской церкви (а по большому счету и других протестантских церквей) основывались, по мнению Победоносцева, на возвеличивании глубоко чуждых духу русского народа и Русской православной церкви начал – на культе жизненного успеха, силы, на недостатке сострадания к падшим, тогда как русская душа никогда не примет «сродного протестантству ужасного кальвинистского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе, к спасению, к блаженству, а другие от века осуждены»{128}.
Победоносцев считал, что англиканская церковь, освятив сословное разделение и связав свою судьбу в первую очередь с верхами общества, оторвалась от простого народа, который начал искать правду в многочисленных «вольных» религиозных союзах, что вело к хаосу в религиозной, а в конечном счете и в общественной жизни. Применительно к Англии сановник не без изумления писал про «множество самочинных церквей, посреди ее (англиканской церкви. – А. П.) образовавшихся и отвергающих или проклинающих англиканское церковное учение»: «Необычайная пестрота мнений и обрядов соединяется с раздражением против верующих иначе, заставляет людей соединяться в отдельные места богослужения, производит ожесточенную полемику между партиями и учениями»{129}.
На этом фоне безусловно благодетельным казалось положение Русской православной церкви, служители которой «из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, ни в самых недостатках, с народом и стоят, и падают»{130}. Будущий обер-прокурор Синода считал чрезвычайно опасными попытки социально возвысить клириков, поставить их над народом под предлогом улучшения их материального положения, придания им, наподобие протестантских пасторов, более «респектабельного» общественного статуса. Потери от подобных посягательств на традиционный церковный уклад будут гораздо значительнее, чем преимущества, во многом иллюзорные. «Избави нас, Боже, – восклицал Победоносцев, – дождаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут князьями посреди людей своих в обстановке светского человека, в усложнении потребностей и желаний, посреди народной скудости и простоты!»{131} Те негативные моменты, которые были связаны с низким общественным статусом и плохим материальным обеспечением клириков, следовало исправлять посредством медленных постепенных мер в рамках существующей социальной структуры, но главную роль вновь должно было сыграть смирение, ограничение собственных потребностей. Вместе с тем в представлениях Победоносцева о желаемом облике Церкви и духовенства таилось глубокое противоречие.