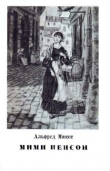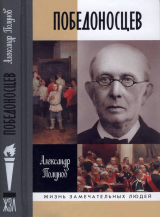
Текст книги "Победоносцев. Русский Торквемада"
Автор книги: Александр Полунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Выход в свет издания, подготовленного одним из самых высокопоставленных сановников Российской империи, вызвал значительный интерес общества. Несмотря на упадок реального политического влияния Победоносцева, для публики, слабо осведомленной о закулисных сторонах функционирования российского государственного механизма, он по-прежнему оставался могущественным «серым преосвященством», стоящим за троном и способным в одночасье посредством неожиданного вмешательства полностью изменить государственную политику. Книга, изданная от имени такого человека, казалось, давала ключ к пониманию идей, на которые опиралось правительство, позволяла провидеть ближайшие и отдаленные перспективы его деятельности. Неудивительно, что публикация «Московского сборника» стала если не сенсацией, то уж точно заметным событием общественно-политической и интеллектуальной жизни России. Уже через месяц после его выхода в свет, в июне 1896 года, Победоносцев отмечал, что первое издание разошлось и начинает печататься второе (всего до 1901 года книга выдержала в России пять изданий).

Значительный резонанс книга получила и за рубежом. Она была переведена на французский, немецкий (два издания), английский, сербский, чешский, польский языки, вызвала оживленную дискуссию в периодической печати и поток писем западных читателей Победоносцеву.
Сама структура «Московского сборника», последовательно, по главам, рассматривавшего фундаментальные вопросы государственного и общественного устройства, наводила читателя на мысль, что перед ним действительно нечто вроде катехизиса – сборник правил, всеобъемлющее руководство, которому государственные мужи должны следовать в делах управления. На страницах сборника критиковалась парламентская демократия как форма государственного строя, рассматривались вопросы взаимоотношений государства с Церковью, Церкви с обществом, организации народного образования, роль периодической печати и суда присяжных. Автор-издатель рассуждал о возможностях человеческого разума, пределах волевого вмешательства в исторически сложившийся общественный уклад; давал оценку свойствам человеческой природы, роли личности в истории и др. Сама манера подачи материала – «интимные и несколько импрессионистские заметки» (В. В. Ведерников) – казалась необычной и в глазах многих современников свидетельствовала об искренности автора, позволяла ему в общественной атмосфере XIX – начала XX века быстрее найти путь к читателю. «Это как бы листки записной книжки… – писал о «Московском сборнике» один из самых проницательных его критиков В. В. Розанов. – Все страницы одушевлены и чистосердечны именно как страницы дневника. Невозможно читать эту книгу и не заражаться ею»{494}.
Еще одной особенностью сборника, которую сразу заметили современники, было отсутствие четко сформулированного идеала – по крайней мере в политической сфере. Жестко критикуя утверждавшиеся в это время на Западе институты представительной демократии и давая ссылки общего плана на благодетельность самодержавия, обер-прокурор, по сути, уходил от ответа на вопрос, в каких конкретных формах должна была воплощаться рекомендуемая им система управления, как бы предлагая каждому читателю, познакомившись с материалами сборника, самому сформулировать такой ответ. Порой Победоносцев прямо указывал на это – в частности в отзывах на рецензии, посвященные «Московскому сборнику». «Как же не понять, где положительное, – писал он Рачинскому по поводу рецензии, принадлежавшей перу известного консервативного публициста Б. В. Никольского, – оно в коренных, известных идеях веры и разума»{495}.
И в «Московском сборнике», и в иных публикациях консервативный сановник предпочитал уходить от подробного теоретического разбора явлений, которые считал основополагающими для общественной и государственной жизни, в частности, самодержавной формы правления. Будучи глубоко убежден, что фундаментальные начала человеческого бытия вообще не подвластны рациональному осмыслению, Победоносцев считал бесполезным и опасным втискивать их в рамки той или иной теоретической конструкции, поскольку реальную сложность этих явлений всё равно не охватит ни одна теория. Подобную позицию он занял еще в 1860—1870-е годы и остался верен ей до конца своей политической карьеры. «Есть предметы, – писал он в 1874 году И. С. Аксакову, – которые – может быть, до некоторого времени – поддаются только непосредственному сознанию и ощущению, но не поддаются строгому логическому анализу, не чертят искусственной формулы. Всякая формула дает им ложный вид и – прибавлю – дает повод, с той или с другой стороны – к задним мыслям и недоразумениям»{496}.
Такой основанный на «непосредственных ощущениях» подход Победоносцев считал принципиально важным для себя, но при этом надеялся, что «Московский сборник» не просто привлечет внимание общества, но и станет предметом обсуждения. Собственно, в этом и должно было выражаться то влияние книги на общественное мнение, на которое Победоносцев рассчитывал. Бывший профессор, видимо, искренне верил, что российские читатели, познакомившись с ранее неизвестными им темными сторонами демократии и узнав, что эти темные стороны критикуются самими западными авторами, по-новому оценят достоинства и недостатки различных форм правления. «Наша молодежь, – писал он Тихомирову, – к несчастью, питается одной русской дребеденью и потому, гоняясь за призраками правды, воображает, что там, где парламент, не может быть ни негодных министров, ни взяточничества, ни фаворитизма, а у нас только есть. Увы!»
Будучи убежден в неоспоримости этих и других представленных в «Московском сборнике» аргументов против парламентаризма, сановный публицист внимательно отслеживал все отзывы на свое издание, считая, что они «очень любопытны и поучительны». «Невежество наших либералов всколыхнулось, – писал он по этому поводу Тихомирову, – умнейшие из них молчат, а прочие – кто в лес, кто по дрова – точно встретили какого-то дикого и странного зверя»{497}. Правда, и в 1890-е годы, и позже раздавались жалобы либеральных журналистов, что Победоносцев посредством цензурных стеснений ограничивал обсуждение своей книги. Однако, учитывая приведенные выше высказывания обер-прокурора, можно полагать, что вряд ли он сам отдавал подобные распоряжения. Если такие случаи и были, то, скорее всего, имело место «усердие не по разуму» кого-то из его подчиненных.
Высокий ранг сановного публициста, легенды, окутывавшие его личность, широта затронутых в «Сборнике» вопросов, необычная форма подачи материала, широкое использование западных источников – всё это привлекло к изданию интерес читателей, причем на Западе интерес этот был выражен даже ярче, чем в России. В личном фонде обер-прокурора, хранящемся в Российской государственной библиотеке, отложилось множество отзывов о «Сборнике» на английском, французском, немецком и чешском языках, которые собирал сам Победоносцев. Зарубежные авторы, изучавшие это издание, пытались найти на его страницах ключ к разгадке извечных тайн русской души, постичь корни русской самобытности и причины отличия России от Европы, в частности, понять, почему самодержавная форма правления, от которой давно отказались западные страны, продолжала существовать в России. Книгу Победоносцева, писала лондонская «Таймс», «должен тщательно изучить всякий, кто желает основательно осмыслить подоплеку распространенных в России течений религиозной и политической мысли». В целом «Московский сборник» был принят на Западе благожелательно. Авторы консервативного толка выражали согласие с российским сановником по целому ряду вопросов, и даже те, кто не разделял воззрений обер-прокурора, признавали, что он – человек убежденный, отстаивающий свою позицию по принципиальным соображениям. «Думаем, – писала английская «Дейли грэфик», – что вряд ли кто-либо из англичан, читая книгу Победоносцева, не почувствует уважения к учености, богатым дарованиям и, прежде всего, глубокой искренности этого выдающегося защитника российского самодержавия»{498}.
Безусловно, выход в свет «Московского сборника» вызвал взрыв энтузиазма и у большинства российских консерваторов, поспешивших дать ему самые лестные оценки. «Русский вестник» назвал его «без преувеличения… драгоценным сокровищем, о котором нельзя достаточно наговориться». Наиболее проницательные из консерваторов поняли суть задачи, которую поставил себе Победоносцев: подвергнуть критике западные политические порядки устами западных же авторов, снабдить своих сторонников аргументами в полемике против парламентского строя, – и поспешили заявить, что эта задача была успешно решена. «Эта книга – революционный манифест в области культуры, – заявил Б. В. Никольский. – Она предлагает не судить, а обороняться и гнать обратно мутные волны господствующих у нас учений. Русский ум вооружается в ней по всей западной границе»{499}. Был и еще ряд отзывов в консервативной печати, написанных в столь же возвышенных тонах. Однако оказать желаемое воздействие на российское и западное общественное сознание Победоносцев так и не смог.
Несмотря на все усилия Константина Петровича, в глазах значительной части общества – в том числе тех, кто все же не был склонен с порога отвергать приводимые им аргументы, – концептуальные построения «Московского сборника» и других его публикаций не выглядели убедительно. Сомнения вызывал центральный тезис Победоносцева о безнадежной испорченности человека, невозможности вверить ему хотя бы малую толику политической свободы. Чрезмерно упрощая реальное состояние дел в обществе, этот тезис, указывали критики обер-прокурора, основывался на слишком широких обобщениях и, по сути, являлся не более чем зеркальным отражением столь ненавистной ему мысли о безусловном совершенстве человека. Опираясь на этот тезис, невозможно было наметить сколько-нибудь широкую и долговременную перспективу государственной политики, кроме той, которая опиралась бы на совокупность «малых дел»; но этого в конце XIX – начале XX века было уже совершенно недостаточно. «Неужели… – вопрошал в рецензии на «Московский сборник» Розанов, – люди так глупы и непоправимо глупы, что могут только сломать себе шею, идя вперед? Неужели люди так дурны в обыкновенном и пошлом смысле, что если они хотят идти вперед, то делают это как злые и испорченные мальчишки, только с намерением дебоша… Автор как бы рассматривает всё худое в увеличительное стекло, а всё доброе в отражении вогнутого уменьшающего стекла»{500}.
И российские, и западные оппоненты Победоносцева обращали внимание на то, что его критика парламентаризма основывалась на вольных или невольных передергиваниях. Так, заявления о тотальной испорченности парламентариев, их неспособности думать ни о чем, кроме своекорыстных интересов, можно было убедительно опровергнуть ссылками на конкретные примеры – в частности на деятельность Гладстона, которого Победоносцев глубоко уважал и ценил. Российскому консерватору указывали, что критика парламентских институтов, широко распространенная на Западе, была нацелена главным образом на их улучшение и вовсе не означала призыва к отказу от них. Если кто на Западе и выступал за их ликвидацию, то не консерваторы, а социалисты, к которым, таким образом, обер-прокурор невольно примыкал. А либеральный журналист Л. З. Слонимский отмечал, что само по себе использование в «Московском сборнике» текстов западных авторов работало против Победоносцева – демонстрировало большую свободу и плюрализм западного общества, в котором можно было, находясь под властью парламентского правления, критиковать его, не опасаясь наказания{501}.
Эти и другие замечания, высказанные оппонентами Победоносцева, не позволяли надеяться, что его аргументы окажут значительное влияние на общественное мнение западных стран и либеральную часть русского общества. Но, пожалуй, самой серьезной проблемой для обер-прокурора стало нараставшее расхождение во взглядах с новым поколением русских консерваторов, в том числе с кругом «Русского обозрения» и других органов печати, на которые он рассчитывал опереться в рамках своей пропагандистской деятельности.
Проблемы во взаимоотношениях с консерваторами и органами печати, возникавшие у Победоносцева в 1890-е годы, были схожи с теми, которые были у него с Катковым и Мещерским. Обер-прокурора не переставали мучить сомнения в эффективности и допустимости традиционных форм газетно-журнальной деятельности, связанных с дискуссиями на политическую злобу дня, необходимостью отвечать, порой достаточно жестко, на возражения оппонентов. «Стоит прицепиться к газетной работе, – писал он Тихомирову, – чтобы распустить себя во все стороны и утратить досуг для сохранения себя на повседневной работе да еще – Боже сохрани – впутаться в раздражительную полемику, которая разъедает дух человека мелкой борьбой»{502}. Обер-прокурор не оставлял попыток найти такой вид газетно-журнальной деятельности, который давал бы возможность влиять на общественное мнение, избегая при этом «грязи» и «склок», характерных, по его мнению, для обычных форм существования периодических изданий. Как и раньше, в качестве рецепта он предлагал сокращение по мере возможности дискуссионного и злободневного элемента, наращивание нравоучительных и назидательных мотивов. Руководителям редакций рекомендовалось опираться на духовные материалы, публиковать рассказы о прошлом, биографии «скромных тружеников провинции» – рядовых священников, учителей сельских школ и др.
Дабы не ввязываться в дискуссии, получавшие в обществе громкий резонанс, а подчас и выявлявшие слабость аргументов консерваторов, нужно было, по мнению Победоносцева, с большой осторожностью затрагивать «горячие» политические вопросы. На практике это сводилось к рекомендации едва ли не полного молчания. «Берегитесь статей о голоде, – писал в 1891 году обер-прокурор С. А. Петровскому, преемнику Каткова на посту руководителя «Московских ведомостей». – Помолчите о Финляндии, помолчите также о патриархах и греках»{503}. Похожие указания в течение всего десятилетия 1890-х годов получали другие представители консервативной печати. Неудивительно, что у наиболее энергичных из них со временем подобные рекомендации стали вызывать едва скрытое раздражение. «Я лично вполне согласен хоть и совсем замолчать, – заявлял Тихомиров. – Только думаю, что сам вопрос не замолчит»{504}.
Взаимоотношения Победоносцева с консерваторами в 1890-е годы осложнялись и тем, что многие из них считали необходимым более четкое оформление основных программных пунктов консервативной идеологии, тогда как обер-прокурор в духе своих представлений о непознаваемости фундаментальных основ бытия по-прежнему считал это совершенно излишним. «Теперь… едва ли удобное время ставить на очередь тему о монархии, – убеждал он Тихомирова в апреле 1896 года. – Теперь на эту тему целый кружок ревностных не по разуму консерваторов предается самым диким и невежественным фантазиям». В ноябре того же года он крайне скептически оценил попытки Розанова «толковать о самодержавии и отыскивать «перл создания»{505}. Самим же Розанову, Тихомирову и другим представителям нового поколения консервативных общественных деятелей в преддверии политических бурь XX века проповедуемая обер-прокурором опора на «смутные образы» и «безотчетные ощущения» казалась совершенно недостаточной. В результате между ними неудержимо нарастали разногласия, а некоторые представители этого поколения (наиболее яркий пример – Розанов) даже перешли к критике Победоносцева и возглавляемого им ведомства.
Разумеется, далеко не все сотрудники консервативных изданий осмеливались идти наперекор воле обер-прокурора, всё еще имевшего влияние в верхах. Однако у тех, кто остался под его эгидой и руководил изданиями, на которые он пытался опереться в идеологической борьбе, безудержно нарастала апатия. «Удивительное дело, как наши редакции журналов плохо устроены – всё дело лишь в подборе сотрудников, а самой деятельности нет – и некогда», – писал обер-прокурор в 1895 году Тихомирову о «Московских ведомостях» и «Русском обозрении». Те направления деятельности, благодаря которым консервативные издания должны были стать действенными органами идеологической борьбы, так и не обрели прочной основы. Не было, в частности, систематического использования иностранных газет и журналов, на чем настаивал Победоносцев. Никто не откликнулся и на его призыв заняться сбором критической информации о светских начальных школах, чтобы защитить от критики школу церковную. Библиографический отдел «Русского обозрения» находился в хаотическом состоянии («кем-то надергиваются какие-то случайные отзывы о каких-то книгах и книжонках»). Ситуация становилась особенно опасной на фоне напористой деятельности оппозиционных изданий, ведшейся, как вынужден был признать сам обер-прокурор, умело и энергично. ««Русские ведомости», – писал он Рачинскому, – к несчастью, самая искусная газета… И нет таланта, кто умел [бы] побороться с ней»{506}.
Неудивительно, что в подобной ситуации консервативные газеты и журналы неудержимо клонились к упадку. «Жаль, что чахнут наши журналы хорошего направления, – сетовал Победоносцев в письме Рачинскому в сентябре 1897 года. – Нет людей способных и хозяйственных… Никто не умеет держаться на своих ногах, и все хотят жить и умеют жить только субсидиями»{507}. В результате «Русское обозрение» закрылось в 1898 году, влияние других консервативных органов печати тоже шло на спад.
В целом начинания Победоносцева на идеологическом поприще, предпринятые в последнее десятилетие XIX века, оказались немногим успешнее, чем его попытки воздействовать на правительственный курс и возродить те механизмы, на которых прежде основывалось его влияние. Здесь также всё постепенно свелось к критическому, негативистскому подходу, что еще больше способствовало закреплению за Победоносцевым репутации «бюрократического нигилиста». Однако этим дело не ограничилось. Попытки обер-прокурора «объясниться», обратиться к обществу посредством печатной страницы всё же оставили значительный след в сознании современников, заставили размышлять над взглядами и личностью обер-прокурора, а не просто подвергать его огульной критике. Пожалуй, ярче всего особенности восприятия личности консервативного государственного деятеля отразились в том «образе Победоносцева», который сложился на рубеже веков в русском общественном, в том числе художественном сознании.
Образ и личность
Одной из особенностей исторической судьбы обер-прокурора было пристальное внимание со стороны не только политиков и публицистов, но и представителей творческих кругов – писателей, поэтов, эссеистов, художников. Личность и взгляды Победоносцева в сознании современников как-то не «ухватывались» при помощи обычного научно-публицистического анализа; требовалось их художественное, образное осмысление. Примеры этого осмысления во второй половине XIX – начале XX века были многочисленны и связаны с именами, занимавшими первые места в ряду творцов русской культуры. Литературоведы до сих пор спорят, был ли Победоносцев прототипом Каренина и Топорова в романах Толстого «Анна Каренина» и «Воскресение». Однако его «вклад» в создание образа сенатора Аблеухова из романа Андрея Белого «Петербург» (1912) неоспорим. Обер-прокурор фигурировал под своим именем в поэме А. А. Блока «Возмездие» (1910–1921), стал героем целого ряда мемуарно-художественных эссе В. В. Розанова. Его портреты, созданные В. А. Серовым (1902) и И. Е. Репиным (1903), явились заметным явлением русской художественной жизни рубежа веков.
Почему же именно обер-прокурор привлекал к себе столь пристальное внимание представителей творческой интеллигенции Серебряного века? На какие черты личности знаменитого «русского Торквемады» они в первую очередь обращали внимание, какую трактовку им давали?
Представителям литературно-художественных кругов, встречавшихся с Победоносцевым, – а он, как отмечалось выше, был доступен для публики, с ним непосредственно общалось довольно много современников – прежде всего бросалась в глаза его необычная наружность. Его чертам чаще всего давали «зловещее» истолкование, которое в принципе должно было совпадать с представлениями о значении государственной деятельности обер-прокурора. «Бледный, как покойник, – писал о Константине Петровиче живописец Александр Бенуа, – с потухшим взором прикрытых очками глаз, он своим видом вполне соответствовал тому образу, который русские люди себе составили о нем, судя… по той роли, считавшейся роковой, которую он со времен Александра III играл в русской государственной жизни»{508}. Зинаиде Гиппиус глава духовного ведомства запомнился едва ли не как воплощение сверхъестественных сил: «…неизвестного возраста человек-существо с жилистой птичьей шеей и – главное (это-то меня и поразило) – с особенно бледными, прозрачно-восковыми, большими ушами». В этих ушах экзальтированной писательнице виделось «даже что-то жуткое»{509}.
От подобных впечатлений легко было перебросить мостик к художественным образам, в которых должны были воплотиться все самые мрачные представления о взглядах и деятельности обер-прокурора; и такие образы в художественной и общественно-политической жизни России были представлены в изобилии. Победоносцева очень часто сравнивали с летучей мышью, вампиром – ночным существом, которое обессиливает страну, оставаясь при этом в тени, встреча с которым не сулит ничего хорошего обитателям обычного, «дневного» мира. Такие уподобления были особенно широко распространены в карикатурах и памфлетах времени первой русской революции. В романе Андрея Белого в сюжетах, связанных с сенатором Аблеуховым – олицетворением бюрократизма, сковывающего своей властью живые силы России, – это существо часто появляется.

Для создания образа обер-прокурора в художественных и литературных произведениях использовалось еще одно ночное существо – сова, видимо, уже с оттенком боязливого почтения (эта птица – символ мудрости, пусть и носящий в данном случае зловещий характер). Задолго до Блока (в чьей поэме, как известно, «Победоносцев над Россией / Простер совиные крыла») к подобному уподоблению прибегнул Репин, при работе над картиной «Торжественное заседание Государственного совета» сознательно поставивший перед собой задачу усилить в облике главы духовного ведомства «совиные» черты. «Так совсем сова – удлинить очки»{510} – такую пометку, по воспоминаниям чиновника Л. Д. Любимова, оставил художник напротив фамилии Победоносцева.
Существа, ведущие ночной образ жизни, воспринимались в то время как воплощения сумрака, потемок, наступивших в стране, согласно распространенным представлениям, в начале 1880-х годов, после поворота правительственной политики к реакции («тень огромных крыл», «в сердцах царили сон и мгла»). С ними связывался и мотив всеобъемлющей, но неосязаемой тайной власти, что вполне соответствовало господствовавшим в обществе представлениям о Победоносцеве как всемогущем «сером преосвященстве».
Ночной мрак, с которым часто сопрягался образ Победоносцева, логично связывался с мотивом холода, снега или льда, замораживающего Россию до полного оцепенения. Эту реминисценцию использовали и Белый (в его романе дыхание таинственной летучей мыши – воплощения самодержавной государственности – «крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые острова»), и Репин. Последний при создании портрета обер-прокурора – этюда к картине «Торжественное заседание Государственного совета» – работал в особой манере: гладкое письмо, скользящие линии, серо-белые тона, подчеркивающие ледяную неподвижность, безжизненность облика портретируемого. Нередко обер-прокурор изображался не просто как воплощение ночной тьмы и льда, но и как выходец из потустороннего мира. В эпиграмме В. С. Соловьева он «Кащей», у Блока кладет «рукой костлявой живые души под сукно». Примечательно, что петербургская премьера оперы «Кащей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова в 1905 году завершилась скандалом – в финале представления публика устроила политическую демонстрацию, бурно приветствуя победу светлых сил над главным героем, отождествляемым ею с обер-прокурором{511}.
Частыми при изображении Победоносцева были также мотивы старческого бессилия, неспособности ничего сотворить («скопец от утробы» – из эпиграммы В. С. Соловьева), естественным образом внушить к себе любовь невесты-России, отданной ему во власть. Здесь сошлись воедино распространенная оценка политической деятельности обер-прокурора («бюрократический нигилист»), особенности внешности (он всегда выглядел крайне болезненным и изможденным, значительно старше своих лет) и обстоятельства его личной жизни (был женат на женщине намного младше себя и не имел детей). Всё перечисленное работало на отрицательную оценку Победоносцева и способствовало созданию образа, который после начала первой русской революции был широко растиражирован в многочисленных памфлетах и карикатурах.
Однако памфлетно-карикатурный подход всё же оказывался недостаточным для понимания личности Победоносцева. Общество так или иначе ощущало, что за начинаниями обер-прокурора стояло нечто большее, чем примитивно полицейские соображения, сознавало, что обычные обличения не помогут адекватно осмыслить то, что произошло в стране за 25 лет, связанных с политическим влиянием консервативного сановника. Наиболее проницательные современники не просто критиковали Победоносцева, а предлагали разгадку явлений, связанных с его деятельностью. Подобные искания отразились как в публицистических сочинениях, так и в художественных произведениях.
Обер-прокурор представал фигурой неоднозначной в первую очередь потому, что в своих действиях, как было ясно даже его оппонентам, руководствовался определенной идеологией, ставил перед собой некую сверхзадачу – пусть даже обосновывавшие ее идеи были совершенно неприемлемы для значительной части русского общества. «Выдающийся ученый и мыслитель Константин Петрович Победоносцев, – писал известный литературовед С. А. Венгеров, – занимает в рядах представителей нашего бюрократического строя совсем особое место… По уму, знаниям и дарованиям Победоносцев был головою выше всех бюрократов наших…. первый из русских бюрократов создал целую стройную теорию застоя и возвел в перл создания всё то, что исключает Россию из семьи культурных народов»{512}. Этим он отличался от «обычных», пусть и высокопоставленных чиновников, которые, выступая против расширения общественных свобод, просто защищали власть ради власти. Наличие в деятельности обер-прокурора идеологической и даже интеллектуальной составляющей, по мнению многих современников, как раз и давало ему возможность оказывать столь сильное влияние на русское общество, в целом не сводившееся к полицейским репрессиям и принуждению. «По его воле, – писал автор одного из посвященных обер-прокурору некрологов, – мы неуклонно шли назад, хотя все чувствовали необходимость идти вперед. Победоносцева считали злым гением России, но его логике, точно загипнотизированные, подчинялись все – и те, которые от него нисколько не зависели»{513}.
Если обратиться к художественному осмыслению подобных настроений, то стоит вновь вспомнить поэму Блока. Обер-прокурор предстает в ней не как воплощение примитивного насилия, а как фигура значительно более сложная: «волшебник», «колдун», который сумел подчинить своей власти «красавицу»-Россию с помощью магических, сверхъестественных свойств, которыми был наделен. Он очертил Россию «дивным кругом», «заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна», сумел усыпить ее «под умный говор сказки чудной». Россия под властью Победоносцева не умерла, но погрузилась в некий гипнотический транс: «затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти». Мотив засыпания, неподвижности, оцепенения, часто встречающийся и в публицистических отзывах об обер-прокуроре, и в рамках художественного осмысления его образа, безусловно, был навеян и его собственными сочинениями – теми их пассажами, которые воспринимались как идеологические манифесты самого Победоносцева и едва ли не всей самодержавной государственности. Многим читателям запомнилось то место в «Московском сборнике», где воспевалась «натуральная земляная сила инерции», которую «близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью»{514}. Безусловно, на пороге XX века мало кто из мыслителей осмелился бы выступить с подобными заявлениями, воспринимавшимися тогда как гимн полной неподвижности. Однако уже то, что консервативный сановник не побоялся обнародовать свою точку зрения, несмотря на ее явную непопулярность, если и не вызывало уважение к обер-прокурору, то по крайней мере привлекало к нему внимание.

Необычайная настойчивость и упорство в отстаивании своих взглядов на протяжении многих десятилетий – качества, в начале XX века уже нечасто встречавшиеся у высокопоставленных чиновников, – также вызывали интерес к Победоносцеву. «Все знали его за человека, абсолютно неподкупного ничем: ни деньгами, ни властью, ни честолюбием, – писал автор одного из некрологов. – Он знал только «идею», которой и служил до гробовой доски»{515}. В свете подобных представлений обер-прокурор, как ни парадоксально, для некоторых современников являлся воплощением не только слабости, старческого умирания и немощи, но и силы. У Блока Победоносцев властвует над Россией «рукой железной». В глазах некоторых литераторов-символистов обер-прокурор становился едва ли не самым ярким примером того типа «сильной личности», который играл столь большую роль в культуре Серебряного века. Так, в разговоре с издателем М. В. Сабашниковым Д. С. Мережковский, несомненно, по политическим взглядам далекий от главы духовного ведомства, называл его «эстетически и психологически ценным по своей силе явлением в нашем поразительном безлюдии», особенно важным при «бедности нашей в крупных характерах»{516}. Эти и другие замечания, свидетельствовавшие о неоднозначности восприятия личности обер-прокурора на рубеже веков, способствовали созданию сложного, противоречивого «образа Победоносцева», который занял значительное место в сознании современников, повлиял на последующие исторические исследования и стал неотъемлемой частью истории русской культуры предреволюционных десятилетий.
Западноевропейские современники, принадлежавшие к иным культуре и общественной среде, подмечали существенные детали личности Победоносцева, оставшиеся незамеченными соотечественниками. Само по себе внимание иностранцев к Константину Петровичу было важным и в определенной степени закономерным явлением общественно-политической и культурной жизни 1890-х годов: оно отражало, с одной стороны, усилившийся на Западе интерес к России, стремление разобраться в особенностях ее общественно-политического уклада и идейной жизни, с другой – всё еще бытовавшие представления о всемогуществе обер-прокурора. Своеобразная европейская «популярность» Победоносцева, безусловно, объяснялась и его активной публицистической деятельностью, изданием на Западе его сочинений, в первую очередь «Московского сборника». Совершенно необычное, интриговавшее иностранцев совмещение разных ипостасей – воспитатель двух царей, «серый кардинал» государственной политики, глава церковного ведомства, идеолог самодержавия – создавало впечатление, что, обратившись к Победоносцеву, можно получить ответ сразу на все интересовавшие западную публику вопросы: о «тайне русской души», причинах необычайной прочности самодержавной формы правления в России, о роли православия в жизни Русского государства и народа и т. п.