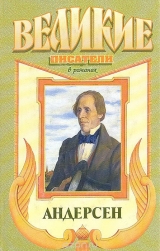
Текст книги "Сын башмачника. Андерсен"
Автор книги: Александр Трофимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
Рождались безжизненные строчки, он сам хотел зачеркнуть их, но было жалко, ведь они родились в таких муках.
Оставался дневник – наследник совести. Он заносил в него мельчайшие подробности страданий, маленьких событий, воспоминаний...
Он ещё не потерял охоту к чтению. Книги сопровождали его повсюду, и иногда ему казалось, что самое ценное в его жизни были книги и хорошо бы их все унести в могилу, чтобы перечитать на том свете. Ему представлялось, что он ходил по книгам, дышал книгами, беседовал с книгами, летал на книгах как на ковре-самолёте, пел с ними вместе, ездил на них в Италию, далее плавал на них по морю... Книги, а не звёзды светили ему по ночам...
Особенно хотелось перечитать произведения Эленшлегера в прозе. Его тянуло к Востоку. Он начал чтение детства с «Тысячи и одной ночи» и теперь изучал историю Магомета и историю Востока, словно мог отправиться в сказочные страны, в надежде раздобыть там сказки и для себя.
В конце зимы он бывал на обедах у знакомых, но больше молчал, чем говорил. А ведь было время, когда он не мог умолкнуть, даже если сильно хотел этого.
Но все знали – это молчит Андерсен. И рядом с его молчанием жить было сказочней.
Он обожал переписку. Сам рассылал множество писем и получал громадное их количество. Письма, как птицы в своих клювиках, приносили новости, сюжеты, песни. Расширяли горизонты его жизни. Он обожал их получать, распечатывать, с тревожным сердцем думать: что там, под твёрдой белизной конверта, свеженькая травка новостей или роза любви. Где они, те далёкие лепестки.
Он носил на груди, в кожаном мешочке, одно старое письмо. Оно грело его более других. Может быть, только его горячие строки до сих пор и согревали его. Нет, впрочем, нет, и голос Генриетты Вульф согревал его, и плавные шаги Луизы Коллин.
Письма продолжали литься рекой. Требовали и просили автографов, особенно из заграницы. В конвертах нередко лежали марки тех государств, откуда письма приходили, эти марки нельзя было наклеить, посылая письмо из Дании, это расстраивало Андерсена.
Просили денег. Присылали на просмотр стихи, которые не умели летать, безжалостную прозу.
Требовали навести справки, точно Андерсен был учреждением, международной организацией. Не стоило обращать внимания на все эти просьбы, но он расстраивался, что не мог выполнить их все, ведь это был долг перед его собственной биографией. Ведь если бы не помогали ему – что бы с ним было теперь? А ничего бы из него не вышло. Разве ему не помогали рекомендательные письма? Разве не рекомендательные письма открывали ему многие сердца?
– Эти письма меня доконают, – жаловался он. – Без меня у датской почты не было бы работы, – без юмора говорил он.
Своей тонкой кожей он часто принимал за обиду обыкновенную фразу и резко отвечал.
– Не обижайтесь на меня, – говорил он, понимая, что не прав. – Я скоро умру. Ещё немного.
И плакал после этих слов. Слёзы его всегда находились в боевой готовности и готовы были выступить на лице в любую минуту.
Чтобы оставить его в покое, знакомые и друзья выходили. Он оставался один.
– Ну вот, умирать оставили одного, – в сердцах говорил он себе, чувствовал в словах несправедливую злость и озлоблялся ещё больше.
Он поправлял плед и впадал в дрёму. Очнувшись, долго не мог понять, что сейчас: вечер или утро?
Но весной 1875 года в гнезде души запели птенцы стихотворений. Зацвели мечты о загранице. Она словно требовала его к себе. Разве Италия могла обойтись без своего старого обожателя?
Андерсен вспомнил прошлогоднюю поездку к Женевскому озеру, оздоровившую его. Он любил смотреть на карту и строить далеко идущие планы. Весной у путешественников вырастают крылья. Осень он хотел провести в Монтрё – хотя бы месяц, а зиму – в Ментоне. Он подсчитывал, во сколько обойдётся такая дорога, выходило дорого, но ведь его ждало здоровье. Было унизительно даже в конце жизни заниматься денежными подсчётами.
Он всегда снимал квартиру, не имел собственной, боясь, что она навсегда привяжет его к Копенгагену. Экономя средства на поездку, Андерсен рассчитался с хозяином квартиры, которую снимал, и, уложив свои вещи, отправил их к добрым знакомым на сохранение. Ветер странствий дул в паруса мечты.
Его ждала вилла Ролигхед. Две любимые комнаты на первом этаже. С веранды виден Зунд, морской ветер звал вдаль.
Даже этот маленький переезд трудно дался Андерсену. На вилле он тяжело поднялся по лестнице. Ему показалось, что это ступени в небо.
Красивая вилла любила его. Здесь был достойный уход. Более спокойного места для себя он не мог бы найти.
На земле не было места, где ему было бы лучше, душевней. Это был именно – дом. Дом, который защищал. Кормил. Пытался ослабить болезнь. И всё-таки он был безжалостно одинок. Одинок среди искренне любящих его людей. И эту корку льда – хотя была весна – ничто не могло прорубить: ни участие, ни любовь, ни поклонение, ни деньги, ни слава...
Последнее лето сказочника. Только оно у неё не выводило Андерсена в сад. Всё распустилось в саду, но для него омертвело... А сколько цветов пересадил сказочник в этот сад, надеясь, что хоть один одарит сказкой. Пересаживая, он приговаривал, гладя цветок по головке:
– Ты рос в лесу, а теперь будешь жить рядом со мной. Пусть твоя доброта поможет моему здоровью. Пусть лесная сила перельётся в землю сада.
Если бы он мог засадить всю землю цветами... Цветы – это гости из рая. Каждому цветку он находил только единственное место, и было такое чувство у цветов, что именно здесь они и должны были родиться.
Цветы с благодарностью смотрели на него и верили: посади Андерсен в землю даже сучок – тот прорастёт райским деревом. Посади звезду – вырастет небо.
Ещё поэт любил составлять букеты. Общение с людьми лишь дополняло дружбу с разноглазыми цветами.
Но уже и букетов он не мог составлять. Бедная бабушка когда-то радовала его по субботам такими славными цветами, принося их из госпитального сада. Она приучила его любить и понимать каждое растение, и цветы были настоящим богатством его нищего детства.
Руки Андерсена колдовали над букетом. Стебли то и дело менялись местами в поисках единственного места. Он так любил украшать своими цветами обеденный стол Мельхиоров. Он приносил их из сада, и свежее благоухание заполняло столовую, которая превращалась в оранжерею.
Цветы теперь приносили к нему в комнату. Иногда у Андерсена возникало чувство, что они приходили сами, не спрашивая, как приходят к единственному другу. Он был искренне уверен, что в каждом цветке есть своя история – ещё бы, ведь у них такая разнообразная жизнь. И друзья сказочника были цветами его жизни. Однажды он сказал одному из них, любуясь цветами в своей комнате:
– Как прекрасны эти созданья.
Перевёл дыханье и продолжал:
– Они привет из рая. Если бы здоровые люди могли понимать, как прекрасна земля. Какой гениальный архитектор Господь. Как чудно сотворил он каждый самый скромный цветочек. Вы преподнесли мне гениальный букет, он выдаёт ваше доброе сердце. Если бы я был женщиной, я бы поцеловал вас. Как хочется мне ещё пожить среди цветов и деревьев, чтобы смотреть хотя бы и на них одних. Даже если бы мне сказали – всю оставшуюся жизнь ты будешь любоваться только одним цветком, вот хоть ромашкой, я бы и тогда был совершенно счастливым человеком. Если бы я имел возможность осенью оживлять цветы, о, каким бы это было счастьем. Если слезинкой можно было бы оживить цветок! Я так жалею, что мало любовался в своей жизни цветами.
– Полноте, кто же больше вас любовался ими и ценил их. Цветник ваших сказок благоухает.
– Мало, мало, мало... Очень мало. Если люди не научатся любить цветы, они никогда не научатся любить друг друга. И всегда будут войны, даже через тысячу лет. Будут. Не смотрите на меня с такой иронией. Это истинная правда. Я чувствую, я знаю. Если бы только люди научились любить цветы, то ни одной войны бы не было, ни одной, вы слышите? Понимаете ли вы меня? Цветы могут спасти мир. Л мир придумывает мифы философии для своего спасения.
– Вам нельзя говорить так энергично, вы устанете.
– Да, вы правы, я устану... Но я и так смертельно устал. А ещё каждый цветок имеет свою музыку.
Представляете, – улыбнулся Андерсен, – каким странным наш разговор мог бы показаться посторонним людям, они приняли бы нас, в особенности меня – за сумасшедшего. Ещё бы! Мужчина любит получать в подарок цветы и счастлив от этого, как ребёнок. А замечали вы, как счастливы цветам дети? Оки знают их язык. Любить и понимать цветы: это счастье. Если обо мне когда-нибудь напишут после смерти, то поставят даты рождения и смерти, а как между ними втиснуть клумбы цветов, лесные поляны? Как, скажите вы мне... Как... Напишут о моей любви, славе, об учёбе, когда и с кем виделся. А моя душа в цветах. Я мечтаю, что найдётся человек, способный понять мою любовь к цветам и написать о ней. Разве люди поймут меня, если не будут знать мою душу. Ведь и сказки свои я писал ромашками, васильками, тюльпанами, всеми цветами радуги, заключёнными в цветах, всеми оттенками. Вот я люблю Эленшлогера. Люблю давней любовью. Перечитываю его. Но разве он оказал на меня влияние большее, чем ромашки, которые бабушка приносила мне в детстве? Как запутаны источники творчества, но они всегда, вы слышите меня, они всегда чисты.
Андерсен разволновался, хотя с ним никто не спорил, и гость со страхом думал, как сильно возбудился сказочник и как тяжело с такой психологией было жить среди людей, а не среди цветов. Но тут же поправил себя: Андерсен жил именно среди цветов, и даже к людям он относился как к цветам. И они доверили ему дар, сделали его сказочником, ведь в самом деле, разве человек по своему желанию может стать сказочником? На то воля звёзд, цветов, деревьев, птиц, рассветов, дождей. Да пожелай хоть один цветок, и Андерсен не стал бы сказочником, но он стал им, стал, стал, стал... Значит, каждое существо: звезда, цветок, дерево, птица, рассвет, дождь – доверили себя душе Андерсена.
– Если бы вернуть здоровье, – продолжал Андерсен. – Так хорошо чувствовать солнце. Как я хочу ещё пожить, хоть травинкой, только бы чувствовать солнце, внимать ветру, свободе, дождику. Сколько хорошего во мне втоптали в грязь, у другого бы руки давно опустились, а я выжил, сохранив цветы в душе; это многого стоит.
– Не нужно говорить о смерти, прошу вас.
– Я стараюсь не только не говорить о ней, но и не думать. Но во мне давно уже появилась какая-то трещина, она всё расширяется, и в эту трещину входят мысли о смерти. Я стал сердиться, обижать людей, а это грустно, господа...
– Ваши сказки благородны и учат только добру. Вы поправитесь и будете нести миру новое добро. Весь мир ждёт ваших сказок. Не смейте больше говорить о смерти.
– Я боюсь, боюсь смерти. Как я хочу умереть спокойно, во сне, не мучаясь, не страдая и не доставляя своими мученьями новых забот хозяевам этой прекрасной виллы. Как вы относитесь к смерти? Я смотрю на неё как на переход в вечность. Я уверен, что загробная жизнь продолжение земной жизни. Если человек не умирает, когда умирают родители, значит, он знает всем нутром своим – он встретится с ними в новой жизни. Если бы он не предчувствовал этого, то сразу бы ушёл вослед за родителями. Я так любил отца! Он умер, когда мне было одиннадцать. И что же? Я не умер от переживания!
Слова его уже набегали друг на друга. Порой он терял мысль. Он много сил отдал этой тираде, таившей сокровенные мысли.
– Нет, я хочу договорить, – сказал он, видя протестующий жест собеседника. – Мне нужно. Если загробная жизнь продолжение земной, то надо встречать её с большой радостью, это я и учусь делать, только не очень хорошо получается, – виновато улыбнулся больной. – Вот видите, чему учат сказочники, самые странные люди на свете. Стихи, музыка, любовь, сказки – письма из того далёкого мира, который мы называем загробным. Поэтому и музыка, и стихи, и любовь, и сказки понемногу приучают нас к будущей жизни.
Собеседник подумал, что никогда ещё у него не было столь откровенного разговора о смерти, и ему стало стыдно за себя, что он так часто откладывал подобные мысли в дальний ящик стола, а, между тем, они-то как раз и есть главные мысли и они всё равно ударят из-за угла...
Из раздумий его вывел голос Андерсена:
«Кто из живых и здоровых возьмёт на себя смелость судить о смерти?» – думал посетитель.
Хотя у Андерсена была уверенность, что он вот-вот умрёт, в минуты, когда мысль об этом исчезала, словно устав мучить его, приходила надежда на выздоровление, а с ней новая жажда перемены мест.
Недели через две он намеревался отправиться в поместье Брегентвед. Утреннее солнце вселяло в Андерсена уверенность, что если он проснулся сегодня, то проснётся и завтра. И по-прежнему брезжила надежда в сентябре отправиться в Монтрё. Чтобы укрепить свою надежду, он отправил в Монтрё письма с просьбой найти ему подходящую квартиру. Она была найдена.
Примерно за месяц до смерти Андерсен начал подготовку к пути: дорожный сундук заполнился необходимыми вещами. Две сотни визитных карточек заняли в нём почётное место. Каждая из них надеялась на знакомство с такой же визитной карточкой. Иные визитные карточки всю жизнь не покидают какого-нибудь городка, а другие видят весь мир, часто знакомятся с визитками-иностранками и женятся на них.
Андерсен любил отправляться в новое путешествие в новом белье. Оно было заказано. Новый дорожный костюм ждал его плеч. Глядя на виллу, приютившую его жизнь, он мечтал и о своей собственной вилле. Он хотел, чтобы для него по его указанию был выстроен дворец в мавританском стиле. Скульптура любимого выходца из простых людей – Торвальдсена и скульптуры лучших писателей человечества должны были стоять среди цветов и птиц в его грядущем саду. Андерсен был уверен, что в их благородном соседстве прекрасные новые сказки выпорхнут из-под его пера и совьют гнезда в сердцах детей и взрослых.
Этим мечтам не суждено было сбыться.
В июле был сильный ветер. Для Андерсена хозяева виллы Ролигхед устроили своеобразную палатку из ковров, чтобы ветер не докучал. Здесь, в кресле, он закрыл глаза, отдавшись на волю памяти. На голове его покоилась чёрная шёлковая шапочка. Ввалившиеся щёки подтверждали победу болезни. Жёлтая кожа не оставляла сомнений в скором конце её обладателя.
– Как хорошо жить... Боже мой, как я счастлив, что чувствую Тебя во всём. – Он говорил тихо, с трудом, будто только учился говорить, чувствуя первородный вкус слов. Всё медленнее текла кровь, было чувство, что это говорила именно она. Слово наплывало на слово. – Я плыву. Я вижу реку. В конце этой реки нет зла. Только счастье. Одно лишь вездесущее счастье. А весь мир как прекрасное стихотворение. Мир – мелодия на устах Бога.
День миновал.
– Попросите ко мне фру Мельхиор, – обратился он к слуге, перед тем как лечь спать. Наступал одиннадцатый час ночи.
Вскоре хозяйка виллы пришла к нему в комнату.
– Я не могу уснуть, в голове моей оживает новое стихотворение, – пожаловался он ей и взглянул детскими глазами, прося прощенья за то, что обеспокоил в столь поздний час.
– Вчера вы написали одно. Сегодня в вас рождается другое стихотворение. С вами будет всё хорошо, здоровье вернётся к вам вместе со стихами.
– Да, во вчерашнем стихотворении я отметил общность между Швейцарией и островом моего детства. Как прекрасна Фиония. Как я был счастлив в детстве.
– Запишите новые строки. Может случиться так, что вы забудете их наутро, – осторожно заметила фрау Мельхиор.
– Я не в силах записать их. Сделайте это за меня, пожалуйста.
– Да, сейчас, я готова.
Андерсен отвернулся к стене, чтобы сосредоточиться на возникших образах. Он начал диктовать. Каждая строка поднималась в его памяти с трудом, словно он доставал её со дна Колокольного омута.
Строка. Пауза. Строка. Пауза. Строка. Очень длинная пауза.
Так прошло шестое июля.
Андерсен продолжал вести дневник. В начале болезни газеты постоянно писали о состоянии его здоровья. Теперь они перестали об этом писать. Все привыкли к его болезни.
– Они забыли обо мне, – сказал Андерсен. – Они забыли обо мне. А я ещё существую!
Пятнадцатого июля те, кто были вокруг, могли услышать:
– Пусть все знают, что мне хорошо. Пусть не тратят сил на то, чтобы спрашивать о моей болезни. Пусть будут счастливы и не знают болезней. Когда-нибудь болезней совсем не будет. Там, куда я ухожу, болезней нет. Отец больше не болеет. Матушка больше не испытывает ломоты в костях. Бабушка ждёт меня с букетом цветов. А дедушка будет снова вырезать мне деревянные игрушки, и они оживут в том новом мире, где меня ждут. Хорошо как. Спасибо людям за доброту. Я хочу умереть в неизвестности. Чтобы никто не страдал обо мне. Самое спокойное – жить в неизвестности.
Дневник его хранил печать судьбы – почерк. Андерсен перелистывал его страница за страницей, боясь, что забыл записать главное.
Читал краткие записи, как бы сделанные и не им вовсе, а человеком, поселившимся в нём. Почерк был не его. Это писала болезнь. Но события жизни, точнее – лоскутки – были именно те, что происходили с ним.
Листку девятого июля он вверил: «Я получил сегодня из Парижа новое издание моих сказок, переведённых на французский язык, с подробными иллюстрациями; был очень обрадован».
18 июля: «Ночь провёл спокойно, находился в настроении духа фрейлин Бремер».
23 июля: «У умирающего так мало силы, что кажется, будто жизнь держится на самом крошечном нерве, а между тем, в таком состоянии просветляются мысли человека».
25 июля: «Я начинаю думать, что впадаю в сумасшествие, потому что перестаю различать новые монеты – талеры и кроны».
27 июля: «Провёл ночь хорошо, но очень, очень утомлён; едва мог просидеть часа три на веранде».
Теперь, лёжа на смертном одре, Андерсен вдруг вспомнил своё стихотворение «В минуту смерти», написанное в 1829 году, и он поразился, что намять ещё ему не изменила, и это доказывало правдивость его предчувствия собственной гибели. Смерть жила рядом с ним со времени ухода отца... Символом её стали Ледяница и Снежная королева. Он даже любил разговаривать с призраками смерти. Может быть, они и были по существу его единственными домашними. Ведь, живя рядом со смертью, так страстно понимаешь каждый солнечный луч, каждый цветок, каждого человека, каждую букву – носительницу чувств поэта. Это постоянное присутствие смерти давало возможность жить не теряя ни минуты на быт, который словно тянул его к гибели... И в этом избытке жизни вокруг, вызванном постоянным присутствием смерти, даже вещи становились живыми, ибо по существу-то рядом с ними, а не с людьми жил сказочник, и они приобретали более человеческие черты, чем многие люди, с которыми он общался. Этот перенос человеческих качеств на вещи был во многом вызван боязнью, что люди принесут обиды, горе, оскорбление... С вещами же он мог справиться. Чувства, дела и мысли вещей были ему понятны, словно он и сам был когда-то каждой из окружающих вещей. Он различал пение стульев и дыхание чистого листа бумаги, мировоззрение репейника вовсе не было чуждо ему. Сказать, что он был одиноким в толпе, значило бы оказаться неправым. В толпе он мог быть человеком толпы и в то же время сохранял себя совершенно отдельным наблюдающим человеком. Эта двойственность позволяла переносить человеческую психологию в мир вещей и растений. Даже и в старости в нём жила неиссякаемая детскость.
Теперь он умирал. И чувствовал, что умирал уже не однажды. Он часто представлял себя мёртвым. А потом, словно очнувшись от страшного сна, – рыдал. Он и теперь чувствовал приближение необъятного блеска, и мысль его смелей, чем всегда, устремлялась навстречу смерти. Какой-то новый, прежде неведомый блеск слепил его глаза. Это был не равнодушный свет – каждый его луч думал, страдал, знал обо всём, что творилось с ним, Андерсеном, во время жизни.
Забытое стихотворение выкристаллизовалось в нём. Он потрогал утренние розы. Казалось, что это стихотворение было такой же розой – подарком смерти, розой с небес. И в то же время оно было органом. Ибо он чувствовал его в себе. Такая уж редкая способность была в нём: чувствовать стихи и сказки в себе – как живых. Он ни с кем не делился этой особенностью. Однажды, на заре туманной юности, разговорился с Риборг Войт, но увидел равнодушие в её глазах, непонимание – и навсегда отказался от мысли, что его кто-то поймёт. Это и было причиной его бегства. Бог мой, сколько миновало лет с тех пор... Точнее – жизней... Вот оно, это стихотворение... Он как бы видел его насквозь, понимал всю его нервную систему...
В МИНУТУ СМЕРТИ (1829 г.)
Блеск вижу необъятный, и мысль смелей летит!
Свет, свет необъяснимый мои глаза слепит!
В усильях мощных духа поник я головой...
Свободнее на сердце, яснее мыслей строй...
И крылья, крылья воли, даны нежданно мне,
Несусь быстрее мысли к надзвёздной вышине!
В лазоревых пространствах мне звёзд не сосчитать!
И Божий лик я вижу... его не описать!
Бессмертье ощущаю во всём, в своей груди!
Весь мрак и все туманы остались позади,
И ясно познаю я сердца людей других...
Все немощны, все слабы, но нет совсем дурных!
О, если б можно было в сердцах людей читать
При жизни, здесь и раньше, чем станешь умирать!
Как знали бы мы ближних, чтоб всё и вся прощать!
Зачем же только в смерти дано нам познавать?
И вот я умираю... душа моя вольна...
Стремленья в ней и трепет... и мир и тишина!
Его психология была такова, что, рассказывая о предмете, он как бы сам становился этим предметом. Говоря о счастливых днях, миновавших безвозвратно, по тропинке слов-воспоминаний он как бы вновь проникал в детство, наполнялся его здоровьем и весёлостью.
Воспоминания становились всё дороже и дороже, думая о прошлом, он уже говорил как бы о другом совсем человеке.
Он варьировал своё прошлое, воспоминания менялись, но – как это ни покажется странным – всё, что он говорил, было правдой. Глаза его слезились, слова вспыхивали от воспоминаний. Вспоминая – он жил, переставая вспоминать – он существовал. Рассказы о прошлом видоизменялись главным образом оттого, что он не хотел переживать одни и те же воспоминания... Его прошлое видоизменялось, заменяя написание сказок, становилось сказкой. И Андерсену всё чаще казалось, что вся его жизнь – придуманная кем-то на небесах – сказка, именно сказка, а не роман или стихотворение. Ему пришло в голову, что жизни людей именно – то стихотворение, то сказка, то история, то новелла, то краткое юмористическое стихотворение. Он улыбнулся этому. Он теперь много думал по ночам, в одиночестве. Он добился главного места на датском Парнасе – и что? Стал ли он счастливее, когда рвался сюда по нехоженым горным тропам? Оказалось, что Кастальский ключ своей чудесной водой не излечивает от болезней... От этой ледяной небесной воды только сильнее ломило зубы. Его родная тётушка – Зубная боль садилась рядом и гладила по щеке своими неприятными костлявыми пальцами, так сильно напоминающими пальцы смерти. Иногда он плакал от воспоминаний, иногда смеялся. Он беседовал с воспоминаниями. Он хотел, чтобы к нему приходили герои его сказок, но они забыли о нём. Забыли об его отцовстве...
«Ах, мой милый Андерсен, – всё прошло, прошло, прошло», – еле слышно пропел он.
Сиделка очнулась от дремоты.
– Вы что-то сказали, господин Андерсен? – испуганно произнесла она.
– Нет, – раздражённо молвил он. Ему показалось, что он говорил вслух всё время и сиделка слышала все его мысли и про себя смеялась над ним и потом расскажет слугам о мыслях чудака. И все будут смеяться над ним! Ах, сколько раз они все смеялись над ним! – и он заплакал от обиды.
– Что! Что с вами? – проникновенно спросила сиделка.
– Ничего, – резко ответил он. На сиделке сконцентрировались его жизненные обиды, точно только она смеялась над ним всю жизнь – и сейчас он ненавидел её.
– Уйдите от моей кровати, – воскликнул Андерсен, – не смейте касаться моих простыней! – Он понимал, что несправедлив, но чем глубже осознавал он свою несправедливость, тем громче кричал и сильнее ненавидел сиделку.
Женщина разрыдалась и выбежала из комнаты...
Сиделка разбудила госпожу Мельхиор. Та осторожно приоткрыла дверь в спальню больного. Он чутко спал на высоких подушках. Почувствовав пришедших сквозь неплотный сон, Андерсен ожил.
– Отчего вы спите только на высоких подушках, господин Андерсен?
– Чтобы быть ближе к небесам, – пошутил Андерсен.
– Но это означает быть подальше от земли, – улыбнулась добрая хозяйка и тут же поняла свою оплошность. Она так хорошо знала Андерсена, что уже почувствовала его ответ:
– Я хочу быть ближе к небесам, потому что скоро умру и меня зароют в землю. Я хотел бы стать кормом для корней цветов, а не кормом для могильных червей. Но черви раньше доберутся до меня, чем корни роз.
– Что вы, что вы...
– Да, да, – Андерсен бессильно приподнял свою огромную руку, – посадите розы на моей могиле. На могиле отца вырос розовый куст. Я хочу, чтобы все розы мира пришли хоронить меня!
Фрау Мельхиор на минуту показалось, что эта рука тянется к ней из-под земли, и инстинктивно отодвинулась. Тут же ей стало стыдно за свой жест, и она придвинулась к постели больного ещё ближе, чем сидела прежде...
– Но знаете, – Андерсен сделал знак пальцами, давая понять, что не следует мешать ему высказаться: – Я бы хотел, чтобы меня похоронили на небе.
– На небе? – недоумённо произнесла госпожа Мельхиор.
– Да-да, именно на небе! – резко ответил он, боясь, что его не поймут даже здесь, в дружелюбной семье. – На небе, — медленно произнёс он, словно взвешивая на весах сердца, на весах облаков, на весиках ромашек каждую букву и отвечая не только за каждое слово, но и за каждую паузу...
На этот раз фрау Мельхиор сдержалась и не возразила... Она молча слушала, и в тот момент, когда он сказал о похоронах на небе, она поняла, что он скоро, совсем скоро умрёт. В сущности, перед ней лежал полумёртвый старик. И как жаль ей было сейчас, как страшно от мысли, что ни одна женщина из тех, о взаимности которых он мечтал, не захотела быть его женой, подругой, матерью его детей. И она ужаснулась, что невозможно исполнить его небывалую просьбу и похоронить его на небе, среди облаков, где в сущности – он и должен лежать...
– Извините, я надоел вам, – произнёс Андерсен загробным голосом. Он понимал сейчас, что не нужно было говорить всё то, что он говорил, но чем яснее он понимал это, тем больше ему хотелось жаловаться на свои страдания...
– Сиделка останется с вами до утра.
– Пусть будет за дверью.
Андерсен взял руку госпожи Мельхиор. Она была такая тёплая, живая, вечная... А его рука была неисправимо холодной и какой-то голодной до чужого тепла. Чужое тепло перетекало в его плоть.
– А когда-то моя рука была горячей... Положите, пожалуйста, вашу руку мне на лоб.
Фрау Мельхиор положила на его лобную кость горячую ладонь. Она почувствовала биение мысли сквозь эту крепостную преграду черепа... И на миг испугалась. На этот раз того, что мысли Андерсена о смерти перейдут к ней...
Андерсен почувствовал её волнение, а потом расшифровал его...
– Спасибо за участие... – вымолвил он. – Я скоро умру, и вы все обо мне вскоре забудете. Будут читать мои сказки, а сам я буду не нужен датчанам. Какой равнодушный, в сущности, народ...
Фрау Мельхиор осторожно вышла.
– Пожалуйста, не усните, – сказала она сиделке, вздрогнувшей при её появлении. – И больше не будите меня, – строго выговорила она...
– Что вы, госпожа, – ответила сиделка.
Фрау Мельхиор вернулась в спальню. Открыла пошире окно. Месяц внимательно смотрел на неё, понимая мысли, и ей стало стыдно, что один человек никогда не может посочувствовать другому, даже и очень близкому человеку, настолько, чтобы ему передались все страдания, все болезни того, кому сочувствуешь. О, как она захотела радостно жить теперь. Как остро чувствовала красоту жизни, красоту этой ночи, одушевлённость этого месяца, счастье завтрашнего скорого солнца. Ей даже показалось, что солнце вначале взойдёт в ней самой и только после этого покажется всем. И тут же она отдала себе отчёт в том, что это непривычное видение мира перешло к ней от Андерсена. Она не обрадовалась своему открытию, а испугалась. А если и болезнь Андерсена неясным науке способом перейдёт к ней или к кому-нибудь из членов её семьи? И она помолилась Господу, чтобы этого не случилось. Легла спать. Но не спалось, точно и бессонница Андерсена перебралась к ней осторожно. Она уже так хорошо знала любимца короля Андерсена, что научилась угадывать, что с ним творится за стенами. Она взяла со стола книгу его сказок и стала читать. И чем дольше она её читала, тем меньше понимала, как человек, который только что вёл себя как ребёнок, мог написать такие прекрасные строчки... «Русалочка» особенно нравилась ей. Сколько же здесь было смысла. Бездна смысла и бездна чувств! Это была сказка с несколькими входными дверями, как таинственный замок, и всякий раз, когда госпожа Мельхиор перечитывала её, она открывала для себя всё новое и новое содержание, слова оставались всё теми же, а смысл становился глубже и глубже. Эта сказка и сама была как море, в котором жила Русалочка, только в море сказки совершенно не было дна... И никак, совершенно никак невозможно было понять – как этот нелепый старик, застрявший в жизни, мог написать – такое. Но ведь именно глаза его увидели так, именно его рука вывела эти слова, нашла их в бездне человеческих страстей, человеческой пошлости и омыла их своими слезами и лишь после этого они стали принадлежать сказке. Он сам шлифовал каждое слово, подбирал их по цвету, тону, настроению, выравнивал в строчки, чтобы ни одно из них не выпирало, руша авторскую мысль. Андерсен писал быстро, но правил свои сказки долго... Нет, вдруг ясно поняла она, это писал не он – этот старик ничего подобного не мог просто-напросто написать, кроме остроумных стишков на случай, ему кто-то диктовал эти строчки, а он попросту записывал их... И выдавал за свои...
Эта мысль успокоила её – конечно, она права, писал не он... Но кто же тогда, кто же? И она ясно поняла – Кто... Сердце её замерло...
А Божественные строчки смотрели на неё и улыбались, как небо после грозы. Внезапно ока встала, набросила халат, выскользнула в коридор. Сиделка встрепенулась при её приближении как курица. Фрау Мельхиор приложила палец к губам. Сиделка замерла – она очень дорожила своим местом. Фрау Мельхиор вошла в комнату, где спал Андерсен. В ней было куда больше утра, чем в её огромной комнате, открытой солнцу и рассвету. На минуту ей показалось, что он уже умер. Не сразу фрау Мельхиор услышала его слабое дыхание, доносившееся будто с неба. Она наклонилась над автором «Русалочки» и поцеловала его в лоб. Она бы ничуть не удивилась сейчас, если бы на том месте, где она поцеловала его, вырос цветок. После чтения сказки она стала мыслить образами Андерсена. Ей сейчас мучительно захотелось, чтобы он ожил, выздоровел и писал прекрасные сказки, пусть живёт у них хоть ещё сто лет, но пусть пишет. И она поняла, какой же опустошённой была его душа, после того, как он перестал писать сказки. Он давал им жизнь, но и они вдыхали в него жизнь, это был своеобразный взаимообмен. И она поняла – он заболел и медленно умирал. Не от болезней и старости, а от отсутствия сказок.








