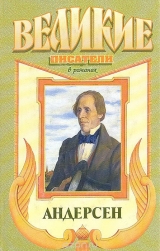
Текст книги "Сын башмачника. Андерсен"
Автор книги: Александр Трофимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
И СНОВА ШКОЛА
И мать снова отдала его в школу для бедных. Там преподавали Закон Божий, арифметику и письмо. Воображение часто уносило Андерсена из класса то к сюжетам Закона Божьего, то к берегу реки, где ждали его колеса водяной мельницы. Он стал писать свои собственные стихи и показывал их учителям. Преподаватели криво улыбались, глядя на его неуклюжие строчки. Мальчишкам он рассказывал о себе самые странные истории, и те не уставали над ним потешаться. Он был как пугало, над которым мог смеяться кто угодно. Но что делать – он не мог жить без слушателей, сочинительство становилось для него необходимостью.
Соседям не нравился уже этот зазнайка, рассказывающей о своих путешествиях в важные дома, где его принимали с распростёртыми объятиями. Их детям он был странен, а всё, что странно, воспринимается как объект для издевательств. Только наивные люди могут называть детство счастливым. Они забыли об унижениях детства, грубостях, непонимании. Детство – это постоянная война, в которой удаётся выжить, но можно остаться душевным инвалидом.
Ненависть к нему копилась в угрюмых детских сердцах, и однажды кто-то в ватаге ребят крикнул:
– Смотрите, друг важных домов идёт! – И вся ватага бросилась на него, и только его высокие журавлиные ноги смогли отчасти спасти его от уличных одногодков, для которых Шекспир был также далёк, как облако.
Едва вбежав домой, он разрыдался. Мать еле успокоила его.
– Ply что, что я им сделал? – негодовал он. – Я всегда держусь в стороне от драк.
– А ты не шекспирь! – строго сказала мать.
– А что это такое?
– Не рассказывай им о том, чего не было!
– Мне скучно, если я не сочиняю. Мне очень скучно.
– Тогда рассказывай мне и отчиму.
Андерсен только вздохнул: ему постоянно была нужна новая аудитория. Без неё ему точно не хватало воздуха. Но разве мать могла это понять? И он снова заплакал – маленький человек, которого всё более одиноким делало то, что он не мог не сочинять.
Сколько их, безвестных сочинителей, сгинуло в провинции, под неусыпным оком человеческой пошлости, скольких утопило вино, приняли в свои объятия дома для бедных и сумасшедших, сколько исчезло по доброй своей воле, оттого, что не было больше сил жить среди тусклой обыденности, так, будто нет ни травы живой, ни света живого, которым для всей жизни понадобится десяток-другой скучных слов, невыразительных, как пыльная дорога... Им памятником вставал какой-нибудь странный гений, похожий на розу, неизвестно как выросшую среди крапивных зарослей. Но, глядя на него, всегда помните – он памятник тем, кто сгинул, кто так и не подарил миру самых главных мыслей и чувств, без которых мир не может существовать счастливо.
Вскоре слёзы да сладкая молитва к Богу стали единственными друзьями Андерсена в жизни.
Андерсену шёл четырнадцатый год, мальчик рос, вместе с ним росла ненависть к нему со стороны соседей, мальчишек. Мать слышала только плохие отзывы о сыне и благодарила Бога, что он послал ей нового терпеливого мужа.
– Мария, твой сын скоро сойдёт с ума! – вещала одна соседка из прихода церкви Святого Кнуда, где они теперь жили.
– Почему? – недоумевала она.
– Посмотри на него. Он ничего не хочет делать в доме. Он ничего не умеет. Он только улыбается, сочиняет что-то, как сумасшедший, и точно также и поёт. Скоро тебе будет стыдно перед Богом, что ты вырастила такого сына.
– Но чем, чем он хуже других?
– Тем, что он не такой, как все. Однажды я слышала, когда шла на реку полоскать бельё, что он разговаривает с чёртом.
– Зачем ты говоришь эту неправду?
– Он и с колёсами водяной мельницы говорит! А всем известно, черти всегда на мельнице водятся. Излупила бы ты его хорошенько, он бы и изменился в лучшую сторону.
– Я не могу его бить, он мой сын.
– Эка, сын! Хоть сын, хоть дочь!
У Марии так и не находилось сил отбить у сына охоту к его образу жизни.
– Посмотри, – увещевала другая сердобольная соседка, – он мечтает о гимназии. Мыслимое ли дело для него – гимназия! А делать ничего не хочет! На суконной фабрике работать не стал! А мой сын там до сих пор работает – и ничего! И семье на пользу, и себе! Ой, Мария, не избежать тебе беды! Либо тюрьма, либо сумасшедший дом ждёт твоего неразумного сына.
Мария еле сдерживала слёзы. Почему её сына не любят? Даже – ненавидят. Ведь он такой непосредственный. Читает книги – но что в этом плохого? Если дети соседок книг не читают, то почему он должен быть и в этом как они. Почему у бедных больше проблем, чем у богатых? Почему на старой квартире к нему относились спокойно, а теперь иначе? Они не знали его маленьким. Она подумала о том, что она не выбрала времени, чтобы сходить с сыном в лес, который он так любил. И почему за мальчиком бегут эти дети улицы, если он странен?
Её мучили эти непонимающие взгляды соседок. Среди них её сын не выживет, не выживет, не выживет. Но куда ему идти, он не выживет и без неё.
Маленький Андерсен и Анн-Мари Андерсен подошли к берегу Оденсе. У мальчика сложилось впечатление, что река ждала их. Она радостно вздохнула, когда ладошка зачерпнула чистую воду и ребёнок умылся.
Мать стирала бельё и думала о своём. Её руки автоматически делали необходимую работу, она была сейчас животным, которое добывало корм семье. Каждый день люди ели и каждый день нужно работать. Её мысли всегда были сосредоточены на сыне и муже. Ребёнок рос таким нежным – как девочка. Его пушистые волосы словно звали к себе нежную материнскую руку, и она часто гладила его. Он прижимался к матери, и оба они стояли несколько минут как одно существо...
Река коснулась ноги Марии, зовя вернуться к тяжёлому труду. Мать глубоко вздохнула, отодвинулась от сына и снова наклонилась над рекой. Издалека могло показаться, что она то и дело кланяется реке, вымаливает у неё счастье для сына.
Андерсен некоторое время смотрел на мать, но зрелище это было так же привычно, как потолок над головой в комнате, где живёшь...
Но куда идти, если ты у реки – по рекам он ещё не научился ходить, и он побрёл вдоль пушистого берега, глядя, как волны одна за другой растворялись у берега с тихим поцелуйным чмоканьем. Мать разогнулась, хотела было крикнуть: «Не ходи далеко», но не стала этого делать, а, приложив козырьком ладонь к глазам, долго следила за сыном с такой тоской, будто он уходил навсегда, и она ничего не могла с этим поделать.
Сын гулял долго, но не нашёл себе занятия по душе. Когда он вернулся, глаза сами остановились на белье: он вспомнил картинку в книжке – парусник на воде. И он легко представил, что это вовсе не бельё, а части паруса, которые расчекрыжил ветер. А когда все части бывшего паруса выстираются, то мать сошьёт их и починит, и это будут паруса, на которых он навсегда уплывёт из Оденсе – по Оденсе в далёкие края, о которых с такой верой, что он увидит их, говорил отец. Они построят, построят лодку и уплывут туда, где ни он, пи отец, ни мать не будут работать... Сын будет учиться и рассказывать отцу о том, что узнал за день. А мать с восхищением заглянет ему в глаза и уснёт, заслушавшись рассказами, положив руку на ладонь, уставшую от оденсовских стирок.
КОРОЛЕВСКИЙ ТЕАТР
За год до его конфирмации в Оденсе приехала часть труппы копенгагенского Королевского театра.
Приехала мечта...
Всё в актёрах и актрисах было необычайно, в них был неоденсовский свет... Андерсен проживал в каждый день по два дня... Он был переполнен чувствами. Всякий жест копенгагенских артистов оставался в нём как праздник.
Пётр Юнгер отдал ему афиши, и он гордо развешивал их.
Добровольный разносчик афиш, Андерсен чувствовал, что театр начинается с него. Ах, эта госпожа Шалль, ах эта Шалль!!! Юнгер провёл Андерсена за кулисы, и – мальчик сам себе не верил! – он был там, где артисты готовились выйти на сцену, его восторженности не было предела.
Он скоро перезнакомился с артистами и впитывал их слова, заболевал их красочными одеждами, влюблялся в их слова и роли. Ему казалось, что это отец сделал кукол, они ожили и стали актёрами. Он дышал ими так светло, легко; он дышал самими людьми – актёрами, он дышал этими пьесами, которые слышал и видел, он дышал самим будущим, и в эти дни окончательно созрело в нём желание быть актёром, навсегда соединить свою жизнь с пьесами – отдать сцене свою жизнь, свой голос, своё сердце. Чистые порывы юной души находили полный свой выход только на сцене, в её врождённом чувстве справедливости.
– Андерсен, – звала сцена.
– Я пришёл, – отвечал он, выходя в массовке. – Я пришёл!
КОНФИРМАЦИЯ
А между тем подступало время конфирмации. Они жили в приходе церкви Святого Кнуда.
– К кому записываться на конфирмацию: к пробсту или капеллану? – спросил Андерсен у матери.
– Конечно, к капеллану. Ты же знаешь, что бедные записываются у него. И вообще, Ганс Христиан, пойми, наконец, что твои странности вызывают недовольство соседей. – Она помолчала. – Ненависть!
– Ну, и пусть меня ненавидят, я всё равно запишусь к пробсту. Перед Богом все равны!
– Но к нему записываются дети важных семейств и гимназисты. А ты ходишь в школу для бедных!
– Я не виноват в том, что я беден, я таким родился. И не говорю тебе, что это плохо. Я тебя люблю!
– Но ты становишься не таким, как все! Тебя хотят бить мальчишки. Если бы тебя догнали эти ребята на улице, они бы хорошенько расквасили тебе нос!
– Вырастет новый! – пошутил Андерсен.
– Ты забыл, как плакал!
– Разве я плакал?
– Да, ты плакал!
– Я часто плачу. А ноги у меня длинные. Пусть попробуют догнать.
– Я тебе сказала, не шекспирь!
– Я буду читать, как читал. И сочинять я буду.
И после этого разговора гадкий утёнок отправился записываться к пробсту.
– Почему ты не пошёл записываться к капеллану? – спросил пробст.
– Там бедные мальчики. Они ненавидят меня. Они надо мной глумятся.
– Значит, ты виноват, если тебя не любят мальчики твоего сословия.
– Нет, святой отец. Они просто не любят, когда кто-то не похож на них! Я читаю книги, они этого не любят.
– И кого же ты любишь больше всего из прочитанных авторов?
– Я люблю Хольберга. Его комедии.
– И только?
– Ещё я люблю Шекспира, – говорил расстроенный Андерсен.
В детстве, в Оденсе, Андерсена называли «маленьким Шекспиром» за то, что он пытался писать пьесы и, порой, декламировал отрывки из пьес английского гения.
– Вот как? А где же ты берёшь книги?
– Мне давала их вдова Бункефлод.
– Ну, хорошо, – только и сказал пробст, уверенный, что в конечном итоге Андерсена привело к нему непомерное тщеславие. Он уже слышал об этом мальчике, но не находил в нём ничего интересного: зазнавшийся бедняк, да и только. Но церковь должна быть одинакова в отношении к богатым и бедным. И пробст ощутил уважение к себе за эту мысль.
Возвращаясь от него, Андерсен жалел, что не сказал, как нравились ему гимназисты, ведь у них множество книг. Он глядел, как они резвились, но завидовал не свободе их, а книгам и возможности учёбы.
И теперь он мог попасть в их компанию. Как он мечтал занять место среди этих счастливцев! Тут бы не глумились над ним, и он бы спокойно читал стихи и не казался странным, и толпы гимназистов никогда бы не гнались с улюлюканьем за ним за то, что он бывал в важных домах. И конфирмация теперь давала ему хоть какую-то возможность приобщиться к ним.
Но всё-таки он оказался не на своём месте. С ним не общались. Он был из другого теста. Андерсен робел, терялся, уже жалел, что попал не к «своим», хотя своими для него были облака, травинки, кусты крыжовника и смородины на грядках.
Тендер-Лунд – единственная девушка, обратившая на него своё внимание. Она как бы почувствовала его страдание и всегда дружески смотрела на него, а как важен даже один одобрительный взгляд среди чужих, знает каждый из нас. Один раз она протянула Андерсену розу.
– Это мне? – растерянно спросил он.
– Да, тебе.
Дома эта роза светила ему сквозь темноту ночи, как свет из будущего.
Пальто умершего отца – вот и костюм для конфирмации. Как прекрасен был этот костюм. И наконец:
– Ганс, мы дарим тебе сапоги к конфирмации, – сказал отчим и достал замечательные сапоги, точно со страниц сказки.
Андерсен тут же стал их примеривать – это были его первые новые сапоги в жизни – ведь тринадцать полных лет это не так уж и мало.
Они пришлись впору. Два сапога – родные братья сразу же подружились с ногами Андерсена. Брюки – в голенища, чтоб все видели обнову – так и прошествовал Андерсен по церкви. Скрип сапог был огромен, и Андерсену это ужасно нравилось, приводило в полный восторг. Сапоги занимали все его мысли, если бы можно было так сказать, то они поселились в его голове и выселили оттуда всё остальное.
Придя с конфирмации, он был самым счастливым человеком на свете.
Он пересчитал мелочь, которую дарили ему по разным случаям: тринадцать риксдалеров. Да он ещё и богач? Сколько событий за один день.
Тринадцать риксдалеров Андерсен собирал шиллинг за шиллингом. Тридцать пять рублей по тогдашнему курсу. Ещё никогда он не держал в руках столько денег.
Мать мечтала, чтобы после конфирмации он пошёл учеником к портному. Она рассчитывала, что благодаря своим способностям ему не трудно будет научиться хорошо шить и содержать себя, потом обзаведётся семьёй и станет помогать матери. Она мечтала, что Андерсен будет как все. Не стал учиться на токаря, как посоветовал ему принц, пусть хоть станет портным – гордостью матери.
Тринадцать риксдалеров, собранных лично им, стали дорожкой в будущее. Что-то подсказывало Андерсену – если он не отправится в Копенгаген сейчас, он сгинет в этом приевшемся Оденсе, сгинет навсегда... Одна из характерных черт его жизни проявилась в этом решении: он всегда слушался внутреннего голоса и следовал ему.
И он твёрдо заявил матери о своих намерениях.
– Я поеду в Копенгаген!
– Нет, – сказала мать, – тебе там негде даже остановиться.
– Да с такими деньгами я проживу где угодно. Далее на луне.
– На луне ты, может, и проживёшь, а в Копенгагене – нет, – отвечала мать.
– Я знаю, что прославлюсь.
– Я никуда тебя не отпущу.
– Я всё равно уеду! – выкрикнул Андерсен, слёзы обиды душили его. – Сколько людей жили в бедности и прославились. Почему я должен жить в Оденсе, если могу уехать в Копенгаген?
– Ты мой сын. Кто будет со мной?
– У тебя есть муж. Я буду писать тебе письма.
– Только не плачь. Давай позовём гадалку. Она скажет, как нам быть.
– Давай, – внезапно согласился Андерсен, он был уверен, что сегодня всё у него хорошо получится, потому что такие счастливые дни определяют судьбу.
– Вот деньги, – сказала Мария гадалке. – Погадай нам на кофейной гуще и на картах.
– Деньги хорошие, и я погадаю хорошо, – сказала та, пряча сбережения Марии.
Гадалка что-то шептала про себя, раскладывая карты, долго смотрела на них, будто в далёкую страну, потом глядела на Андерсена, потом на его мать, наконец принялась говорить:
– Андерсен, ты будешь великим человеком. Ты будешь гордиться своим сыном, Мария!
– Ты не ошиблась?
– Нет. Карты не ошибаются. Они все знают о нашей жизни. Наступит день, когда город Оденсе зажжёт иллюминацию в честь своего гражданина Ганса Христиана Андерсена.
Мария улыбалась.
– Я хочу уехать.
– Что ж, если гадалка так сказала – уезжай! Я мешать не буду.
И она перекрестила сына.
И снова голоса соседей стали хватать её за рукава:
– Он же совсем ребёнок! Как можно отпустить его одного в огромный город.
– Но он покоя мне не даёт: хочу ехать.
– Это его чёрт туда гонит, Мария. Чёрт. Не разрешай ему уезжать. Не губи сына.
– А если я погублю его, оставив здесь?
– Здесь он выправится, станет как все, а там может ступить на плохой путь. И Бог тебя за это накажет, Мария.
– Он всё равно уедет. Даже если я его не отпущу.
– Задержи. Пусть станет портным, если не хочет быть башмачником. Только бы не уезжал. Если сможет устроиться в конторе с помощью важных особ, это будет как раз дело по нему, Мария.
– Я знаю этот город наизусть. Я уеду в Копенгаген! – твёрдо отвечал Андерсен.
В его словах есть уверенность. Вдруг он и вправду добьётся большего, чем его отец? – думала Мария. – Хоть и страшно в городе, но там есть его сводная сестра, там есть же хорошие люди. А здесь его не любят. А значит, заклюют.
Может, и вернётся с дороги, доберётся до Нюборга и вернётся, надеялась Мария Андерсен, но в глубине души чувствовала – он не вернётся. И сердце её болело.
«А нельзя ли попросить рекомендательное письмо к танцовщице Шалль?» – подумал Андерсен и отправился к типографщику Иверсену. Уже тогда Андерсен обладал поразительной способностью подходить к любому неизвестному человеку со своими просьбами. Странно, но это так: он не был нахален, но просьба его казалась ему столь важной, что он не мог жить, пока не разрешит её. Отчего, в самом деле, одному человеку не помочь другому, тем более, что зачастую это и ничего не стоит. Типографщика Иверсена Андерсен видел и прежде, зато тот никогда его не встречал. Летом в Оденсе приезжали актёры Королевского копенгагенского театра, и, порой, они, поражённые горящими глазами подростка, разрешали ему выходить на сцену то в роли пастуха, то пажа – в зависимости от действия. Это было событием его жизни, и случилось главное: не только он полюбил театр, но и театр полюбил Андерсена.
– Что вам угодно, молодой человек?
– Я уезжаю в Копенгаген и просил бы вас дать мне рекомендательное письмо к танцовщице Шалль.
– Могу ли я поинтересоваться, что молодой человек намеревается делать в столице?
– Я хочу её покорить, – отвечал Андерсен.
Иверсен присмотрелся к простоватому некрасивому лицу просителя: нет ли в нём иронии. Её не было. Маленькие, глубоко спрятанные глазки смотрели на Иверсена с горением, достойным того, чтобы на них обратили внимание.
– Вы полагаете, столица захочет видеть второго Наполеона?
– Я полагаю, что она хочет видеть первого Андерсена! – воскликнул молодой поклонник театра, ничуть не догадываясь о своей наглости, свойстве идиотов и гениев.
– Допустим, допустим, – растерялся типографщик Иверсен, уважаемый в городе человек. Он сейчас удивлялся, что прежде не замечал столь бросающегося в глаза молодого человека, считавшего основным своим занятием покорение столицы Дании.
– И что же вы думаете сделать с Копенгагеном, когда его покорите?
– Я отпущу его на волю, лишь бы прославиться!
– Но слава – это болезнь, от которой нет лечения. – Только тут Андерсен почувствовал доброжелательную иронию в старом человеке.
– Что ж, значит, я обречён...
– Для своего возраста и происхождения вы обладаете неплохой речью. Много читаете?
– Чтение – мой воздух.
Иверсен только покачал головой.
– И вы полагаете, что знаменитая танцовщица вас примет?
– Отчего же нет, если да? – Андерсен притворился дурачком, потому что эта долгая беседа начала его утомлять.
– Хорошо, я напишу это письмо, хотя признаюсь вам, что не убеждён в правильности вашей затеи. – И остро глянул на нищего простолюдина.
– Отчего же?
– В столице не принято приходить без приглашения к знаменитым людям.
– Но я тоже стану знаменитым.
– Отчего бы вам тогда и не попробовать заглянуть к госпоже Шалль.
Андерсен задумался:
– Нет, этот вариант мне не подходит.
– Мне ничего не остаётся, как сесть за стол, – вздохнул обречённо Иверсен. Он совершенно не знал, как вести разговор с этим странным молодым человеком, не желавшим считаться с правилами, выработанными обществом. Тем хуже для него!
От растерянности он написал быстрое письмо, наградив Андерсена несколькими вполне доброжелательными эпитетами.
– Надеюсь, моё письмо послужит интересам Дании, – только и сказал он.
– Верьте в это, – великодушно разрешил подросток. – Вы ещё услышите обо мне.
– И всё же я бы не советовал вам отправляться в столицу, там слишком много искателей славы.
– Я не затеряюсь среди них.
– Где вы всё-таки научились так разговаривать?
– Я читал романы, а они могут всё. – Без тени робости проговорил Андерсен, столь же лёгкий на язык, как и на подъем.
– На что вы будете существовать?
– У меня есть некоторые сбережения, это поможет мне на первых порах. Не пропаду.
– Дай-то Бог, – промолвил старый типографщик и дал понять, что разговор подошёл к концу.
– Благодарю вас.
Андерсен вышел, прижимая к себе драгоценную ношу – письмо к знаменитой танцовщице. Он был уверен, что произвёл сильное впечатление на старика, и был прав, тот всё повторял себе под нос, бродя по комнате и вспоминая удивительного гостя: «У меня есть некоторые сбережения, у меня есть некоторые сбережения».
Андерсен летел по дороге. Его тонкие, совсем ещё прозрачные крылья еле поспевали за ним, они ещё не могли поднять его в небо, но уже приподнимали над землёй, и дамы с удивлением смотрели вслед сыну прачки Марии: куда это он летит, уж не гонятся ли опять за ним мальчишки? Их не было – и всё равно они гнались, гнались за ним, потому что сердце навсегда запомнило их гон. Он убегал от старухи, которая посмела ударить его в школе, от Сары, пренебрежительно отнёсшейся к нему, от подмастерьев суконной фабрики, всё ещё поджидавших его, от богатых гимназистов, которым он был совершенно безразличен, – врождённое чувство собственного достоинства расправляло его крылья. Он убегал от всего этого города, где в лучшем случае ему была уготована судьба странного нищего.








