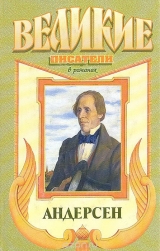
Текст книги "Сын башмачника. Андерсен"
Автор книги: Александр Трофимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
– Андерсен, вы согласны со мной или соизволите и на этот раз иметь своё мнение?
– Я согласен с вами, господин директор.
– Вы согласны внешне только или внутренне прониклись правотой этих слов?
– Я согласен и так и так, господин директор.
– Вы больше не пишете стихов? – Почему он вдруг вспомнил о его строчках приветственной песни? За что? Что его раздражило так сильно?
– Нет, господин учитель.
– Вы понимаете, что поэт – творение Бога, а не выходец из Оденсе?
– Да, я давно это понял.
– Вот как? Давно... И отчего же вы не поведали нам о своём решении? Вы бы подарили нам всем праздник! Правильно, дети?
– Правильно, – ожило от страха несколько голосов. Поняв, что им не грозит опасность, дети заулыбались, сбросив кольчуги страха.
Андерсен уже привык сдерживать слёзы, это удалось ему и на сей раз. Мейслинг тяжело вздохнул, будто пообедал Андерсеном, и блаженно откинулся на спинку стула. Он испытывал полное удовлетворение. Он любил эти минуты полного удовлетворения собой, когда преподавание как бы отступало, позволяло забыть о его, Мейслинга, обязанностях... Андерсен часто оказывался козлом отпущения. Но тут следует понять и Мейслинга, который не догадывался, кем станет Андерсен. Знания новоявленного гимназиста оставляли желать много лучшего. Как-то он рассказал жене Мейслинга, что по ночам обливается холодной водой, чтобы не уснуть и... овладевать новыми знаниями...
– Кем, кем вы собрались овладевать, господин Андерсен? – впервые поглядев на него с любопытством, спросила супруга Мейслинга, прижавшись к нему пьяным бедром.
– Знаниями.
– А как ваша хозяйка? – поинтересовался Мейслинг. Она не овладевает вашими знаниями? – с плохо скрываемой улыбкой спросил господин директор гимназии.
– Хозяйка весьма образованная женщина! – пояснил гимназист.
– Но знания-то у неё есть?
– Есть.
– И она помогает вам?
Андерсен совсем смутился, чувствуя непонятную подкладку разговора.
– Помогает! – ответил Андерсен.
– И хорошо, – внезапно похвалил Мейслинг. – Больше советуйтесь с ней по всем новым областям знаний.
Андерсену всегда казалось, что Мейслинг не пьёт спиртного. Но он глубоко заблуждался в этом отнюдь не поэтическом вопросе. Неудачи на литературном поприще как-то скукожили директора гимназии. Он был оскорблён тем, что его жалкий ученик пишет стихи, а значит, является соперником на ниве литературы. Не беда ещё, если бы он кропал стишонки для домашнего пользования. С кем не бывает, даже пожарные, случается, пишут стихи. Но Андерсен – и Мейслинг чувствовал это – смотрел на поэзию как на пожарище, он подвизался в театрах, знал сцену, артистов и был более приближен к миру искусства, чем он, Мейслинг, великолепно знающий язык и поэзию. Вот этих черт в Андерсене не мог стерпеть директор гимназии. Мейслинг был убеждён, что он лучший поэт Слагельсе, да и на фоне датской литературы выглядит вполне солидно. А тут слышишь со всех сторон – Андерсен пишет стихи, пишет стихи... И смотрят не на него: вот, дескать, ваш гимназист и вы – на одном пьедестале... Страх в учениках распалял его тщеславие. Семейная жизнь доказала, что мужчина произошёл от ребра женщины, а не наоборот, единственное место, где он мог выместить обиду на других, на жизнь, была гимназия, его вотчина. Да и какая разница этим маленьким баранам: их ругают дома, над ними издеваются и на улице, так что стерпят и гимназические упражнения директора. И действительно, ни один не мог снять с плеч поклажу издевательств.
Во всё время учёбы Мейслинг был главным сном Андерсена. Главным жителем его сердца. Он невидимо следил за всеми мыслями и чувствами стипендиата, вмешивался во все его чувства и суждения и отпугивал музу Андерсена, не позволяя ей протянуть перо своему воспитаннику. Это было время, когда Андерсен был уверен, что стихи, драмы – лишь случайны в его жизни, и после окончания гимназии, если это вдруг всё-таки случится, он уже никогда не коснётся бумаги жаждущим пером.
Андерсен подспудно понимал: нет защиты в Слагельсе. Как жить дальше, достоин ли он права учиться на королевскую стипендию, есть у него личные достоинства для права учиться? Обдумав всё это, он написал письмо инспектору Квистгору, спрашивая у него совета.
Инспектор мог понять отчаявшегося гимназиста. В двадцать три года он начал учиться. Андерсен посчитал – ещё позже, чем он сам. Это успокоило его...
Более всего Андерсен любил Закон Божий. Обожал он и писать сочинения, помогал в этом тем, с кем учился... Ему в ответ помогали по-латыни: обычная гимназическая корпоративность.
Коллину Андерсен писал просительные письма, где не просто делился своими мыслями, а обрушивал на него свои неприятности, выраставшие на страницах письма в мировые проблемы...
Только генеральные репетиции в театре сглаживали его существование в плену гимназии.
Среди нескольких учеников Мейслинг приглашал к себе в дом и Андерсена. Они играли вместе с директором и в оловянных солдатиков, и во что только не играли, к ним присоединялись дети Мейслинга, любившие гостей, и, глядя со стороны, никто бы не подумал, что в понедельник все эти люди встретятся совсем в иных играх: безжалостных и беспощадных.
Субботние вечера, которых Андерсен ждал всю неделю, приводили его к развалинам замка Антворсков... Этот замок воспел Франкенау, Андерсен любил его стихи, и задумчивая жизнь поэта влекла его вновь и вновь. И тут же приходила мысль о Мейслинге. И даже здесь, среди развалин замка, его преследовала мысль о директоре, казалось, он присутствовал в каждом камне и каждый камень был суров, как директор в гимназии.
Великая способность Андерсена – знакомиться со всеми, с кем он хочет познакомиться, проявилась в дружбе с молодыми супругами, жившими недалеко от замка. Его привлёк и маленький домик, и сад, и – главное – беззаботные улыбки мужа и жены. Он так любил такие улыбки, несущие радость всем, кого они касались.
Как любили здесь цветы! У Андерсена иногда возникало чувство, что домик был построен для цветов, – так много было их повсюду, а люди только случайно въехали сюда, чтобы ухаживать за цветами: холить их и лелеять. Этот домик был государством цветов, таким уютным, что если бы Андерсену сейчас предложили остаться тут до конца жизни, он, пожалуй, остался бы не раздумывая. Он поселил бы тут своих кукол и всё время ухаживал бы за ними, прогуливал в садике, каждый цветок пел бы для него свою нежную песенку, и птицы без страха залетали бы в открытое окно. Со временем и птицы так сильно полюбили бы комнатку, что, не боясь его, Андерсена, свили бы несколько гнёзд на крупных цветах, вот была бы радость, не то что гимназия с Мейслингом во главе.
В этом полюбившемся Андерсену домике с белыми стенами проживала прекрасная арфа. Она играла часто без ведома хозяев – так хорошо ей было в чудесном домике, хранителе покоя и счастья, духовности и красоты. Арфа была счастлива всегда. И когда хозяева куда-либо отлучались, она сама играла от грусти по ним. Однажды будущий сказочник слышал эту мелодию и пожалел, что не умеет записывать ноты: если бы он сыграл такую мелодию Мейслингу, тот никогда бы больше не посмел издеваться над ним!
Госпожа арфа тоже приметила господина гимназиста и блестела струнами от счастья, когда он приходил в гости. Молодая пара искренне полюбила Андерсена за его непосредственность и сентиментальность: в этом домике его скрываемые тщательно от Мейслинга черты торжествовали над пошлостью Слагельсе. А розы? Их было всего лишь несколько, и у них был такой вид, словно они не дети земли, а дети музыки, дочери арфы. Сам вид арфы внушал представление о благородстве, о возможности быть счастливыми на этой земле вопреки всем невзгодам. Теперь Андерсен понимал, как много мужества было у отца, когда он уходил от людей в лес, когда почти перестал разговаривать с соседями и никого не приглашал к себе. Андерсен ощутил, что отец не хотел общаться с пошлостью мира и потому вырезал кукол, читал великодушные книги и тосковал о несбывшейся учёбе в гимназии.
Андерсен вдруг представлял здесь, как среди робких цветов и улыбающихся молодожёнов появится Мейслинг со своим классным журналом и важно поинтересуется: «Опять, Андерсен, вы не выучили урока. Должно быть, писали стихи?» И он вздрагивал и выглядывал в окно: свободна ли дорога, нет ли там учителя в привычном сюртуке, гения оскорблений. Пустая тропка – она возвращала Андерсена к счастью, к арфе. Андерсен был уверен, что струны арфе дарит солнце, или луна протягивает им свои серебряные лучи, натягивает их и живёт музыкой... И если музыка торжествует надо всем, то жизнь сложится по-божьему, а если нет, то...
Обо всём этом он говорил супругам, когда они угощали его чаем и каждой своей улыбкой соглашались с ним, повторяя: «Ах, как жаль, господин Андерсен, что вы не можете приходить к нам чаще! Мы всегда, всегда рады вас видеть!» Услышит ли он более добрые голоса, более нежные струны, увидит ли ещё цветы, дарящие людям счастье, и людей, дарящих счастье цветам...
Он начинал думать о субботнем вечере обычно в среду, на последнем уроке, когда указка Мейслинга путешествовала в спёртом воздухе над головами усталых слушателей. Указка тоже была живая, и Андерсен думал, глядя на неё, что она никогда не смогла бы подружиться с цветами и арфой, а только разрушила бы их обоюдное счастье. И он старался не думать о счастливом домике и саде, чтобы Мейслинг ненароком не проник в его мысли и не похитил их или не оскорбил их насмешкой – паспортом своего ума...
Праздники Андерсен проводил у поэта Ингемана в городке Сорё.
Семья писателя дружелюбствовала к нему... Здесь отдыхал он душою и телом, было странно, что тут нет Мейслинга, злого символа педагогики.
– Терпите, терпите, – говорили супруги Ингеман в ответ на его страстные жалобы на Мейслинга.
Андерсен знал, что он будет терпеть, но когда он жаловался, то всегда думал, что ему сочувствуют. Сам факт выслушивания был для него актом сочувствия.
– Пишете ли вы стихи?
– Что вы, какие стихи? Если Мейслинг проведает, что я пишу стихи, он сделает всё, чтобы выгнать меня из гимназии.
– Вы, может быть, преувеличиваете, милый Андерсен? – нежно говорила супруга Ингемана.
– Он хороший филолог, – произнёс Ингеман и тут же наткнулся на ненавистный взгляд Андерсена.
– Он, гложет быть, и хороший филолог, но я не верю, что откровенно злой человек может быть хорошим учёным! – Ему было до слёз обидно, что даже здесь не верят ему. Хотя в доброжелательности Ингеманов трудно было сомневаться.
Воцарилось молчание.
– Прочтите свои стихи, – попросил Андерсен.
Андерсен любил слушать стихи в авторском исполнении. Он слушал Ингемана, а думал о том, что когда-нибудь и он будет читать стихи в большой аудитории, все будут ему аплодировать. Стихи, разве есть в мире хоть что-нибудь выше стихов и актёрского искусства? А чтение стихов автором и есть сочетание поэзии с актёрским мастерством...
Здесь было нежно, светло, безобидно, и Андерсен сказал себе, что непременно женится, чтобы и у него был такой же уютный уголок, семья, дети, чтения стихов... Ему не нужно было большего, сейчас в эпоху мейслингового унижения ему хотелось только покоя.
Господи, прости самоуверенных учителей! Особенно – директоров!
Понятна радость гимназиста, когда выпадал выходной и он мог посетить поэта Ингемана в великодушном Сорё. Если бы не было несколько местечек вокруг Слагельсе, то и Андерсена бы не было никогда. Это они помогли ему сохранить в себе родничок фантазии, полуостров свободы. Ингеман ещё в Копенгагене благоволил к восторженности своего юного обожателя. Теперь он читал лекции в гимназии, женился и молодой жене нравилось простодушие сына Оденсе. Для Андерсена их дом был частицей рая на земле. Лес обнимал уютный дом, любовавшийся своим отражением в озере, таким чистым и светлым, что Андерсен думал, что его питал Кастальский ключ. Любопытные виноградные лозы заглядывали в окна в поисках какого-нибудь замечательного событьица, чтобы поведать о нём траве, с восторгом интересующейся всеми новостями, происходящими в доме поэта.
– К поэту Ингеману пришёл поэт Андерсен, – говорили виноградные лозы траве.
– Вот так, вот как? – голоса травинок были совершенно одинаковые, потому что все они появились на свет в один и тот же день, в один и тот же час, даже в одну и ту же минуту...
– Они читают стихи? – интересовались травинки, вытягиваясь во весь свой детский росток.
– Нет, они едят, – непоэтично отвечала виноградная лоза и пыталась проникнуть листиком поглубже в комнату, чтобы разглядеть редкого гостя.
– Вот как, и что же они едят?
– Ах, какие вы любопытные, это, право, неприлично, вы отрываете меня от важного дела. Я потом вам обо всём расскажу.
– Нам хочется сейчас, нам хочется сейчас.
– Если вы не перестанете допрашивать, вообще ничего не узнаете!
Травка чуть пошелестела недовольно, но смирилась со своей участью. Ведь виноградная лоза всё видела и всё знала, она могла разговаривать не только с высокими окнами и крышей, но и с самим солнцем – сколько ни задирали травинки головки, они видели только подошвы, но те были удивительно неразговорчивы, будто не ходили по земле, а летали над ней – вот какие были важные! А подошвы поэта Андерсена ступали на траву нежно, прекрасно понимая – что она: живая.
И было отчего замолчать виноградным лозам: непривычные картины висели по стенам и не желали общаться друг с другом. Каждая несла свой мир и старалась отгородить его от родственниц. Книги...
Европейские писатели важно смотрели друг на друга, в полной уверенности, что человечество их никогда не забудет. Вид у каждого был словно у Гомера. Только Шекспир смотрел чуть в сторону от славы: ему было интереснее говорить с виноградной лозой, чем с сотрапезниками по перу. Он не хотел славы, он хотел хорошего вина.
А сколько цветов было в саду, сколько цветов. Какие благородные мысли исходили от них и подолгу гостили в голове Андерсена, не признаваясь в своём происхождении. Они открывали нежные губки и целовали воздух: так были они благодарны Богу за подаренную жизнь. Знаете, как появились цветы на земле? Их разбросали ангелы – добрые дети небес. Они росли из самого сердца земли, но не смотрели на траву, как на бедную родственницу. А у дуба взгляд был строгий, как у директора гимназии Мейслинга. Трава умела думать, но люди даже не подозревали об этом.
Полюбил Андерсен прогулки по озеру. Пела эолова арфа, породнившись с мечтой. Андерсен впитывал слова Ингемана своим поэтическим слухом. Неужели и он когда-нибудь сможет быть таким умным, талантливым, светлым – не представителем человечества, а продолжением цветов, облаков, звуков эоловой арфы; ведь поэт – всегда сын неба...
Движения его души находили отражение в глазах супругов Ингеман. Как замечательно, что Ингеман выбрал в жёны девицу Мандикс, лучшей жены Андерсен себе и не желал. Вот было бы замечательно, если бы жениться на её сестре! Его поэтическое сердце требовало любви.
Недели прекрасного лета Андерсен гостил в их прекрасном доме и становился частью природы; он подружился с каждым цветком и добрые облачка уносили его сердечный привет матери в Оденсе, а улыбки жены Ингемана вдохновляли его на проникновенные речи. Он с горечью думал, что если бы рос в такой семье, как семья поэта Ингемана, он бы не унижался своим незнанием перед Мейслингом. Дни лета он пил как драгоценную влагу. Розы из сада Ингемана улыбались ему и снились во сне. Он даже стал думать, что люди, праведно прожившие свою жизнь, возвращались вновь на землю величественными розами, и в каждом их цветке таится великий смысл, который никогда не поймут люди. И смысл этот может открыться только в сокровенные минуты, когда сливаешься с божественной природой, и не чувствуешь разницы между собой и цветами, озером, облаками, и понимаешь, что всё в мире сотворено из одного гениального божественного стихотворения, из одной материи. Вот в такие-то миги розы и могут поведать сокровенное, но не словом, не музыкой, а взглядом, нежным взглядом глубоким глаз. Ему хотелось уснуть среди роз, чтобы они поведали ему неземные сны, чтобы они помогли написать ему такие стихотворения, которые и Мейслингу было бы показать не стыдно: пусть умрёт от зависти. Пусть! Но тут же гимназист-поэт понимал, что даже если бы он прочитал стихи Ингемана, Мейслинг всё равно бы сказал, что не стоило рождаться на свет для того, чтобы писать подобные стихи. И улыбнулся бы своей змеиной улыбкой. Даже сейчас, в эти чудные летние недели каникул, образ Мейслинга преследовал Андерсена, не тревожил, а мучил. Гимназист чувствовал, что стихи невидимо парят в воздухе, нужно только уметь увидеть их. И королевский стипендиат молился этому.
Розы – спасали даже от Мейслинга. Каждый видел розу, но только единицам этот небесный царственный цветок открывал свою душу. Душа роз имеет чуткий цвет, и если цветок благоволит к тебе, то даст понять, что роза – это сконцентрированное небо. Наилучшие, счастливейшие, розовые времена лета – благоволения неба к земле. Чудные тёплые месяцы один за другим выплывают из недр вселенной, неся паруса тепла. Возьмите меня к себе, неимоверные недели лета, благословите меня вынести зиму, выньте вечный лёд из моей груди, растопите жизнь надеждой. Я люблю вас, госпожа Лето. Я так обожаю вас, что был бы счастлив, даже если бы вы одарили меня шипами жизни. Чуткие, высоковольтные шипы! Я отуманен и вашей своеобразной нежностью, ведь вы – предтеча бутона, хранителя лепестков. Я хотел бы поменяться местом с пчелой, чтобы попасть в хранилище ваших нектаров, великодушные розы, соблаговолите пропустить меня в светоносную вашу душу, дайте проникнуть в материю лепестков, высокочувствие бутона. Всю оставшуюся жизнь я хочу провести с вами наедине, символы райской жизни. Я ваш угрюмый сын, проводники тепла, носители неба на земле. В ваши лепестки укройте меня после смерти моей. Я хотел бы быть похоронен в огромном бутоне нежности – сказке бытия. Я ваш слабосильный ученик, во мне слишком много нежности, чтобы я стал проводником поступков, я стану носителем вашего завещания зиме. Когда суровым нитками снега земля будет пришита к небу, холод займёт все крепости тепла, я очнусь посреди зимы неимоверной розой. И это не будет смертью – а будет вещим проявлением жизни. Чтобы удостоиться права стать розой, нужно иметь не худшую душу на этом свете. Я не сын неба – я этого недостоин, но я сын розы, думаю я с гордостью, потому что никто и ничто и никогда не заставит произнести меня эти слова вслух, и я вдруг подумал: настоящий человек – значит, «бутон», ненастоящий – «будтон». Будто бутон, но не бутон... И наша жизнь – бутонированное пространство. Тоньше лепестков мои мысли о земле, выше крыльев стрекозиных. И я выхожу из тьмы жизни в свет бутона, и благословил бы розу за нежный характер лепестка. Мои страницы – образы лепестка, я бы хотел творить розу жизни и воспоминание об Андерсене сродни воспоминанию о розе, как о прообразе бытия на слабой земле. И что такое планеты космоса, как не розы, разбросанные высшей силой посреди темноты для произведения, для сотворения света.
Я люблю вас, Андерсен, свет датских роз...
Но даже лето кончается. Даже розы опадают. И возвращается снег – белый характер неба.
Во время учёбы в Слагельсе случилось с Андерсеном событие столь незабываемое, что впоследствии он вновь и вновь приникал к нему памятью, чтобы проникнуться истинным чувством смерти.
Я говорю о казни трёх преступивших закон. Произошло это около Скъэльскёра. История для преступного мира обычная. Достойная Шекспира, но увы, гениальный слуга небес любил страсти королевского масштаба, интересы простолюдинов редко падали на страницы с его благоухающе-благородного пера. Дочка разбогатевшего однодворца заставила своего возлюбленного убить отца, ведь тот противился их браку. Вдова убитого тоже была хороша собой, на ней рассчитывал жениться работник убитого, который стал участником преступления. Но дело раскрылось.
Казнь – вид развлечения. Один человек ещё может понять, что казнь – ужасна. Но для толпы – казнь это цирковое преступление, подарок, которым можно разбавить скуку каждодневного труда. Народ приник к зрелищу. О нём говорили несколько дней подряд перед казнью, и сплетни были главным гарниром казни. Если о казни и не поговорить, то зачем она нужна? Казнь есть праздник отсутствия души.
Старший класс гимназии был – о, праздник бытия! – освобождён от занятий и переселился к месту казни: лишь бы не уроки! Лишь бы не уроки! Да здравствует казнь! Палачи всех народов – соединяйтесь!
Ночь, ночь, ночь – мы идём по Дании. Спустя ночь – всего лишь ночь старший класс гимназии города Слагельсе оказался перед лицом-ликом – гримасой? – смерти.
Застава Скъэльскёра. Рассвет. Вот место драмы молодой души...
Почему в истории человечества нет ни одной казни за преступление против любви? За голое, так сказать, преступление против любви, когда нет законов, судящих окружение этого преступления, а не само преступление...
Человечество ещё не придумало праздника лучше, занимательней, прекрасней, чем праздник смерти. Смерть одного или нескольких так обостряет жизнь многих, если не сказать: всё! Увидеть смерть другого, значит, осознать свою собственную жизнь с неумолимой естественностью.
– Здравствуйте, люди земли! Смертной казни больше нет!
– Мы не желаем тебя слушать! Ты лжепророк! Уйди! Или мы распнём тебя!
– Дети, учитесь смотреть на смерть! Нет учителя выше! Нет знания глубже. Нет страха большего! Аминь!
Робкий Андерсен, переросток, великорукий! После Сорё – казнь!
– А что такое жизнь?
– Жизнь – это всеказние!
– Расстояние от жизни до жизни?
– Виселица.
– Казнить его за правильные ответы.
Такой диалог возник в возболевшем воображении нашего поэта, когда на восходе солнца он выбыл в иную жизнь, ибо человек, лицезревший казнь, равен человеку казнь принявшему. Или казнь совершившему. Ибо на весах высших энергий нет разницы между ними.
Смертная телега двигалась медленно и торжественно, она была уверена, что делает благое дело для людей – для тех, кто создал её. Телега вырастала на глазах Андерсена.
Девушка была поражена происходящим, её искренние глаза сияли от любви, и она не понимала до конца, почему её казнят за любовь, ведь любовь угодна Богу. Волосы её были так растрёпаны, будто хотели разлететься по одному. Её голова отдыхала от тяжких мыслей на широкой груди человека, которого любила она. Её хотели казнить люди, которые построили такие отношения в обществе, когда она не смогла выйти замуж по любви и должна была пойти на преступление. Вокруг стояли люди, принявшие этот закон, служившие нелюбви и смерти, она так хотела передать им свои последние мысли, но сил для этого не было у неё, только внимательный человек мог разглядеть её кроткий взор, слезами говорящий всё то, на что не способны были увядшие слова. За спиной возлюбленных растрёпанный работник тупо кивал знакомым, осознавая важность смерти, в его взгляде была звериная уверенность, что ничего с ним не сделают, потому что он прав, потому что все, кого он знал вокруг, были в точности, как он, и он – лично – был совершенно случаен на этой телеге, и любой из зрителей мог бы находиться на его месте, под тупо-восторженными взглядами. И я там был, кровь-воду пил, по губам текло, душе не досталось. И работники толпы хорошо понимали их взаимозаменяемость, взаимодушие.
Казнимых ждали гробы. Казнь – есть порождение цивилизации. Казнь есть мы...
Здравствуйте, госпожа казнь.
Священник сопровождал последний псалом казнимых. Голос девушки возрастал к небу, но оно возвращало её нераскаявшееся сопрано.
Гимназист Андерсен качнулся, его еле удержал товарищ его, сам с трудом вбиравший картины кончающегося бытия. Андерсену словно предстояло самому открыть дверь смерти, за которой исчезнут в аду обвиняемые, так смертельно он чувствовал предстоящий момент казни.
Ах, этот последний псалом бытия! Он паспорт в небытие или сочинение досужего монаха?
И вот свершилась казнь. Люди, которым дал жизнь Бог, лишили жизни других, таких же людей, которым тот же Бог дал жизнь, и чувствовали себя справедливо лишившими их жизни. От жизни до казни – один шаг, а обратно? И есть ли вокруг нас прошедшие эти пути? Или – прошедший этот путь?
Ожидание казни – страшнее казни. Казнь – легче жизни. Жизнь – продолжение казни. Казнь – порождение жизни. Паутина парадоксов, где без молитвы теряется истина.
Но истин нет. Есть их бледные копии, заверенные земной моралью.
Всё вокруг показалось Андерсену большим базаром, на котором торговали жизнью и смертью. И товар был равен в цене: платили кровью и за то, и за другое...
Это было одним из сильнейших воспоминаний жизни. Ещё бы – среди мещанства бытия вдруг возникло ощущение вечноприсутствущей смерти – охранного знака бытия. Он уже никогда не забудет этой казни, эпилептика, кивков работника, оскорблённые жизнью глаза девушки, псалом, священника, благословляющего смерть...
– Аз есть смерть, – сказала жизнь и улыбнулась, спрятав своё истинное лицо за лепестками роз.
Что – на этом фоне – записи из его дневника, который родился тогда и которому он поклонялся до самой смерти – вот они, листки, их так много, что они становятся строением жизни: пирамидой Андерсена.
«Господи, благодарю тебя!». Или: «Господи, помоги мне! – Сегодня такой ясный зимний вечер. Экзамены, наконец, прошли. Завтра узнаю результат. Месяц! Завтра ты осветишь или бледного, уничтоженного или счастливейшего из смертных! Читал «Коварство и любовь».
И так – страничка за страничкой. Лист за листом. Минута за минутой. Час за часом. И за всем этим – то ощущение казни как явления всемирного бытия. Невозможность сформулировать её значения для жизни и обидная, униженная жизнь гимназистика, нищего угрюмца, одиночника, отшельника мечты, молитвенника и праведника в каждодневной своей уничтоженности, кожа страха, кровь вперемешку с греческим языком, математика, перемешанная с преклонением перед Эленшлегером и Ингеманом, строгое лицо Мейслинга, наместника дьявола на земле, театр, как наследник Шекспира, утро – тюрьма знаний, церковь – сердце Слагельсе, кабак – рассадник мыслей, куда он не осмеливался заглянуть, взгляды женщин, которые могли сослать в преисподню, обыденные слова: крестовый поход тупости против мысли, гордость – атавизм цивилизации, случайное письмо Дон Кихота.
Но – дух дышит, где хочет. Сказка бродит по беднякам. Мечты невозможно обложить налогом.
Любовь рождается, как крапива, и значит, будут новые эшафоты. И каждый человек – посреди мироздания, иначе – его – мироздания – нет. Нет и всё, не спорьте!
Его дневник того времени, мягко говоря, – неинтересен, банален. По нему и предположить невозможно о грядущей поэтичности. Но и ответ легко найти: слово гения должно отлежаться. Оно должно натренировать мускулы в драме, стихотворении, разговоре. Слово должно возмужать, наполниться благородным соком зрелости, тогда и поэтичность восторжествует с неминуемой победой. Не к каждому слово приходит сразу же во всей своей многовековой красе, во всём солнечном и лунном блеске. Слова – есть плоть и кровь, а слово Андерсена – дважды кровь и плоть, и ещё оно пот, рабское и в то же время рабовладельческое отношение к листу чистой бумаги, у которого своя жизнь и которого приручить ещё труднее, чем дикого скакуна. И это не просто заезженный образ – эта правда, а правда никогда не бывает новой: она всегда стара – как солнце, как ветер, как листва. А ведь в пору начала дневника ему было уже целых двадцать лет!
При чтении банальных строк: «Четверг. Нечаянно оторвал ножку у паука. – Выдержал из математики. Господи, благодарю тебя!», трудно поверить, что это слова будущего гения. Остаётся предположить лишь одно: его поэтичность ещё не могла выражаться необходимым словом, и Бог ещё не дал ему слова. Господь думал: дать ли ему слово, и присматривался, присматривался к нему... Иногда Андерсен словно чувствовал этот взгляд потусторонних сил, невидимый мир словно касался его своим нездешним ветром, и тогда мысли его спутывались, рвались, и он в такие минуты с особенной силой делал заявления, которые можно назвать тщеславными... Они и были такими на самом деле, но это было чувство нездешнего ветра, который никто не мог ощутить, кроме него. В такие ночи он долго не мог уснуть. От мига к мигу он чувствовал жар в сердце, объясняя это чувством любви – не к конкретной женщине, но к женщине вообще.
В жизни каждого человека возможно счастье. Нужно иметь соответствующую натуру. В тюрьме можно испытать счастье от мгновения лунного света, в супружеском несчастье – думая о нерождённых детях, на том свете – думая о земле, на земле – думая о другой жизни... Нужно только иметь молекулу воображения... Родиться с жаждой счастья.
– Андерсен, вы слушаете меня или нет?
– Я слушаю.
– Повторите, что я сказал.
Андерсен молчит. Его длинные пальцы становятся короче со стыда, он чувствует это; его глаза уменьшаются и глядят из глазниц, как из бойниц; он так хочет перенестись сейчас в домик молодых супругов, но петля учительского голоса поднимает его к потолку, и он смотрит вокруг, надеясь на подсказку, но все молчат, зная, что подсказка наказуема, а Андерсена всё равно не оставит в покое господин Мейслинг.
– Извините, я прослушал.
– Хорошо. Извиняю в сто первый раз.
– В сто второй, – подсказывает чей-то услужливый голос с первой парты.
– Вот видите, даже в сто второй.
«Ну, почему Бог не накажет Мейслинга за его издевательства надо мной?» – вдруг вспыхивает правомерный вопрос, и Андерсен, нерадивый ученик, пугается своего вопроса и становится похожим на вопросительный знак.
– Садитесь, – смилостивился наконец Мейслинг, сам устав от своей страстной речи, и Андерсен садится на свой стул – точно попадает на неизвестный остров. Куда он отправился на этот раз?
Он испугался, что так нехорошо подумал о Мейслинге, и отправился к кресту Святого Андерса. Народ рассказывал, что он был священником здесь, в Слагельсе, но Гроб Господень призвал его поклониться себе. И в тот же день он отправился в путь. Дорога была полна тяжёлых приключений, но имя Господа спасало от всех напастей. В день возвращения домой Андерс так забылся в молитве, что корабль ушёл без него. Это расстроило священника. Выткавшийся из воздуха человек на осле позвал его взглядом. Священник уснул и проснулся в родном городе. На целый год опередил он корабль!
Андерсен молился у этого креста, думал об ангеле, помогшем Святому Андерсу, просил у Бога совета и проникался постепенно красотой, окружавшей его. Волновало, что здесь сидел в своё время поэт Баггесен. Всякое место уже тогда он привязывал к поэзии, к её высоким струям, парящим над полюбившимся местом. Отсюда Баггесен, учившийся в этой же гимназии, мог видеть свой родной Корсер, а Андерсен, как бы ни старался, не разглядит за туманами ни свой родной Оденсе, ни Копенгаген... Ах, если бы, ах, если бы... Он так хотел, чтобы и перед ним оказался Ангел Господень, и пригласил его на своего осла, и помог добраться к Гробу Господню, чтобы принести свою многострадальную и в то же время радостную молитву. Андерсен даже оглянулся по сторонам, чтобы не пропустить ожидаемого всей душой момента, но вокруг было пусто, только туман, вездесущий туман о чём-то напряжённо думал, пытаясь понять о земле что-то, чего он вовсе не знал. Молодой поэт думал вместе с туманом и ушёл с заветного места, только когда стало темнеть и обратная дорога обещала вездесущую ночь, хранительницу злых людей. Он ещё раз перекрестился и отправился в обратный путь, и у него было такое чувство, когда он спускался вниз, будто он оставил свою душу у креста Святого Андерса.








